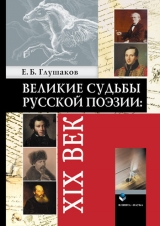
Текст книги "Великие судьбы русской поэзии: XIX век"
Автор книги: Евгений Глушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ЭПИГРАММА
Поверьте мне, Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
«Не должно красть: кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед Богом;
Не надобно в суде кривить душой,
Нехорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!»
Ну что ж? Бог с ним! всё это к правде близко,
А может быть, и ново для него.
К творчеству трёх современников Пушкин относился особенно ревниво, не позволяя в своём присутствии хоть сколько-нибудь их критиковать. Это – Дельвиг, Языков, Боратынский. Ну а сам Евгений Абрамович мыслил о себе весьма скромно, при этом понимая, что за великий гений живёт и творит рядом с ним. Вот одно из его молодых обращений к Александру Сергеевичу: «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами». Думается, что это напутствие, если и не вдохновило Пушкина на создание стихотворного романа «Евгений Онегин», то, по меньшей мере, поддержало в работе над ним.
Разумеется, и сам Боратынский не избежал влияния со стороны своего гениального друга. В частности, именно после «Повестей Белкина» взялся он за прозу и в 1831 году окончил «Перстень» – свой единственный эксперимент в повествовательном жанре. Однако в целом Евгений Абрамович был очень и очень оригинален. Недаром Пушкиным было сказано, что Боратынский «никогда не тащился по пятам увлекающего свой век гения, подбирая им оброненные колосья; он шёл своею дорогой один и независим».
Этим «увлекающим свой век гением» был, разумеется, не кто иной, как Жорж Гордон Байрон, воздействия которого не избежал и сам Пушкин, а позднее Лермонтов. Во власти величайшего поэта эпохи романтизма оказался и Мицкевич. Именно к Мицкевичу обращено стихотворение Боратынского:
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!
Боратынский не был плодовит. Может быть, по той причине, что возможность высказать себя в дружеской беседе нередко делала излишними поэтические излияния перед читающей публикой. Но как прекрасны, исполнены оригинальных мыслей и живого чувства были эти беседы, знали только немногие счастливцы. Увы, стихи всегда бледнее этих непосредственных проявлений личности всякого подлинного поэта. Боратынский – не исключение. Склонность же его к дружескому общению, к импровизированному обмену мыслями определённо роднит Евгения Абрамовича с другим великим, с другим русским поэтом-философом – Тютчевым.
В 1832 году Боратынский продал Смирдину полное собрание своих сочинений. И через три года оно вышло – «Стихотворения Евгения Боратынского» в 2 частях. А затянулось издание в связи с доработкою текста. Будучи требователен к себе, автор редактировал даже уже появлявшееся в печати. Тормозила выход книги и пересылка корректур, поскольку печатанье шло в Москве, а сам Евгений Абрамович проживал в эту пору в Маре. Однако же как не отделывал свои произведения мастер, публика, да и критика не сумели проникнуться их совершенством.
Не исключено, что творческое восхождение художника даёт эффект, противоположный желаемому: чем выше он поднимается, тем более и более удаляется от обывателя и всё менее и менее понятен ему. Встреченный триумфально в начале поприща, Боратынский, как и Пушкин, изведал равнодушие читателей к своим зрелым стихам. Общая участь всех великих. Впрочем, и самих творцов их собственный индивидуальный поиск разводит столь далеко, что и они оказываются порою бесконечно чужды друг другу.
Хорошо Александру Сергеевичу – его поэтическая Вселенная, кажется, была способна вместить всё и всех – от Гомера и Шекспира до детской писательницы Ишимовой и кавалерист-девицы Дуровой. А вот Евгений Абрамович, творчески разминувшись с Пушкиным, не сумел оценить «Евгения Онегина» и посчитал его подражанием байроновскому «Чайльд Гарольду», до неприличия хохотал над «Повестями Белкина», не чувствовал прелести пушкинских сказок.
В 1836 году, после смерти тестя, на Боратынского наваливаются хозяйственные заботы всего семейства Энгельгардтов. Постоянные разъезды из имения в имение: и в Тамбовскую Мару, и в Тульский Скуратов, и в Глебовское под Владимиром, и в Казанские поместья – Алтамыш, Каймарак, Вознесенское. Заклад и перезаклад имений, займы, расчёты с кредиторами и опекунским советом, контроль за управляющими, их назначение и смещение.
Всё это отвлекало от литературы и лишало покоя, столь необходимого для глубоко прочувствованных элегий и философской лирики. Ведь мудрость хоть и порождается пережитыми страданиями, но появляется на свет уже позднее – в период праздности и безделья, как светлый умиротворяющий взгляд в прошлое. А тут не то что писать, но и задуматься о жизни стало некогда.
Гибель Пушкина, последовавшая в январе 1937 года, оборвала последнюю – самую сердечную, самую кровную связь Евгения Абрамовича с миром поэзии, так полно и дерзновенно олицетворяемой его великим другом. И как слабое утешение в горестной потере Жуковский, разбиравший бумаги умершего, счёл необходимым познакомить Боратынского с восторженными отзывами Александра Сергеевича о его творчестве, так и оставшимися в черновых набросках ненаписанных статей.
К концу 30-х Евгений Абрамович равно отдаляется от западников и славянофилов и вообще от литературной жизни. А в отместку – нападки из обоих лагерей. Отдаляется он и от Ивана Киреевского. Под каким сильным воздействием этого образованнейшего и умнейшего человека поэт находился, видно из сохранившихся писем Боратынского к нему. Их более полусотни, но все они датированы 1829–1834 годами. Хуже всего, что теперешняя жизнь деятельного помещика и главы семейного клана была едва ли не отвратительна прирождённому поэту и философу.
ИЗ А. ШЕНЬЕ
Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо моё утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую её, покой её люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Моё грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Всё обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.
С того времени, как Боратынский вышел в отставку, он оказался в стороне от всякой общественной жизни и её интересов. «Муж-мальчик, муж-слуга из жениных пажей – высокий идеал московских всех мужей…» – нет, это не про него написал Грибоедов. И всё-таки разве теперь он не принадлежит семейству Энгельгардтов всецело и безраздельно? Ещё более погрустнели и потемнели краски его стихов. И до чего же редко они теперь приходят ему на ум, как правило, занятый хозяйственными расчётами и прочей деловой суетой.
В эту пору поэт мечтает о поездке в Германию, о встречах с учёными мужами Европы. Мечтает об Италии. Но – материальные трудности. Не набирается денег даже для летнего отдыха в Крыму. А вот на посещение Петербурга в конце января 1840-го хватило. Встретился с братом Ираклием, сделавшим военную и политическую карьеру и достигшим отцовских высот – генерал-лейтенант и сенатор! Увиделся с литературными знаменитостями, что уже давно числились у Боратынского в друзьях; познакомился и с Лермонтовым, отметив в молодом поэте явный талант, но не почувствовав к нему ни малейшей симпатии.
Побывав на художественной выставке, пришёл в восхищение от картины Брюллова «Последний день Помпеи». «Всё так же прелестна» – это уже впечатление от вдовы друга – Натальи Николаевны Пушкиной, промелькнувшей в одном из великосветских салонов. Общий результат: подумывает перебраться в Петербург, но опять не хватает денег.
Осенью 1841 года Евгений Абрамович по собственным чертежам строит в Мураново новый дом. И была им спроектирована удивительная комната для занятий с детьми, окна которой располагались… на потолке! Это чтобы по сторонам не глазели, не отвлекались. Дети, не сумевшие вполне оценить остроумный замысел, называли свою классную комнату «тужиловкой». Но «строгий архитектор» был, нужно отдать должное, мягким воспитателем.
Последние годы поэт писал мало. В 1842 году вышла тонюсенькая книжечка «Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского». На этот сборник, исполненный надличностной всечеловеческой скорби, читатели не обратили никакого внимания. Однако «Отечественные записки» весьма уважительно сообщили о его выходе. А вскоре там же появилась большая статья Белинского. Если книгу, изданную Евгением Абрамовичем в 1835 году, Виссарион Григорьевич встретил весьма неодобрительной критической рецензией, то теперь, полностью пересматривая своё отношение, называет Боратынского «поэтом мысли» и заявляет, что «из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место, бесспорно, принадлежит Баратынскому».
Осенью 1843 года Евгений Абрамович вместе с женою и тремя старшими детьми наконец-то отправляется в Италию. По дороге посещает Германию, зимует в Париже. Многое видит, со многими беседует. И всё-таки в Европе ему тоскливо. Боратынский, так давно туда стремившийся, явно разочарован. Но вот, наконец, Италия – та самая Италия, о которой он едва ли не всю жизнь мечтал. Впечатлений масса: и музейно-ландшафтных, и улично-простонародных, и вполне светских. В Неаполе поэт возобновляет общение с Зинаидой Волконской. Знакомится с художником Александром Ивановым. Но возможно ли, находясь в Италии, не вспомнить своего давнего воспитателя Джьячинто Боргезе, когда-то в далёком детстве заронившего в душу мальчика любовь к этой волшебно-прекрасной стране? Евгений Абрамович пишет стихотворение «Дядьке-итальянцу», отправляет его в «Современник»… И вдруг 29 июля 1844-го скоропостижно умирает.
Только через год тело поэта в кипарисовом гробу было перевезено в Петербург и 31 августа 1845 года похоронено рядом с могилами Крылова, Гнедича, Карамзина…
Наконец-то и Боратынский был присовокуплен к числу «ободрённых».
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашёл я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
Маёшка (Михаил Юрьевич Лермонтов)
Род Лермонтовых произошёл от выходца из Шотландии Георга Лермонта, который в 1613 году поступил на военную службу к русскому царю и был пожалован землёю. Примечательно, что род этот соприкасался с родом Пушкиных, и наши величайшие поэты имели общих предков. Впрочем, свой рассказ о Михаиле Юрьевиче мы начнём с более близких родственников, в частности, с его бабушки Елизаветы Алексеевны, урождённой Столыпиной, и поведём повествование наше с той поры, когда она, будучи вдовой гвардии поручика Арсеньева, проживала в своём имении Тарханы.

По причине известного всем хлебосольства и радушия хозяйки соседи к ней наезжали запросто – отдохнуть и повеселиться. Зачастил сюда и 24-летний красавец, вышедший в отставку капитан Юрий Петрович Лермонтов. Вскоре он посватался к Марии Михайловне, её единственной дочери. Елизавета Алексеевна, не слишком доверяя слухам и сплетням, навела справки: оказалось, «игрок и пьяница», да ещё беден. Однако дочь влюбилась без памяти, пришлось уступить.
Не полагаясь на Пензенских повитух, рожать Марию Михайловну повезли в Москву. Двух лет не прошло после наполеоновского нашествия. Город ещё только начинал отстраиваться, поднимая свои первые храмы и дома над свежим пепелищем. И вот в 1814 году как Божий дар возрождающейся из пепла Москве ночью со 2 на 3 октября тут появился на свет будущий великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Началась его короткая, но блистательная жизнь. Диво ли, что, ещё не научившись ходить, маленький Миша обнаружил склонность говорить слова в рифму?
Никакого приданого за «богатой невестой» бабушка не дала, но в течение пяти лет выплатила зятю по заёмному письму 25 тысяч ассигнациями. Характер у Юрия Петровича был вспыльчивый и сластолюбивый. Он поколачивал жену и изменял ей с молоденькой немкой Сесилией Фёдоровной, бонной своего сына. Не брезговал барин и дворовыми девками, принадлежавшими не благоволившей к нему тёще. Эти грустные обстоятельства совместной жизни родителей будущего поэта усугублялись всем очевидной неприязнью между его бабушкой и отцом. Расхворавшаяся после родов Мария Михайловна скончалась от чахотки 24 февраля 1817 года в возрасте около 22 лет.
Желая оставить внука себе, Елизавета Алексеевна сделала завещание, по которому принадлежащее ей имение в 500 душ отписала Мише, но с условием, что он будет находиться при ней по меньшей мере до совершеннолетия; если же отец заберёт мальчика, то всё отойдёт к другим родственникам. Ну а Юрий Петрович, будучи едва ли не первым ознакомлен с этим завещанием, решил, что бабушкино богатство нужнее сыну, чем отцовские любовь и забота, и оставил его у Елизаветы Алексеевны. Сам же после смерти жены перебрался из Тархан в собственное небольшое имение Кропотово, расположенное в Тульской губернии.
Увы, поэту не довелось пережить свою бабушку и вступить во владение наследством. А вот разлука с отцом, несомненно, поспособствовала развитию меланхолии и пессимизма в характере мальчугана, выросшего круглым сиротой.
Впрочем, отдадим должное: Арсеньева потерявшая мужа и единственную дочь, конечно же, попыталась своей любовью возместить внуку утраченных родителей и всю себя целиком посвятила ему. И не только себя, но всё в Тарханах отныне существовало и служило только для Мишиного удовольствия. Бабушка и сама подчинялась всякому капризу внука и того же требовала от прочих. Когда Мише шёл шестой год, Елизавета Алексеевна взяла к себе в дом двух его сверстников для совместного воспитания, а ещё через два года одела в специально пошитые военные мундиры деревенскую ребятню, чтобы у внука было своё «потешное войско», которым бы он командовал.
«Потешные бои» мальчик наблюдал и у взрослых, когда зимою сходились дворовые против деревенских – стенка на стенку. Однажды в разгаре такового увеселения, увидев своего любимого садовника Василия с рассечённой до крови губой, маленький Миша расплакался.
Уже в детстве Лермонтов проявлял художественную незаурядность, преотлично делая из талого снега колоссов. А из крашеного воска (что-то вроде теперешнего пластилина) маленький скульптор лепил грандиозные батальные картины, среди которых были и переход войска Александра Македонского через Граник, и сражение при Арбеллах с колесницами, конницей, пехотой и боевыми слонами.
В 1827 году Арсеньева вместе со своим внуком переехала из Тархан в Москву. Пришла пора всерьёз заняться его образованием. Сначала – домашние учителя, а через год – поступление полупансионером в 4-й класс Университетского благородного пансиона. Университетским назывался он потому, что в старших классах преподавали университетские профессора и курс его значительно превышал гимназический. Пансион стоял наравне с Царскосельским Лицеем и выпускал чиновников 14, 12 и 10-го классов по чинопроизводству. Среди первых учеников, чьи имена были выгравированы на золотой доске в актовом зале, значились Жуковский, Грибоедов, Тютчев.
Пансион имел литературно-полиграфическое направление и развивал переводческие, издательские и оформительские навыки. Поощрялось сочинительство. Преподававший русскую словесность С.Е. Раич издавал журнал «Галатея», в котором публиковал творческие опыты своих учеников. Впрочем, некоторые из них и сами издавали свои рукописные журналы с нехитрыми добропорядочными названиями: «Улей», «Маяк»… Именно в таких самодельных ежемесячниках и были помещены первые произведения Михаила Лермонтова, в 14-летнем возрасте начавшего писать стихи.
Не ограничиваясь занятиями в пансионе, юный поэт берёт уроки на дому по немецкой литературе, рисованию, музыке, российской словесности. Английскому языку обучается на основе поэтических текстов Жоржа Гордона Байрона – счастливая идея репетитора. Вполне ли овладел Лермонтов этим не слишком популярным в то время языком, не суть важно, а вот байронизмом и в литературном, и в нравственно-этическом плане проникся совершенно.
Романтические маски жизненных изгоев, созданные гордой ущербностью британского гения, не могли не показаться соблазнительными для юноши некрасивого внешне, но внутренне необыкновенно одарённого. К тому же поэзия всегда являлась и является наиболее реальной возможностью обнаружения этой незримой для посторонних душевной красоты. Короче говоря, у Михаила Лермонтова зародилась мечта сделаться русским Байроном.
4-й класс пансиона был окончен досрочно, и 21 декабря 1828 года юношу перевели в 5-й. Как бы предчувствуя, сколь коротки сроки, ему отпущенные, Лермонтов постоянно спешил, сгущая время, делая его насыщенным и плотным. Отсюда и основательное изучение поэзии, начиная с Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова, и создание своего журнальчика «Утренняя заря».
Весьма своеобразно осваивает Лермонтов поэтику Александра Сергеевича Пушкина, переписывая его поэмы на собственный лад. Он как бы редактирует их, что-то выбрасывая, что-то добавляя. В результате – нечто лермонтовское, коллажное, склеенное из пушкинских кусков. А по пушкинским «Цыганам» у одарённого юноши возникает замысел оперы и он пишет либретто. Уместно заметить, что Михаил Юрьевич Лермонтов был талантлив разносторонне: великолепно рисовал и писал красками, отлично играл в шахматы, делал успехи в математике.
Первое увлечение поэзией сопутствовало его первой серьёзной влюблённости. Девушку звали Екатериной Сушковой, и была она подругой его двоюродной сестры Александры Верещагиной. Будучи постарше, обе барышни относились к нему несколько свысока и считали косолапым, неуклюжим и язвительно-насмешливым подростком. Насколько чувства Сушковой были далеки от взаимности, можно судить по её воспоминаниям об этой поре:
«Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым, как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углублённым в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения, а мы, чтобы подразнить его, в ответ подадим ему волан или верёвочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятым и неоценённым снимком с первейших поэтов».
Нередко служила поводом для шутки и неразборчивость юного Лермонтова в еде. Однажды девушки заказали повару испечь булочки с опилками и после весёлой продолжительной прогулки положили их на тарелку проголодавшегося приятеля. Только на второй или третьей булочке жестокие насмешницы указали бедному мальчику на несъедобность поглощаемой им снеди. Миша рассердился, убежал и несколько дней не показывался, то ли действительно страдая расстройством желудка, то ли желая своей мнимой болезнью наказать участниц не слишком гуманного розыгрыша.
За огромные чёрные миндалевидные глаза поэт называл Екатерину Сушкову несколько на английский манер – «мисс Блейк-айз», что означает «черноокая». И была она красивой, неглупой, кокетливой, пышноволосой барышней. Причём обилие волос её казалось чем-то неправдоподобным, и друзья Катишь (обиходная форма её имени) однажды поспорили с нею на пуд конфет, что это не её собственные волосы, а накладной шиньон. Чуть ли не за каждый волосок подёргали. Что-то, вероятно, и выдрали – не без этого, но подтвердилось – свои, родные, и сладкий выигрыш достался ей. Юный поэт, наблюдавший за спором и невыносимым для его ревнивого сердца испытанием, сказал: «Какое кокетство!» – и, негодуя, вышел.
Как-то, вместе проводя летние каникулы в Середниково, молодые люди отправились в Троице-Сергиеву лавру на богомолье. Заметив на церковной паперти слепого нищего, положили в его деревянную чашку несколько монет. Нищий обрадовался подаянию и тут же посетовал на неких весёлых господ, что намедни вместо денег набросали в его чашку мелких камушков. После посещения церкви, когда все сидели за столом в ожидании обеда, Лермонтов, стоя на коленях перед стулом, что-то написал огрызком карандаша, а затем передал листок Сушковой. Это было стихотворение, посвящённое не только истории, рассказанной нищим, но и любовным страданиям самого автора.
НИЩИЙ
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
11 марта 1830 года Николай I проинспектировал пансион. Явился во время перемены и, неузнанный, прошёл по коридору среди шума, толкотни и потасовок. Только один-единственный ученик, прежде видевший императора на портрете, крикнул: «Здравия желаю Вашему Величеству!», остальные зашикали на выскочку: мол, какого-то генерала эдак по-царски величаешь. Император прошёл в дирекцию пансиона, куда тут же была собрана администрация и преподаватели. Последовал решительный нагоняй от российского самодержца, а вскоре и указ о преобразовании Университетского пансиона в Дворянский институт с низведением до уровня гимназии, а значит, и с учреждением телесных наказаний, от которых прежде в силу имевшихся привилегий его учащиеся были ограждены.
Разумеется, ни сам юноша, ни его бабушка не могли допустить, чтобы Михаила Юрьевича по списку провинностей, накапливающихся за неделю, секли розгами. Поэтому 16 апреля 1830 года Лермонтов оставил бывший пансион, получив свидетельство, что уволен по собственному желанию из старшего отделения высшего класса с отличным прилежанием, похвальным поведением и весьма хорошими успехами. 21 августа было подано прошение о его зачислении своекоштным студентом нравственно-политического, а по-современному – юридического факультета Московского университета. После успешно сданных экзаменов прошение было удовлетворено, и Михаил Юрьевич приступил к занятиям.
1830–1831 годы были отмечены глубокой сердечной драмой молодого поэта. Полюбив Наталью Фёдоровну Иванову, дочь известного московского драматурга Ф.Ф. Иванова, Лермонтов оказался уязвлён, и тем сильнее, что его чувство к ней не было безответным (так ему поначалу показалось). Или это была бездушная игра очаровательно красивой женщины, именуемая кокетством, или Наталья Фёдоровна действительно испытала по отношению к Михаилу Юрьевичу нечто похожее на взаимность, но внезапно всё переменилось: полнейшее равнодушие, ледяная холодность и ни малейшего намёка на любовь. Столь жестоко обманувшийся в своих ожиданиях поэт был повержен в ярость мучительного отчаяния.
К *
Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней.
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убеждён,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд!.. прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться,
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил;
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! – лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала – я тебя не знал!
Главное в этом признании: «Я целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней». Около тридцати стихотворений, вдохновлённых гордой красавицей, при всей их глубине и прелести, едва ли способны искупить душевный ущерб, ею причинённый поэту в трудную, обострённо-чувствительную пору его первого возмужания. Измена любимой женщины закрепила в его характере всё то горькое и мрачное, что было только намечено ранним сиротством, насильственною разлукою с отцом и влиянием романтического байронизма.
1 октября 1831 года в своём имении Кропотово в возрасте 44 лет скончался Юрий Петрович Лермонтов, равно отставной капитан и отставной отец. Скончался от того же недуга, что и жена, – от чахотки, болезни, в которую столь часто переходит неизлечимая душевная скорбь. По виду смерть могла показаться простейшим разрешением вставшего перед юношей вопроса. Ему только-только исполнилось шестнадцать лет, и он должен был сделать свой сознательный выбор: остаться с бабушкой или уйти к отцу?
Жизнь ответила бы на этот вопрос так или иначе, а возможно, и примирила бы всех троих к общему удовольствию. Но смерть распорядилась со своевольной жестокостью, воспрепятствовав исполнению их обоюдного долга – сына перед отцом и отца перед сыном. Ещё одна незаживающая душевная рана поэта. Впрочем, не лежат ли нравственные катастрофы в основании всякого большого искусства?
Елизавета Алексеевна, привыкшая во всём блюсти интересы внука, разумеется, постаралась отхватить в его пользу и небогатое наследство, оставленное Юрием Петровичем. Однако поэт настоял на полюбовном разделе с тремя сёстрами покойного, что стоило ему тысяч десяти.
Примерно через месяц после похорон отца, на которые Михаил Юрьевич едва успел, явилось ему ангельское утешение в образе Варвары Александровны Лопухиной, которая была милым, умным, пылким и добрейшим созданием. Познакомились они через старшую сестру девушки – Марию Александровну, бывшую его домашним учителем; впрочем, существовал ещё один путь к их сближению – её брат Алексей, вместе с которым Лермонтов обучался в университете и дружил.
Варвара Александровна, будучи не столь хороша собою, как, скажем, Наталья Фёдоровна, тем не менее обладала удивительным обаянием и неизменно вызывала в окружающих живейшую симпатию. А Михаил Юрьевич так и вовсе в неё влюбился со всей свойственной ему страстностью и впервые по-настоящему взаимно.
Однако и горячее чувство, испытываемое к девушке, не мешало поэту её вышучивать: «У Вареньки – родинка, Варенька – уродинка». Маленькое тёмное пятнышко над левой бровью ни сколько не портило её миловидного лица, и Лопухина никогда не обижалась на эту рифмованную дразнилку.
Кто знает, повстречайся она Лермонтову прежде Ивановой, может быть, раскрылась бы его душа совсем иною – доброю и светлой стороной? Но и теперь для Михаила Юрьевича оказалась Варвара Александровна истинным утешением, исцелением от недавно постигшей его душевной травмы. И вся семья Лопухиных, весь дом их показался поэту землёй обетованной. А поскольку проживали они на соседних улицах: юноша – на Большой Молчановке, а его друзья – на Малой Молчановке, то и захаживал он с Большой на Малую, почитай, ежедневно. Да и Лопухины, в свою очередь, не обходили его дом стороной.
Преподавание в Московском университете велось неважно. Политические курсы выхолащивались цензурой, а ради них Лермонтов и выбрал юридический факультет, ибо 1830 год – пора его поступления был отмечен вспышками революционного движения в Европе, а в России холерными бунтами, одной из жертв которых в Севастополе оказался брат Елизаветы Алексеевны, генерал-лейтенант Н.А. Столыпин. Хотелось как-то разобраться в происходящем, понять смысл и сущность народных волнений. Однако неспокойное время только усугубило в университете атмосферу несвободы и подобострастного лицемерия перед властями.
Не слишком радовали и словесники. Наиболее блестящий профессор – поэт Мерзляков, снисходительно хваливший стихи Михаила Юрьевича, нередко раздражал юного поэта своими старомодными воззрениями на поэзию. Так, на одной из лекций он раскритиковал стихотворение «Зимний вечер», находя пушкинские уподобления неестественными, – обычное проявление возрастного консерватизма, но Лермонтова такая критика приводила в бешенство.
Император Николай I, ненавидевший Москву как многовековое гнездо гражданской оппозиции российским царям и правительству, а теперь и рассадник революционной заразы, к Московскому университету относился особенно подозрительно. Уже и Александр Полежаев был отдан в солдаты за весьма непристойную поэму «Сашка». Уже и Костенецкий с товарищами поплатились за своё вольнодумство. Дошла очередь до Герцена с Огарёвым… А тут ещё некто Сунгуров попытался организовать тайное общество среди студентов. Не провокатор ли? Последовали аресты, приговоры. Жертвою полицейских преследований мог оказаться и Лермонтов, чьё свободомыслие было сформировано Байроном и Пушкиным, а острословие едва ли не попахивало крамолой.
Михаил Юрьевич решает оставить университет, разумеется, не без обсуждения столь важного вопроса на семейном совете, и в 1832 году, не вернувшись с летних каникул, покидает и Москву, и Вареньку. Для разрыва с девушкой тоже нашлась причина, столь же «разумная», сколь и романтичная. Лермонтов посчитал, что счастье с Лопухиной отнимет его у поэзии, истинная почва которой всегда страдание, и отказался от этого счастья.
Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Эти стихи, написанные им перед самым отъездом из Москвы, отнюдь не были прагматичным соображением холодного честолюбивого ума. В эту пору Лермонтовым вдруг овладел ужас, что его возвышенные планы могут не состояться: «…тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит». Поэтому и отъезд был не отъезд, а бегство, бегство от самого себя, от столь возможного счастья. С Варенькой даже не объяснился. Однако в письмо к Марии Александровне, её сестре, вложил небольшое, всего в двенадцать строчек стихотворение, которое не могла не прочитать и его покинутая любовь, причём, будучи девушкой умной, конечно же, всё поняла.








