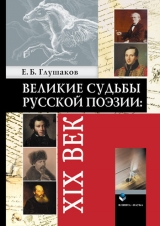
Текст книги "Великие судьбы русской поэзии: XIX век"
Автор книги: Евгений Глушаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Именно в Одессе Александр Сергеевич испытал наиболее сильное влияние Байрона. Этому способствовали и близость моря, англичанином воспетого, и сходство в положении с этим тоже гонимым властями певцом свободы. А тут ещё встретилась Пушкину бывшая любовница Байрона – гречанка Калипсо и отнеслась к русскому поэту не менее благосклонно. Ещё один повод для невольных параллелей. Огромное впечатление на Александра Сергеевича произвела гибель Байрона в 1824 году под Мессолунги в боях за свободу Греции. Увлечённый английским поэтом, он едва не увяз в колее этой судьбы, уже становящейся хрестоматийной. И даже помышлял отправиться в Грецию, чтобы в рядах борцов за её независимость сменить погибшего.
Только ведь и сам Пушкин не был свободен и отнюдь не мог никуда из России выехать. Александру Сергеевичу по причине его неблагонадежности вообще ни разу в жизни не позволили побывать за границей. Впрочем, в Одессе поэта удерживала ещё и влюбленность в Елизавету Ксаверьевну Воронцову, жену начальника. Ситуация весьма пикантная и чреватая осложнениями.
В драматическом развитии этого романа неблаговидную роль сыграл одесский приятель Пушкина – Александр Раевский. Человек насмешливого ума, презирающий поэзию, он в силу своего высокомерного, иронического отрицания имел определенную власть над пылкою, искренней натурой поэта. При этом, будучи сам в связи с Воронцовой, Раевский использовал Пушкина как ширму и доносил на него графу. Когда Александру Сергеевичу открылось это предательство, он, почитавший дружбу чувством священным, пережил едва ли ни самое горькое разочарование.
КОВАРНОСТЬ
Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдёрнет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, —
Не говори: «Он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «Неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон»…
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочёл в немой душе твоей
Всё тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осуждён последним приговором.
Что касается Воронцова, тот, естественно, начинает искать предлог, чтобы удалить Пушкина из Одессы. Уже сложившаяся в глазах правительства репутация ссыльного поэта как растлителя умов подсказывает графу самое простое решение, и он обращается к царю с жалобой – Пушкин-де вредно влияет на местную молодежь. Ну а в ожидании Высочайшего волеизъявления генерал-губернатор отправляет Александра Сергеевича в нелепейшую командировку: обследовать места, повреждённые саранчой – только бы услать его подальше от дражайшей супруги. Единственным итогом поездки стали несколько зарифмованных строк:
Саранча летела.
Села.
Всё съела.
И дальше полетела.
24 июля 1824 года Александру Сергеевичу был объявлен царский приказ – уволить его со службы и отправить в Псковскую губернию, в имение, принадлежащее родителям, под местный надзор. Причём бесцеремонные власти потребовали от Сергея Львовича, отца поэта, шпионить за сыном и доносить на него. 9 августа Пушкин добрался до пункта назначения – деревни Михайловское. Началась северная ссылка, уже не прикрытая видимостью службы. Впрочем, поэт и сам ещё в 1823 году подал прошение об отставке.
Застав в Михайловском всю свою семью, которая по причине летнего времени тут отдыхала, Пушкин, конечно же, был весьма обрадован. Однако в ноябре родные вернулись в Москву, и Александр Сергеевич остался в этой горькой и тоскливой глуши со своей любимой старенькой няней. В господском доме только две комнаты и отапливались – его и Арины Родионовны. В долгие зимние вечера они частенько сходились вместе, и уже знаменитый поэт, совсем как в детстве, заслушивался няниными сказками и песнями. Об этом, собственно, и повествует его стихотворение:
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Понимая, как невыносимо для Пушкина при его живом, общительном характере прозябание в унылом и дремотном захолустье, друзья стараются хотя бы письмами приободрить поэта. Его лицейский товарищ, благоразумный и рассудительный Дельвиг, в своих посланиях призывает Александра Сергеевича к снисходительности: мол, не дразни правительство. А Жуковский, верный своему восторженному отношению к пушкинским стихам, пишет, что у него «не дарование, а гений». Как бы подтверждая эти слова, в Михайловской ссылке поэт создаёт такие шедевры, как стихотворная драма «Борис Годунов», поэма «Цыганы», новые главы «Евгения Онегина»… Благо вынужденное одиночество располагает к творчеству.
Если в «Цыганах», написанных по бессарабским впечатлениям, когда Александр Сергеевич пропадал несколько дней, увязавшись за цыганским табором, ещё заметно влияние Байрона, то в «Борисе Годунове» поэт проявляет уже гораздо больше самостоятельности. И вырваться из пут байронизма Пушкину помогает «История государства Российского», принадлежащая перу Карамзину. И хотя первые её тома, начавшие выходить в 1818 году, Александр Сергеевич встретил тайною эпиграммой:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута, —
теперь по выходе X и XI томов, содержащих историю царствования Федора Иоанновича, Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца, поэт черпает из этого кладезя сюжет и материал для своей драмы. Конкретная фабула и необходимость следовать колориту эпохи дают Пушкину возможность наконец-то преодолеть несколько условную поэтику байроновского романтизма.
В Михайловском Александр Сергеевич начинает переписываться с Плетнёвым, вызвавшимся быть его издателем. Немудрено, что публикация «Цыган» сопровождалась шумным успехом. Тот же южный накал страстей, та же яркость образов, что и в первых поэмах, разве только ещё живописнее, ещё сильней. Но в целом всё тот же – уже знакомый и привычный – Пушкин. А вот первая глава «Евгения Онегина», вышедшая в феврале 1825 года, была встречена холодно, настолько холодно, что сбитый с толку автор приостанавливает печатанье романа. Дорабатывает, уточняет, шлифует. Хотя причина тут не в мелочах, а в крепнущих реалистических тенденциях его поэзии, пока ещё чуждых публике.
Даже коллега Александра Сергеевича поэт Рылеев оказался недостаточно чуток к этим новшествам. Напрасно Пушкин, состоявший с ним в переписке, попытался указать ему на превосходство своих последних поэтических опытов над более ранними. Рылеев неумолимо утверждал, что «Евгений Онегин» ниже «Бахчисарайского фонтана». Не чувствуя монументальности романа, лишь приоткрывшегося перед ним, упрекал Пушкина в мелкотемье: «Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка, когда у тебя в руке резец Праксителя?» – и побуждал его к созданию вольнолюбивых поэм.
Написала Александру Сергеевичу в Михайловское и Елизавета Ксаверьевна Воронцова. В письме же своём сообщила, что у неё родилась дочь и что он – отец. На медальоне, вложенном в конверт, имелось миниатюрное в красках изображение девочки с едва приметными африканскими чертами. Переполнившие поэта чувства излились в небольшое стихотворение, которое при всех задатках шедевра так и осталось в черновике. К строкам, написанным по первому порыву, Пушкин не дерзнул более прикоснуться, ибо с горечью ощущал, что ребенок этот его и не его, что никаких прав на свою дочь он не имеет. Стихотворение и было тем благословеньем, произнести которое Александр Сергеевич не смел.
МЛАДЕНЦУ
Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
Ты взором, мирною душой,
Небесный ангел утешенья.
Да будут ясны дни твои,
Как милый взор твой ныне ясен.
Меж лучших жребиев земли
Да будет жребий твой прекрасен.
Осторожная Елизавета Ксаверьевна попросила Пушкина послание её по прочтении сжечь. Такие тайны вообще не принято доверять бумаге. И как ни были драгоценны для изгнанника эти долгожданные, написанные любимой рукою строки, поэт не ослушался. Ну а пепел сожженного письма сложил в тот самый медальон с портретом дочери и носил на груди в память о возлюбленной.
СОЖЖЁННОЕ ПИСЬМО
Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту!.. вспыхнули! пылают – легкий дым
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит… О провиденье!
Свершилось! Тёмные свернулися листы;
На лёгком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…
Едва ли не самыми отрадными в жизни сосланного поэта были часы, проведённые с навестившим его товарищем. Иван Иванович Пущин был дружен с Пушкиным ещё по Лицею, где они и проживали в соседних комнатах: Иван – в № 13, Александр – в № 14. Узнав о желании Пущина проведать поэта, многие его отговаривали, считая это опасным, поскольку Александр Сергеевич находился под двойным надзором – военным и духовным. Однако Иван Иванович не послушался лукавых советчиков и, прогостив несколько дней у сестры в Пскове, в начале января 1825-го отправился в Михайловское.
Вот его описание встречи: «Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора… Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босяком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал о заиндевевшей шубе и шапке… Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, другой – весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза… мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной, впрочем, она всё поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, – чуть не задушил её в объятиях…»
Мгновениями такого восторга едва ли не искуплены суровые годы гонений и одиночества, которые у Пушкина были уже по большей части в прошлом, а Пущину только предстояли в недалёком будущем. Именно тогда, когда настанет черёд пострадать и его другу, Александр Сергеевич припомнит этот морозный, столь радостный для обоих день.
И.И. ПУЩИНУ
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
Где бы Пушкин ни жил, он всегда влюблялся и непременно находил друзей. Это было его сердечной необходимостью. Но Михайловское было настолько маленьким и глухим селом, что Александр Сергеевич, верно, и вовсе бы заскучал, если бы в нескольких верстах в своём имении Тригорское не проживала Прасковья Александровна Осипова. Была эта добрая и умная женщина вдовою по двум мужьям и воспитывала семерых – сына Алексея Вульфа, бывшего студентом Дерптского университета, пятерых дочерей и падчерицу. В дом Прасковьи Александровны и зачастил поэт. Принимали его там с радостью, как своего. Молодая болтовня, смех, жжёнка, шарады. С Алексеем Вульфом, юношей весьма незаурядным и большим ловеласом, Пушкин сошёлся довольно скоро, и они, присовокупив поэта Николая Языкова, проживавшего тут же неподалеку, составили остроумную, веселую, а подчас и шумную компанию.
Влюблялся же Александр Сергеевич поочерёдно во всех трёх старших дочерей Прасковьи Александровны: и в Анну, и в Евпраксию, и в Алину. Когда же приехала к Осиповой погостить её племянница Анна Петровна Керн, бывшая замужем за старым генералом, Пушкин, и прежде мельком встречавший её на балу у Олениных, теперь увлёкся этой молодой и красивой женщиной всерьёз. На следующий день, когда Анна Петровна должна была уехать к мужу в Ригу, очарованный поэт подарил ей только что написанное стихотворение.
К***
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.
В пору Михайловской ссылки Александру Сергеевичу приходит на ум издать свои стихи отдельной книгой. Для этого потребовалось вернуть когда-то проигранную в карты Всеволжскому тетрадку, где было собрано всё написанное до 1820 года. «Стихотворения» вышли 30 декабря 1825-го в Петербурге. Их издание осуществил друг поэта Плетнёв.
Вести о событиях, происходящих в России, приходили в Михайловское с большим опозданием. О декабрьском восстании Пушкин узнал только через месяц. Он и сам едва не угодил в этот котёл. Дело в том, что в начале декабря 1825 года поэт, наскучив глухоманью, решился на отчаянный шаг и, переодевшись мужиком, с фальшивым отпускным билетом на имя Алексея Хохлова, крепостного Осиповой, отправился было в Петербург.
Исполни Александр Сергеевич своё намерение, и прибыл бы туда к самой заварухе, и вышел бы с мятежниками на площадь. А там – картечь, аресты, расправа. Так оно и было бы, если бы Пушкин, по суеверию своему, не отменил поездку. Поп ему на выезде из деревни попался да заяц дорогу перебежал. Дурные приметы. Велел Александр Сергеевич сани домой поворотить, что его и спасло.
Следствие по делу декабристов, учинённое царём, показало, что для большинства из них источником свободомыслия послужили вольнолюбивые стихи Пушкина. Над Александром Сергеевичем нависла опасность. Умный Жуковский находит возможность (в условиях постоянно, а в эти дни так и с особой тщательностью, перлюстрируемой почты) сообщить поэту, что никакими серьезными материалами против него следствие не располагает: «Ты не в чём не замешан – это правда, но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои, это худой способ подружиться с правительством».
Понимая, что новых преследований не избежать, Пушкин ищет возможность уехать за границу. Поздней весной 1826-го он подаёт прошение о том, чтобы ему разрешили отправиться в Европу на лечение от аневризмы. К прошению прилагались свидетельство из Псковской врачебной управы о «повсеместном расширении крововозвратных жил на нижних конечностях» и подписка (по установленному недавно образцу) о непринадлежности к тайным обществам. Однако же власти разгадали нехитрый манёвр и, несмотря на хлопоты друзей поэта, дали согласие только на Псков, куда для проведения операции был командирован искусный хирург Мойер. Но Пушкин от его услуг отказался, тем самым полностью дезавуировав свои планы и еще более насторожив подозрительного царя.
1 июня 1826 года вышел манифест о приговоре по делу декабристов: пятеро – к четвертованию (а среди них Рылеев и Бестужев – приятели поэта), тридцать один – к отсечению головы (а среди них Пущин и Кюхельбекер – его ближайшие друзья). Одновременно с приговором был обнародован указ о замене четвертования – повешением, обезглавливания – вечной каторгой.
С того самого момента, когда стало известно о декабрьском мятеже на Сенатской площади, «свободы сеятель пустынный» Пушкин уже не сомневался в полезности своего труда. Однако, видя первые невеселые плоды его, не мог не задуматься. И не выходили из головы слова Жуковского – «в бумагах каждого действовавшего находятся стихи твои…» Для Александра Сергеевича становится насущнейшей необходимостью разобраться в общественном предназначении поэта и мере его ответственности за каждое своё слово. 24 июля Пушкин узнаёт о свершившейся казни, и его мысли приобретают законченный, по-библейски суровый характер.
ПРОРОК
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
А в это время царь уже вёл розыск относительно самого поэта. Агент-осведомитель Бошняк, присланный из Петербурга, уже рыскал по округе, собирая сведения о Пушкине. Открытый лист на арест лежал у шпика в кармане. Но ничего обличающего добыть Бошняку не удалось. И тогда Николай I решил действовать иначе.
В ночь на 4 сентября к Александру Сергеевичу явился офицер со срочным вызовом в Псков. Поэт был поднят с постели и доставлен в губернскую канцелярию, где его уже поджидал императорский фельдъегерь с «высочайшим повелением» Пушкину явиться в Москву перед лицо царя. И 8-го поэт уже был туда доставлен и препровождён в кабинет самодержца.
– Пушкин, принял бы ты участье в 14 декабря, если бы был в Петербурге? – первым делом спросил царь.
И поэт со свойственной ему прямотой ответил:
– Непременно, Государь, – все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нём…
Не столько пушкинское благородство подкупило Николая I, успевшего к тому времени, благодаря расправам над декабристами, прослыть кровавым, сколько вознамерился он публично выказать свою милость к поэту и предстать перед подданными в более привлекательном виде. Царь отменил ссылку Пушкина, взяв слово, что он ничего противоправительственного писать не будет. Кроме того, поэту было запрещено выезжать куда-либо, не предуведомив власти. А уже в качестве особого расположения император взялся быть его личным цензором и установил за Александром Сергеевичем тайный надзор.
Естественно, что, замечая столь грубое и оскорбительное недоверие, Пушкин не очень-то стремился к безукоризненному выполнению обещанной лояльности. И ради того, чтобы поддержать своих друзей, томившихся на Нерчинских рудниках, вскоре написал своё знаменитое послание.
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придёт желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Стихотворение было передано с Муравьевой, отправившейся в начале января 1827 года из Москвы в Читинский край на каторжное поселение к мужу. Лишённое возможности быть напечатанным, оно получило широкое распространение в списках. Ответ на это послание, донесшийся из Сибири, был тоже великолепен. Однако до чего же он возвышается над прочими сочинениями Одоевского! И разгадка тут проста – чем гениальнее посыл, тем легче даётся отзыв. Достаточно перенять оригинальную интонацию первоисточника, как это сделал, к примеру, митрополит Филарет, полемизируя с пушкинским стихотворением «Дар напрасный, дар случайный…».
15 октября 1827 года, находясь в дороге, Пушкин едва ли не думал о приближающейся Лицейской годовщине. И едва ли не становилось ему грустно от сознания, что многих, очень многих не будет доставать за праздничным столом… Вдруг на одной из ямщицких станций в конвоируемом арестанте, худом и высоком, Александр Сергеевич узнал своего лицейского товарища Кюхельбекера! Кюхлю! Они кинулись друг другу в объятья, но жандармы их растащили, бросили Кюхлю в возок и увезли. Под впечатлением этой одновременно и радостной, и страшной встречи, нет – гораздо сильнее – оглушенный, раздавленный ею, поэт помолился за своих бесконечно милых ему друзей.
19 ОКТЯБРЯ 1827
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!
Можно предположить, что и его друзья-мученики в своих молитвах не забывали упоминать Пушкина, отлично понимая, что свободолюбивый поэт отнюдь не стяжал ни царской любви, ни благосклонности высших сановников. А тут ещё и с церковью нелады. Дворовые некоего штабс-капитана Митькова пожаловались петербургскому митрополиту Серафиму, что барин растлевает их, читая «Гавриилиаду», и даже представили рукопись кощунственной поэмы. Следствие вывело на автора возмутительного произведения – Пушкина.
Поначалу он пробовал отпираться, дескать, не его работа. Только ведь кроме него в России никто стихотворной строкою эдак не владел. Вот и не оставалось Александру Сергеевичу ничего иного, как написать царю покаянное письмо с полным признанием. Впрочем, дело было давнее. Писалась поэма ещё в 1822 году, т. е. до всемилостивейшего прощения дарованного государем поэту. Обошлось.
6 декабря 1828-го на балу известного московского танцмейстера Иогеля увидел Александр Сергеевич шестнадцатилетнюю красавицу Наталью Николаевну Гончарову. В одном из писем той поры поэт указал на своё мгновенно возникшее чувство: «Я полюбил её, голова у меня закружилась». Вскоре Пушкин сделал Наталье Николаевне предложение. Просить у девушек руку Александру Сергеевичу доводилось и прежде. И что же? Постоянные отказы: и от Анны Олениной, и от дальней родственницы Софьи Пушкиной.
Собою поэт был, пожалуй, даже некрасив. Черты лица – резкие, грубые, неправильные; рост – пять с небольшим вершков, но зато – очень выразительные прекрасные глаза… Женщинам умел нравиться. Бывал с ними чрезвычайно красноречив и остроумен. А вот в ситуации обычной, когда разговор не занимал его, поэт объяснялся вяло и сумбурно. Но если ему было интересно, тогда его речь, одушевляемая необыкновенно ясными, точными мыслями и пылкими чувствами, становилась блестящей.
Наиболее серьёзными препятствиями к браку Александра Сергеевича, вероятнее всего, служили его бедность, репутация повесы и нелады с властями. Какие родители пожелают отдать свою дочь за нищего шалопая и мятежника? Не спешила с выражением своего согласия и мать Натальи Николаевны. А между тем поэт был уже изрядно утомлён и преследованиями со стороны сильных мира сего, и собственным бесшабашным разгулом, и житейской неустроенностью. Мечталось Александру Сергеевичу о простом человеческом счастье среди уюта и спокойствия семейной жизни.
ЭЛЕГИЯ
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, – печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.
Угнетающе действовали на Пушкина непонимание и косность публики. Она не желала, а может быть, и не могла развиваться и расти вместе с поэтом. Для этого ей, пожалуй, не хватало ни его жажды совершенства, ни его трудоспособности, ни его гения. А Пушкин, ободренный творческой удачей своего «Бориса Годунова», впрочем, не оценённого даже друзьями-литераторами, уже задумал продвинуться дальше – написать исторически достоверную поэму из петровских времён.
Как известно, Карамзин своего повествования до этой поры не дотянул, не успел. Пришлось Александру Сергеевичу обложиться немалым количеством первоисточников, принадлежавших теперь уже другим авторам. Вот их неполный перечень: «История Малой России» Бантыша-Каменского, «Деяния Петра Великого» Голикова, «Военная история походов россиян в XVIII столетии» Бутурлина, труды Вольтера «История Карла XII» и «История России при Петре Великом». Заметим, что, чем шире спектр исторических исследований, взятых за основу, тем свободнее в своём выборе поэт.
Однако источники источниками, подготовка подготовкой, но усадила Пушкина за написание «Полтавы» всё та же непогода. Такое с ним случалось нередко. При его живом и непоседливом характере именно непогода была наиболее подходящим творческим катализатором. А когда уже пошло, когда расписалось, тогда уж какое солнышко не сияй – не то что со двора, но и от бумажек своих, по всей комнате раскиданных, не отойти. Писал, и писал, и писал… Впрочем, по временам ел что-то, поглощая пищу почти машинально. Иногда спал, но и во сне работа не прекращалась. Поэма не отпускала и во сне. Вскакивая с постели, торопливо записывал стихи, пригрезившиеся ночью.
Ну, а публика, которая и ела в своё удовольствие, и спала в охотку, была ли готова оценить этот плод его высоких вдохновений? Конечно же, нет! Напрасно Александр Сергеевич ожидал читательского одобрения своей новой работы, разумной критической подсказки. Недоумённое молчание публики и растерянность в стане литературных соратников. Ну а тупоголовая брань записных журнальных рецензентов вызывала только обиду и раздражение.
До этой поры Пушкин ещё надеялся быть услышанным и вступал в поэтические диалоги то с книгопродавцем, то с толпой. Но уже тогда чувствовалось нарастающее отчуждение. Если «Разговор книгопродавца с поэтом» Александр Сергеевич заканчивает репликой поэта, угодливо переходящего на прозу: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся», то в стихотворении «Поэт и толпа» он уже предпочитает оборвать пустые пререкания с людьми, не способными его понять:
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Понимал ли царь, доходило ли до его вельмож, что и они из этой толпы? Вероятнее всего, да – понимал, доходило. Поэтому, наверное, и ненавидели они Пушкина люто. Что же касается поэта: распростившись с толпой, он уже более не заводил с нею философских бесед и в дальнейшем обращался только к себе подобным.
ПОЭТУ
сонет
Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
Впрочем, ему предстояло разочароваться и в своих коллегах. В самый трудный момент его жизни они тоже окажутся и глухи, и непонятливы. Более того, обнаружится, что и сам Александр Сергеевич не слишком чувствителен к наставлениям своего гения. Будет и так, что, услышав «суд глупца и смех толпы холодной», он, к сожалению, не останется «твёрд, спокоен и угрюм». Но это – позже. А покамест поэт изнывал в мучительном ожидании согласия на брак с Натальей Николаевной Гончаровой. Далее помолвки дело никак не шло.
1830 год начинался несчастливо. Мать его прелестнейшей невесты вдруг заявила, что они бедны, и потребовала, чтобы поэт, если желает жениться на её дочери, обеспечил приданое. При этом была названа сумма в 10 тысяч рублей. Пушкин, увы, не располагавший такими деньгами, пришёл в совершеннейшее уныние. И даже подал властям прошение, чтобы ему разрешили ухать в Италию, или во Францию, или хотя бы в Китай. Отказали. А чтобы и не мечтал о заграничных вояжах, Александру Сергеевичу вдобавок ещё и выговор сделали за самовольную отлучку в Арзрум.
Однако с приданным для Натальи Николаевны дело вдруг сдвинулось с мёртвой точки. Сергей Львович посчитал необходимым помочь своему бедному, гонимому сыну и презентовал ему часть деревни Кистенёвка из своего Болдинского имения. Чтобы распорядиться этим подарком – продать его или заложить для получения нужной суммы, Александр Сергеевич отправился в Болдино. Казалось, что много времени ему не потребуется. Но как раз в эту пору случилась эпидемия холеры. Карантин. И Пушкин оказался заперт в Болдино на несколько месяцев. Мучительнее всего для поэта оказалась разлука с Натальей Николаевной, видеть которую уже давно стало главным условием его существования.
Я знаю: жребий мой измерен, Но чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен быть уверен, Что с вами днём увижусь я.
От любовной тоски и от скуки деревенской имелось одно единственное спасение: Александр Сергеевич начал писать. И эдак расписался, что вынужденное карантинное сидение в Болдино обернулось таким взлётом вдохновения, таким напором творческой фантазии, каких у Пушкина не бывало ни до, ни после. Обильнейший урожай: «Повести Белкина» числом – пять, три «Маленькие трагедии», поэма «Домик в Коломне», две последние главы «Евгения Онегина», около 30 стихотворений… И это – за три месяца! Даже на такой шедевр, как «Сказка о попе и работнике его Балде», не потребовалось более одного дня.
А секрет плодовитости этой, кажется, прост. Во-первых, влюбленный Пушкин в ожидании столь возможного, близкого счастья находился на величайшем эмоциональном подъёме. Во-вторых, потребность написать побольше да получше, чтобы заработать на нужды семьи, которая вот-вот образуется. В-третьих, как бы прощание с поэтической вольницей. Женишься – до того ли будет? Ну и, конечно же, спешка. Карантин мог окончиться в любой день, а замыслов столько, что голова кругом идёт. Да и возраст самый подходящий для шедевров – тридцать лет… Всё тут сошлось и сложилось!








