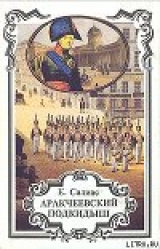
Текст книги "Аракчеевский подкидыш"
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
XVII
В продолжение двух дней Нейдшильд много раз собирался сказать дочери про свое послание к Шумскому с отказом, но не решился. Ева была несколько озабочена, но спокойна. Очевидно, она была все еще далека от мысли, что все окончательно порвано с Шумским и продолжала наивно ожидать его появления в доме. Барон смущался, трусил и не знал, что делать. Его тайные мысли о том, что фон Энзе уже успел посвататься, а он успел уже принять его предложение, теперь пугали его самого и казались часто сновидением или бессмыслицей. По счастию улан тоже не являлся.
На третий день, не видя Шумского, баронесса начала, видимо, волноваться и, очевидно, теперь только догадывалась, что в объяснении с ней отца было нечто недосказанное. Отец что-то скрывал от нее. И теперь, чем более барон старался избежать последнего решительного объяснения, тем более Ева ожидала его. Вечером, уже собираясь проститься с отцом, чтобы идти спать, девушка решилась и, кротко глядя отцу в глаза, спросила:
– Как же вы намерены поступить относительно всего этого? Вы знаете, решили все, но скрываете от меня…
– Что? – отозвался барон наивно.
– Все касающееся моего замужества. Я не вижу Шумского…
Барон потупился и покраснел, как школьник, пойманный в шалости. Он отвел глаза и проговорил едва слышно:
– Я уже давно… тогда же… написал г. Шумскому письмо, в котором говорю, что ты не можешь быть его женой.
Наступило молчание.
Ева не ответила ничего, а Нейдшильд боялся поднять глаза, боялся увидеть впечатление, какое произвели его слова на дочь.
– Напрасно, – произнесла, наконец, Ева чуть слышно. – Это будет очень мудрено…
Барон взглянул на дочь и увидел, что лицо ее несколько изменилось: стало темнее, серьезнее. Глаза смотрели не так кротко, как всегда. Они раскрылись немножко шире и взгляд был тверже.
У другой женщины, а не у баронессы, подобное выражение лица означало бы легкую досаду от маленькой неприятности, но на лице Евы, вечно ясном и невозмутимо спокойном, такое выражение значило уже очень много.
– Я сознаюсь, что сожалею теперь, что сделал это, не переговорив с тобой, – вымолвил барон виноватым голосом.
– Это будет очень мудрено, – повторила Ева, как бы сама себе, но более глухим голосом.
– Что будет мудрено? Разрыв с ним?
– Да, очень мудрено, – однозвучно и задумчиво снова повторила она.
– Почему же? Я просто не приму его, если он приедет объясняться. Я дал ему слово… Правда… Но это не резон. Мы не знали того, что знаем теперь. Мы были введены в заблуждение. Мы правы, когда отказываем теперь. И все кончится просто…
– Я говорю – мудрено… совсем другое. Мне будет мудрено.
– Объяснись! Я не понимаю, – удивился барон.
– Что же я объясню? Мне нечего объяснять. Я не знаю, но мне кажется, что мне будет очень мудрено забыть…
– Что? Что забыть? Шумского забыть?!
– Не знаю…
– Ты боишься, что его не сможешь забыть! Не будешь в состоянии выйти замуж за другого? Со временем? Не так ли?
– Не знаю.
– Ты не хочешь сказать правду твоему отцу?
– Нет, нет. Я правду говорю. Я не знаю… Мне кажется, что все это будет очень и очень мудрено. Так я и говорю.
И Ева приблизилась к отцу, наклонилась, поцеловала его и затем тихой, обычной походкой ушла к себе.
Барон поволновался около получаса у себя в комнатах, но затем лег спать и скоро сладко заснул. Ева долго не смыкала глаз и целую половину ночи ворочалась в постели, изредка повторяя мысленно и даже шепотом: «Не знаю».
На другой же день после полудня явился фон Энзе довольный и счастливый. Он был убежден, что барон уже успел переговорить с дочерью, и ожидал, что тотчас же сам объяснится с ней. Поэтому он был очень удивлен, когда узнал от барона, что тот еще не говорил дочери ни слова о его сватовстве, так как долго не решался заговорить об отказе Шумскому.
Фон Энзе, человек бесспорно умный, относился, однако, ко всему наивнейшим образом, так как совершенно не допускал мысли, что Ева может любить Шумского. Для фон Энзе порядочность была почти кумиром. Он ставил эту порядочность или джентльменство в жизни и в общественных отношениях выше всего, наравне с честью и нравственностью. Поэтому ему и казалось, что блазень, кутила, предводитель буйной и пьяной шайки офицеров может быть только страшен и даже гадок всякой молодой девушке. А тем паче должен быть гадок Шумский такой девушке, как Ева, невинной, как младенец, чистой помыслами и душой, страдательно относящейся к малейшему неосторожному слову, нечто вроде цветка – Sensitive.[6]6
Мимоза (фр.).
[Закрыть]
Очевидно, фон Энзе своим немецки формальным, порядливым умом не мог верить в замысловатые и необъяснимые противоречия, сплошь и рядом руководящие человеческим существованием. Едва только барон объяснил улану, что он не решился передать дочери о его сватовстве, как фон Энзе предложил тотчас же сделать это сам.
Нейдшильд даже обрадовался.
– И всего лучше, – сказал он. – Да, переговорите с ней и объяснитесь сами.
Через четверть часа все трое были уже вместе в гостиной и после двух-трех слов приветствий, фон Энзе, несколько смущаясь, но отчасти официальным тоном объявил баронессе, что он предлагает ей руку и сердце, так как давно любит ее и сожалеет теперь, что не решался сделать предложение раньше предложения Шумского.
В эту минуту на лице Евы появилось то же самое выражение, необычное у нее. Упорство и твердость или сухость взгляда красивых глаз и будто обидчиво сжатые губы. Она опустила глаза тотчас же и, не ответив ни слова, будто ждала…
После мгновенной паузы барон нашелся вынужденным заговорить, так как лицо улана потемнело и становилось все угрюмее с каждой секундой.
– Ты не отвечаешь, Ева? – спросил барон.
– Я вас попрошу ответить за меня, – тихо произнесла девушка серьезно и без смущения.
– Что это значит, баронесса? – проговорил фон Энзе глухим голосом.
– Я не могу отвечать вам… Я не знаю… Пускай отец мой решит все и ответит за меня.
– Но это невозможно! – воскликнул барон. – Стало быть, сама ты не знаешь, не хочешь, не можешь. Отвечай прямо. Г. фон Энзе поймет, извинит, простит. Все-таки это нам большая честь. Отвечай!
– Я не знаю. Мне кажется, что так нельзя. Все это так никогда не бывает. Если я еще вчера, сутки назад считала себя принадлежащей на всю жизнь одному человеку, то как же теперь через сутки я скажу другому. Все это очень странно…
– Да, правда, – произнес барон, глубоко вздохнув. – Правда. Мы поступаем ребячески.
И обернувшись к фон Энзе, он горячо, красноречиво и очень разумно объяснил, что надо обождать с решением подобного вопроса.
Фон Энзе, сидя, склонился перед Евой и выговорил взволнованным голосом:
– Я готов ждать сколько угодно. Я буду счастлив теперь, если не услышу от баронессы прямого отказа. А ждать я готов, сколько она пожелает. Я не могу опасаться такого соперника, как г. Шумский. Баронесса могла по неведению на время увлечься этим человеком, но когда она узнает, что это за человек, на что он способен, какие позорные и бесчестные намерения были у него, прежде чем он сделал свое предложение, то, конечно, баронесса будет только презирать его.
Ева подняла строгие глаза на улана и выговорила тихо:
– Мне нечего узнавать. Я все знаю.
– Вы не знаете, – воскликнул фон Энзе, – что Пашута, а затем другая женщина – нянька г. Шумского – были лица подосланные к вам ради невероятного замысла.
– Знаю, – проговорила Ева чуть слышно и снова опуская глаза.
Наступило молчание.
– И это не помешало вам, – начал было фон Энзе, но запнулся. – Вы не презираете его? Он не гадок вам?
– Нет. Человек, который сильно любит, отчасти теряет рассудок и поэтому не ответствен вполне за свои поступки! – просто произнесла Ева. – Любовь все извиняет.
– Все! – изумляясь, протянул фон Энзе. – Даже подлость, злодейство?
– Все.
– Я такой любви, баронесса, не допускаю и не понимаю!..
– Вероятно, потому что вы еще никогда никого не любили, – отозвалась Ева утвердительно, как если бы заявляла об известном неопровержимом факте.
– Простите, я сейчас говорил и повторяю, что я вас давно люблю и готов для вас на все на свете. Готов, как говорится, идти на смерть, но сделать что-либо подлое, поступить бесчестно я не смогу, если бы даже на это получил ваше приказание.
– Потому что бесчестье хуже смерти? Тяжелее…
– Да.
– Ну вот видите. А г. Шумский и на это решился, потому что страсть затемняет рассудок.
Фон Энзе слегка разинул рот и не знал, что отвечать. Наступило мгновенное молчание.
– Стало быть, вы думаете, что Шумский любит вас больше, чем я.
– Вы говорите, он шел на злодейство. Надо думать, что за подобное судят, наказывают, ссылают, офицера разжалывают в солдаты, не так ли? А Шумский этого не испугался! Весь Петербург назвал бы его, как вы, бесчестным человеком. Он был бы опозорен и потерял бы все: положение, карьеру, все, все, не так ли? А он шел на это.
Ева замолчала и сухо, спокойным взором глядела на отца и на улана, как бы ожидая возражения, но они оба сидели перед ней изумленные и не отвечали ни слова.
– Так, стало быть, вы любите этого человека! – с ужасом выговорил фон Энзе.
Ева подняла руку с колен, как бы останавливая улана, и быстро прибавила:
– Нет, не знаю. Я этого не сказала, вы сказали, что готовы пожертвовать мне жизнью, но не честью. Я отвечала только, что Шумский готов был пожертвовать всем.
– Но у него нет чести, поймите. У него нет понятия о чести. Он в полном смысле слова негодяй! Простите меня, баронесса. Да. Он негодяй и презренный…
– Трус, – прибавила Ева.
Фон Энзе, слегка озадаченный, пристально взглянул в лицо Евы. Ему показалось, почудилась легкая усмешка на губах ее.
– Нет, я не сказал «трус» и не скажу. Вам, вероятно, известно нечто, что вы бросаете мне упреком. Вы, может быть, намекаете, что я трус, так как несколько раз отказывался драться с Шумским. Но моя честь не позволяет мне становиться под выстрел такого человека, как он. Скажите, неужели вы думаете, что я боялся поединка с ним?
– Я не знаю, что вас останавливало, но, во всяком случае, очень рада, что поединка этого не состоялось. Очень рада, что его не будет, так как это может окончиться несчастливо.
– Мне кажется, – заговорил снова после паузы фон Энзе, – что я своим поведением не доказал ничем малодушия или трусости. Я первый смело бросил в лицо этому человеку его темное происхождение. От меня первого узнал Шумский, что он простой подброшенный Аракчееву крестьянский мальчишка.
– Это с вашей стороны… было жестоко, – промолвила Ева.
– Да, правда. Сознаюсь…
– А виноват ли он в прошлом? Его ли вина, если он был продан родными.
– Конечно, нет, но было с моей стороны отплатой за то, что он умышлял против вас.
– Вы меня защищали?
– Да.
– По какому праву?
– Баронесса!.. – воскликнул фон Энзе укоризненно. – По праву человека, который давно любит вас.
– Я бы не желала, чтобы чья-либо любовь ко мне становилась причиной злых и жестоких поступков. Тот, кто украл из нашей квартиры портрет мой, рисованный г. Шумским, тоже написал мне, что он не простой вор, а поступает так вследствие безумной любви ко мне.
Фон Энзе опустил глаза и выговорил глухо:
– Вы догадались, баронесса. Портрет этот был украден по моему наущению и он был у меня, но теперь его нет. Г. Шумский, как мужик или дикий, ворвался ко мне в квартиру в мое отсутствие, разбил вдребезги раму и стекло, вырезал и унес его…
– Вот видите ли, – вдруг веселее и улыбаясь произнесла Ева. – Два вора, но совершенно на разные лады. Один украл тихо, осторожно, чужими руками, не рискуя собой, а другой – резко, грубо, сам. И я думаю, что во всем вы будете действовать так же, а г. Шумский тоже так же.
Фон Энзе обернулся к барону, который все время сидел, как опущенный в воду, молча переводя глаза с дочери на улана и с него на дочь, будто не понимая ни слова из их беседы.
– Я вижу ясно, барон, что случилось нечто, чего трудно, невозможно было ожидать, нечто, чему я никогда бы не поверил. Если бы мне даже мой отец или моя мать сказали это, люди в каждое слово которых я верю всей душой, и то я не поверил бы. Но теперь я вижу, слышу и не могу сомневаться ни на одно мгновение. Хотя это все ужасно, но это так. Баронесса привязалась сердцем к этому человеку. Она ослеплена и много надо времени, много надо усилий, чтобы раскрыть ей глаза на этого человека. Много пройдет времени, прежде чем баронесса поверит, что такое господин Шумский для всего Петербурга, для всех честных людей.
– Я это знаю, – отозвалась Ева. – Я это слышала отовсюду, от всех. А если бы я и не слышала этого, то вы здесь сейчас назвали его негодяем. А я не имею поводов вам не верить.
– И вы все-таки любите его?
– Я не сказала этого.
– Но это выходит само собой. Это видно изо всего.
– Нельзя видеть, – кротко и спокойно произнесла Ева. – Нельзя постороннему видеть в моем сердце то, чего я сама не вижу. Я знаю наверное и ни на мгновение не сомневаюсь, что г. Шумский любит меня до самозабвения, до забвения всего. Я вижу и понимаю, что я для него все. Но люблю ли я его? Повторяю – я не знаю!..
XVIII
После своего объяснения с графом Шумский пробыл в Грузине только три дня, так как решился тотчас же уступить во всем исключительно ради Евы.
Конечно, в тот же вечер после странного объяснения с Аракчеевым, он послал за матерью, чтобы узнать от нее самой, что побудило ее переменить образ действий. К удивлению Шумского, Авдотья прислала сказать, что хворает и не может быть.
Шумский взбесился, поняв, что Авдотья действует по приказанию Минкиной. Снова закипела в нем злоба и ненависть. Он тотчас же поднялся и отправился сам на ту половину дома, где была комната Авдотьи. Он нашел мать, конечно, совершенно здоровой и сидящей за самоваром. Она оторопела при виде его, вскочила с места, замахала отчаянно руками.
– Уходи, уходи, – зашептала она испуганно. – Зачем пришел? Не приказано мне с тобой ни о чем беседовать, не приказано видаться.
– Ладно, садись, – отозвался Шумский, сел у стола и, заставив оторопевшую женщину тоже усесться, выговорил нетерпеливо:
– Тебе, матушка, хоть кол на голове теши! Что я тебе ни говорил, все как об стену горох. Я на тебя не сердит. Ты не можешь иначе действовать. Скажи мне только, каким образом вышло, что ты отказалась и отперлась от всего?
Авдотья прослезилась тотчас же и, утирая глаза свернутым в комочек платком, объяснила сбивчиво, без связки, что Минкина ее замучила, «затрепала», убеждая всячески заявить графу, что она налгала все Шумскому в Петербурге под страхом его угрозы застрелить ее. И она, наконец, согласилась отпереться.
Затем Авдотья тихо, шепотом рассказала, озираясь и постоянно взглядывая на дверь, что после этого сам граф ее вызывал к себе и в коротких словах объяснил ей, как он смотрит на все это дело.
– Все как-то само собой вышло, – прибавила женщина. – Я от страху ничего ему не сказывала, он все сам говорил и все спрашивал: так ли? А я еле живая поддакивала. И на конец того он мне и говорит: – «Спасибо тебе, Авдотья, за всю твою правду сущую. Ты человек правдивый, богобоязный. И я не забуду этого». Ну, я от него, как из угара, на двор выкатилась!
Шумский, слушая мать, ухмылялся ядовито, потом качнул головой и поднялся порывисто с места. Походив, он вымолвил:
– Ну, матушка, пускай будет по-ихнему до поры до времени.
– Вот это ладно, золотой мой, – обрадовалась Авдотья. – Что проку себя губить. Все опять по-старому и пойдет.
– Да, по-старому! Но не надолго. Будет на моей улице праздник!
Когда на утро Шумский велел доложить о себе графу, тот приказал ему явиться в сумерки и снова продержал перед дверями около двух часов.
На этот раз, однако, со стороны Аракчеева не было ни прихоти, ни издевательства. У него было несколько военных из Новгорода и из Петербурга с докладами.
Приняв старших офицеров и более крупных чиновников, Аракчеев позвал к себе молодого человека. На этот раз он не посадил его и, не глядя на него, сидел, уткнувшись в бумаги лицом.
– Надумался? – выговорил он сухо. – Ну, сказывай коротко, что мне с тобой делать?..
Шумский, стоя в нескольких шагах от него и с ненавистью меряя глазами его фигуру, заговорил тихо, но твердо. Слова его говорили одно, а голос совершенно другое. Он чувствовал это. Аракчеев также почувствовал. Оттенок голоса молодого человека говорил ясно, что он лжет, рисуется своей ложью и презирает причины и людей, заставляющих его лгать.
– Я размышлял и согласился, – говорил Шумский. – Я меньше, чем кто-либо могу знать, чей я сын. Коль скоро женщина, которая объяснила мне все, отказывается от своих слов, то и я должен переменить образ мыслей. Я прошу вас извинить меня за причиненное беспокойство, но вместе с тем у меня есть до вас важная просьба. Есть одно дело, о котором я вам уже говорил. Если оно устроится, я буду счастлив на всю жизнь. Я, может быть, стану другим человеком…
При последних словах голос Шумского изменился и из лживого стал искренним.
– Если устроится то, о чем я давно уже мечтаю, я буду самый счастливый человек, а в этом вы, конечно, можете помочь хотя бы несколькими словами. Если это дело не устроится, то мне тогда, говорю по совести, будет все равно, что со мной ни случись. Тогда мне и Сибирь, и солдатство не страшны, тогда я своим поведением сам заслужу быть в солдатах.
Аракчеев, молчавший и не поднимавший лица от бумаг, поднял голову к Шумскому и взглянул на него вопросительно.
В первый раз в эту минуту Шумский увидел и заметил перемену в лице Аракчеева.
«Эге! Даром-то не обошлось! – подумал он. – Сам-то ты видно поверил, что двадцать лет нахально надували тебя!..»
Но помимо легкой перемены в лице графа Шумский увидел и почувствовал, что Аракчеев смотрит на него совершенно иным взглядом, в котором были и ненависть, и презрение.
«Я знаю теперь, – говорил его взгляд, – что ты мне совершенно чужой человек, крестьянский мальчишка и подкидыш. Ты мне тем ненавистнее, что сам раскрыл мне глаза на подлое поведение женщины, мной любимой».
И покуда Аракчеев стеклянными глазами упирался в Шумского, этот многое, как в книге, читал иа его лице и читал, казалось ему, безошибочно.
После небольшой паузы Аракчеев выговорил резко:
– Какое дело? Сказывай!
– Я уже говорил вам в Петербурге, что хотел бы жениться на баронессе Нейдшильд…
– Отличное дело! По крайности перестанешь пьянствовать и праздно шататься.
– Я должен доложить вам, что объяснялся с бароном неофициально, так как еще не имел вашего разрешения, а так в разговоре намекал. Барон принял мое предложение под условием вашего согласия, конечно…
– Я согласен.
– Но затем, – продолжал Шумский, – когда фон Энзе распустил по всему Петербургу известие о том, что я не сын ваш, когда это дошло до барона Нейдшиль-да, он написал мне письмо, в котором на основании этого известия наотрез отказывает мне. Если вам угодно, я представлю это письмо.
– Мерзавцы! – тихо, но резко и озлобляясь, произнес Аракчеев.
– Вот я и не знаю как теперь быть? Теперь все рухнуло. Барон поверил так же, как и я, во все, и помимо вас, конечно, никто не может убедить его в противном. Если вы не пожелаете вступиться сами в это дело, то, конечно, ничего не будет, и барон выдаст дочь насильно замуж за улана фон Энзе.
– Ну, это мы увидим! – выговорил с угрозой Аракчеев. – Через несколько дней я вернусь в Петербург и примусь за этого старого дурака по-своему.
– Стало быть, я могу надеяться на ваше заступление?
– Веди себя благоприлично и все устроится, а теперь нечего тебе сидеть в Грузине. Выезжай сегодня же в столицу, перевидай всех своих знакомых и приятелей и путных, и беспутных, коих у тебя, наверное, много больше, и всем им сам рассказывай, какую про меня и про тебя мерзость сочинили. Не жди, чтобы тебя спрашивали. Только виноватые ждут опроса. Сам заговаривай! Чести улана подлым вралем и клеветником. Я, знаешь, против всяких соблазнов и буйства, против поединков, но, если бы ты мог за дело взяться горячо и, заступившись за честь Настасьи Федоровны, проломил бы голову этому фон-барону… то хорошо бы сделал.
– Спасибо за разрешение, – выговорил Шумский, невольно улыбаясь. – Я уже три раза вызывал фон Энзе на поединок, но он отвертелся. Теперь я надумаю что-нибудь такое, что он не отвертится.
– Прямо говори всякому, – продолжал Аракчеев, видимо занятый какой-то мыслью, – говори: за честь родной матери заступаюсь. Ну, собирайся! Наутро же можешь выехать, а я дня через три, четыре буду тоже.
Шумский поклонился и хотел двинуться.
– Денег нужно? – пробурчал Аракчеев, уже снова глядя в бумаги.
Шумский молчал.
– Слышал?..
– Слышал-с, – тихо отозвался Шумский.
– Ну?!..
– Нет-с.
– Что же? Много еще есть? Старых осталось?
– Да-с, – вымолвил Шумский и по голосу его ребенок догадался бы, что он лжет.
– Что же это? Артаченье опять? Ведь у тебя, поди, ни копейки нет? Только долги.
Шумский молчал.
Какой-то внутренний голос говорил ему, что он уже достаточно много допустил сделок со своей совестью за эти три дня. Этот голос как бы запрещал ему согласиться взять денег. Давно ли он думал, что ему нужно, ворочаясь в Петербург, жить на одном жаловании офицера, а теперь снова начинается то же самое.
Между тем, Аракчеев взял лист бумаги, перо и писал поперек листа крупным почерком. Затем он расписался, расчеркнулся и, обсыпав лист песком, протянул с ним руку к Шумскому.
Этот взял лист и, глянув на него, увидел распоряжение в вотчинную контору о выдаче ему тысячи рублей ассигнациями.
Взяв бумагу, Шумский понурился, подавил вздох, как если бы с ним сделали нечто обидное, что отомстить он не в состоянии. Он знал, что должен тотчас же поблагодарить графа и поцеловать у него руку, как делывал прежде, но чувствовал, что не может даже произнести слова «спасибо».
– Ступай! Мне некогда, – выговорил Аракчеев, как бы желая сам прекратить неловкое положение.
Ворочаясь к себе, Шумский вдруг вспомнил нечто удивительное и сразу остановился среди какой-то комнаты.
– А к ней не послал? – прошептал он вслух. – К ней прощения просить не послал! Стало быть понимает, что я все-таки не на всякую гадость способен. Он понял, что на это я бы не согласился. Да не знаю пошел ли бы я просить прощения у достоуважаемой и достопьяной Настасьи Федоровны. Даже для Евы не знаю пошел ли бы… И он понял это. Стало быть, умнеть начал наш граф.
Наутро часов в восемь дорожный экипаж с ямскими лошадьми уже стоял у подъезда. Люди таскали вещи, а Шваньский, упорно за все свое пребывание не казавшийся никому на глаза, снова появился на свет Божий, весело двигался и командовал людьми.
Фигура и лицо его были далеко не те, что по приезде. Это был снова прежний Шваньский – молодец на все руки. Даже люди, исполнявшие его приказания, заметили перемену и кто-то из них выразился:
– Ожил наш Иван Андреич! Знать все к благополучию потрафилось.
Действительно, если было теперь вполне счастливое существо в Грузине, плакавшее от радости, то это была Авдотья Лукьяновна, но у нее радость и счастие выразились тихо и даже боязливо. После же нее самый счастливый человек, оживший, быстро ходивший, громко говоривший, чуть не прыгавший от радости, был Шваньский. Он ликовал за патрона, но и за себя самого.
За час перед тем Шумский, увидевший своего Лепорелло, невольно озлился на него, как бы устыдясь своего поведения.
– Чему радуешься, дура, – вымолвил он грубо.
– Как же не радоваться, Михаил Андреевич? Помилуйте! С ума спячу от радости. Целый год буду от зари до зари радоваться.
– Ну нет, сударь мой, коли хочешь радоваться, так радуйся поскорей. Поспеши! Года я тебе на это не дам.
– Как же так? – опешил Шваньский.
– Так. Радуйся скорей! Придется тебе опять печалиться.
– Ну вот, Бог милостив, не будет этого, – отозвался Шваньский, принимая слова патрона за пустую угрозу.
Уже готовый к отъезду Шумский со шляпой в руках, даже нацепив саблю и надев перчатку на левую руку, вдруг собрался отправиться к Минкиной.
«Подобает мне ее лицезреть или мордозреть, – пошутил он, злобно усмехаясь. – Сделаю уступочку дуболому, а сударыне-барыне – вежливость. Лжесыновний долг мой перед отъездом явиться к ее сиятельству Аракчеевской графине, у коей братец есть любимый, коему званье не графчик, а графинчик!»
Войдя в первую горницу Минкиной, нечто в роде гостиной, Шумский послал горничную сказать, что пришел проститься. Настасья Федоровна тотчас же вышла к нему навстречу, но, сделав несколько шагов, остановилась.
Перед ней стоял нахально улыбающийся офицер. Это был гость, явившийся издеваться. Едва только женщина вошла в комнату, как Шумский шаркнул ногой, звякнул шпорами и баловнически наклонил голову на сторону.
Во всей его фигуре была неприличная любезность хлыща, будто приглашающего сомнительную даму на танцы. Довести издевательство и глумление далее было невозможно. Даже Минкина почуяла, какие офицеры и с какими женщинами так ведут себя.
– Честь имею, фрейлен, представиться и откланяться, – проговорил Шумский певуче. – Еду в Санкт-Петербург. Не будет ли каких поручений? Осчастливьте!
Минкина слегка переменилась в лице, глаза ее загорелись гневом:
– Провались ты на первом мосту! Издохни на полдороге! – проговорила она глухо и, повернувшись спиной, пошла из комнаты.
– Apres vous, madame![7]7
После вас, мадам! (фр.).
[Закрыть] – предупредительно и снова шаркая ножкой, поспешил вымолвить Шумский ей вслед. Выйдя из комнаты, он прибавил однако:
– И за каким чертом я все это творю? Ведь это еще хуже. Уехал бы прямо, не прощаясь! Шел сюда, мысля уступочку графу сделать, а вместо того над канальей потешился. Точно будто кто-то властвует надо мной. Ох, Настасья Федоровна, уж как же я тебя люблю! Как я тебя люблю, один Бог видит!
Когда все было готово, Шумский послал доложить графу, что он едет. Вернувшийся лакей объявил, что граф «желают счастливого пути, принять не могут, не время».
Шумский спустился по лестнице в швейцарскую, затем сошел с подъезда и, подойдя к экипажу, уже занес ногу, но остановился.
«А мать?» – мелькнуло в голове.
Он забыл проститься с Авдотьей Лукьяновной.
«Да и она тоже… – подумалось Шумскому с досадой. – Провалилась куда-то. Могла бы придти!..»
Он простоял несколько мгновений в нерешительности, а затем досадливым движеньем сразу влез в экипаж. Шваньский быстро вскочил вслед за ним. Столпившаяся кругом дворня кланялась со всякого рода пожеланиями.
– С Богом! – выговорил Шваньский ямщику. Лошади тронулись, а Шумский рассмеялся и выговорил:
– Отсюда с Богом, конечно. Вот сюда с Ним никому не дорога!






