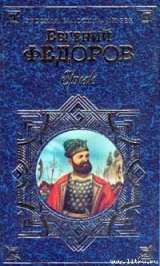
Текст книги "Ермак"
Автор книги: Евгений Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Спустя много времени она снова появилась в подвале.
– Ну вот и я, казак! – Зюлембека держала узелок в руке и улыбалась. – Заждался? В самую пору бежать. Непогодь, ночь… Иди за мной!
– А кедолы? – горестно вспомнил казак.
– Погоди, я сам! – потянулся к напильнику Ермак. – Ах, ты моя добрая…
– Молчи! На руках я сниму… – прошептала Зюлембека и заработала напильником. Трудно ей было, но все же руки у Ермака скоро стали свободными.
– А теперь дай-ка я! – схватил Ермак напильник и вмиг снял кедолы с ног.
– Ну вот и все! – обрадовалась татарка. – Иди за мной! – она юркнула в подземелье, а за ней еле протиснулся широкими плечами и Ермак. От затхлого воздуха у него захватило дыхание.
– Не бойся, не бойся! – ободряла казака Зюлембека.
– А чего мне бояться? – весело ответил Ермак, пробираясь на коленях по тесному длинному лазу. – Семи смертям не бывать, а одной не миновать! Снова лаз расширился и они оказались в галерее, одетой заплесневелым камнем. Под ногами хлюпала вода, но откуда-то тянула струйка свежего воздуха. Ермак шумно вздохнул.
Женщина долго прислушивалась, но кругом царило ничем не нарушаемое глубокое безмолвие. Потом снова заторопилась. Вот показался мутный свет, и они вышли в огромное подземелье, придавленное грузными сводами. Ермак нащупал бочку.
– Торопись, тут страшно, – прошептала татарка.
«Бочки? Неужто те самые, что катали с галер? Зелье!» – думал Ермак. Внезапно о поскользнулся и ушибся об острый край. Зюлембека прильнула к нему, взволновано огладила ладонями его бородатое лицо:
– Больно? Потерпи, теперь скоро…
Но время тянулось… С трудом добрались они до нового тайного лаза. Татарка схватила Ермака за руку и прошептала:
– Вот и конец!
Она тихонько сдвинула плиту, свежий ветер пахнул в лицо, и горячая радость охватила пленника. Вслед за женщиной он выбрался в густые кусты ивняка и оглянулся: сквозь рваные тучи светила луна, мокрый ветер шумел и сбрасывал с кустов и деревьев дождевые капли.
– Придет туча и тогда торопись! – сказала женщина. Она прижалась к плечу Ермака, погладила его руку. Ермак крепко обнял ее.
– Спасибо, Марьюшка, – назвал он Зюлембеку русским именем. – Век не забуду твоей послуги! – И вдруг спохватился, спросил: – А как же ты? Айда со мной!
Она печально повела головой:
– Нет, мне нельзя… Здешняя я… татарка. А станичников помню… жалели!..
– Ну, как знаешь, – вздохнул Ермак, – и то сказать: для каждого своя сторонушка родней всего!
– Прощай.
– Прощай, добрая душа! – ответил Ермак и еще раз на прощание обнял татарку.
«Что ж, так и уйти, не отблагодарив супостатов? – спросил себя Ермак, едва за женщиной перестали шуметь кусты. – Нет, надо вернуться к зелью…»
Он быстро достал из узла трут и кремень с кресалом и уполз обратно в тайный лаз…
Погода разгулялась, и луна уже щедро озаряла азовские крепостные стены и башни, когда Ермак вылез из подвала. На берегу перекликались сторожа, а из-за Дона доносилось ржанье кобылиц.
Ермак подождал набежавшего облачка и скользнул в ров, к Дону. Вот и река! Он погрузился в парную воду и поплыл…
На другом берегу Ермак долго лежал – отдыхал и ждал… И вдруг над Азов-крепостью блеснули молнии и раз за разом загрохотали могучие взрывы. Они потрясли и землю, и воздух, и воды Дона, который вдруг кинулся на берег. Потом грохот стих, и утренний ветер донес до Ермакам приглушенные крики:
– Алла! Алла!
«Вот оно как! – ухмыльнулся в бороду Ермак. – Ну теперь и к дому пора!»
Проворный быстроногий конь Ермака увернулся от татарского аркана, вырвался в степь и на второй день прибежал в разоренную станицу.
На зорьке Иван Кольцо заслышал знакомое ржанье.
Обрадовался казак:
– Ермак прискакал!
Но у землянки друга, опустив голову, скакун бил копытом в землю. И понял Кольцо – стряслась с Ермаком беда. Собрал сотню, и побежали казаки в степь.
Вслед им грозил Бзыга:
– Без атаманского слова убегли шарпать зипуны, погоди, вернетесь к расплате!
Много дней казаки рыскали по осенней степи. С восходом солнца перед вольницей открывался безбрежный мир большого синего неба и просторной тихой степи. И каждое утро приходило укутанное туманами, обрызганное росой, с трубными кликами журавлей. В диком Поле виден каждый конный и каждый пеший. Молчаливым, мертвым казалось оно, а на самом деле везде – у курганов, на перелазах, у колодцев – кипела невидимая жизнь; подкарауливала татарская стрела, аркан лихого наездника и просто острый нож немирного степняка.
На зорьке казачья сотня мчалась вдоль Дона к Азову. На востоке уже блестели светлые полоски. Они росли, ширились и гасили звезды одну за другой. Холодный свежий ветер гнал ковыльные волны по степи. Иван Кольцо привстал в стремени и прислушался.
– Тихо у турок, тихо, словно на погосте! – вздохнув, вымолвил он. – Вот бы ударить на супостатов, да крепки стены и башни!
И только выговорил последнее слово, над вражьей крепостью полыхнули молнии и грянул гром.
Казаки ахнули – высоченная башня вдруг вздрогнула и глыбами, дробясь, поднялась вверх, и все скрылось в тучах пыли и дыма.
– Эко диво! – воскликнул Кольцо. – Никак, братки, подорвались турки. Ой, подорвались!
Казаки придержали коней и стали слушать.
– Так и есть! – заговорили они. – Взрыв это!
Радость их тут же сменилась печалью.
– Может, и Ермака больше не стало! – подал голос Гроза.
Богдашка Брязга вскинул голову и беззаботно ответил:
– Не из таких Ермак, чтобы погибнуть, он из полымя живым выйдет…
Казаки задумались. С час они ехали, вспоминая взрыв и Ермака. И вдруг далеко впереди разглядели человека, медленно бредшего им навстречу.
– Ермак! – радостно закричал Кольцо. – Братцы, это он, по обличью видно!
Все сразу сорвались с места и с гигиканьем понеслись по степи. Человек, видно, тоже узнал скачущих, замахал руками и закричал:
– Иванушко!..
А ноги подкашивались, не слушались, и озноб потрясал все тело. Но Ермак все же добежал до резвого коня и уцепился за стремя. Только и вырвалось:
– Други!.. Браты!..
И, как подрубленный дуб, упал на землю.
После плена Ермак захворал было, но через неделю уже крепко сидел на коне.
– Приспела пора, Иванушка, избыть твою кручину. Побежим в татарскую орду, отыщем твою сестру и выручим из полона, – сказал он Ивану.
– Спасибо, казак, – ответил Кольцо, – век не забуду твою послугу. Трое ден тому назад взяли одну ясырку и поведала нам татарка: тоскует сестрица Клава за Сивашем, в самом Перекопском городке, у тамошнего мурзы Алея.
– И я с вами, братаны! – разудало тряхнул головой Брязга и лукаво прищурил глаза. – Только чур, Иванко, за себя Клаву беру!
– Аль слово тебе дала? – серьезным тоном спросил Кольцо.
– Слов не было и запевок то ж, а так, девка-краса по мне! – жарко выпалил цыганистый казак.
– Я сестре не хозяин. Дон вольный, и сердце девки вольное. Обратаешь ее, – твое счастье! – дружелюбно сказал Иван.
– Твоя правда, – согласился Брязга.
Не спросив у атамана слова, лихая ватажка выбралась в степь. Бзыга стоял на крылечке, тяжело дышал, глаза потемнели от гнева. Чуял он, что неладно в станице, что растет против него непримиримая сила. Догадывался он, что Ермак знает об его измене и не простит ему. Быть жестокой схватке!
– Погоди, голь перекатная, мы еще переведаемся, кто из нас сильнее: заможние казаки или голытьба? – пригрозил он и, стуча сапогами, вернулся в избу.
Осень простерлась над степью. Высохли травы, и только перекати-поле, подпрыгивая, уносилось вдаль под пронзительным ветром. Серое небо жалось к земле. У озер и в речных долинах погас багрянец дубрав. Рано опускались сумерки над безбрежным и безмолвным простором.
Казаки неутомимо держали путь к Перекопу. Отдыхали днем в глухих балках, грелись у костров. Ермаку мила была тревожная, гулевая жизнь.
– Эх, поле-полюшко! Разгульное и широкое, Нет ничего слаще воли! – радовался он.
…Темная ночь давно уже спустилась над Перекоп-городком. В маленькой крепости с глинобитными стенами горели одинокие огоньки. В селении перебрехивались псы. Мурза Алей, жирный, дородный татарин в шелковой красной рубахе с растегнутым воротом, в широких шароварах, опущенных в мягкие сафьяновые сапоги, бродил неслышно в низеньком покое. Он был сильно не в духе: донская полонянка – подарок хана – не допускала к себе.
Девлет-Гирей берег белокурую девушку с серыми задорными глазами, задаривая подарками, вывезенными из Кафы, но пленница все отталкивала, а хану кричала:
– Уйди, уйди, старая образина, пока очи не выцарапала!
Старая Фатьма знала многих девушек, попадавших в гарем хана, но такой строптивой и злой еще не видела.
«И чего хорошего нашел в ней повелитель? – думала о пленнице татарка. – И телом худа, и грудь велика, по силе – казак! Чего доброго, удушит хана в первую ночь! Аллах, да минуют меня беды!»
Клава и впрямь чуть не зарезала Девлет-Гирея. И откуда только добыла пленница короткий воровской нож? Все ждали, что хан казнит отвергшую его ласки, но тот решил иначе, – отдал ее мурзе Алею.
– Ты просил у меня доброй награды за поход на Астрахань, полюбуйся на донскую добычу, может, тебе хватит одной красавицы! – сдержано предложил Девлет-Гирей. – Фатьма приведи сюда Клаву.
Мурза, склонив круглое полное лицо, с нетерпением ждал выхода девушки, а на душе кипело недовольство ханом. Еще бы! Повелитель Крыма всегда хитрил, обманывал, его лукавство было всем известно. Не может он уступить лучшего из добычи.
Но пресыщенный жизнью мурза Алей широко раскрыл глаза, когда увидел девушку. Перед ним предстала стройная, гибкая, как молодой камыш, светлоокая красавица. Румянец залил ее щеки, и чуть-чуть дрожала от гнева ее верхняя губа. «Ого! С большим норовом! – подумал Мурза. – Но это тем лучше. Чем труднее схватка, тем слаще победа!»
Он охотно согласился на дорогой, но и виду не подал хану, что его охватило жгучее желание любви. В сопровождении конников он доставил полонянку, укутанную тканями, к себе, в Перекопскую крепость, и отвел ей лучшие покои. Правда у него не было дворца и сада с фонтанами, но зато не было и отвратительной дряхлой Фатьмы, которую ненавидели наложницы хана.
Мать Алея, Денсима, обрядила девушку в оранжевые шелковые шальвары, на руки одела золотые запястья, на шею – янтарное ожерелье. Такие ожерелья носили только московские боярышни. Казалось крупные бусы впитали в себя солнечное сияние знойного лета. Они очень шли к лицу девушки. Клава целый день вертелась перед венецианским зеркалом, любуясь своими нарядами. Добродушная татарка похлопывала ее по спине и плечам и ободряла:
– Ой, хороша! Ой, чаровница!
Клаве нравились наряды, но тяготила неволя.
От тоски она долгими часами распевала грустные песни.
– Зачем терзаешь свое сердце? – говорила старуха. – Мой сын имеет только пять жен. Ты будешь у него шестая и первая среди жен! Он красавец и добрый джигит! – она не жалела слов, чтобы расхвалить своего сына, наделяя его всеми добродетелями мира.
Однако полонянка была равнодушной к похвалам старой татарки. Она недовольно поморщилась, вспоминая Алея, – мясистого, потного, с большой бритой головой и широким приплюстнутым носом.
– Я не буду ни первой, ни шестой женой твоего сына! Я зарежу его, если он подойдет ко мне! – ответила она матери Алея.
Пиала с горячим чаем выпала из дрожащих рук Денсимы и пролилась на угли мангала.
Мать обиделась за сына:
– Он силен и ловок! Любого скакуна объезжал в степи. Во всем Крыму нет лучшего всадника! – воскликнула она.
– Я не скакун, а девушка! – дерзко отозвалась Клава.
Старуха присела перед мангалом и опустила голову.
Она невольно вспомнила свою юность. Разве она сама не была когда-то молодой и не мечтала о любви? Но родные продали ее скотоводу, который обращался с ней, как с коровой.
На западе давно погас закат, а на востоке поднялся прозрачный серп месяца. Ночь была тихая. В степи, у Перекопа, давно высохли отливавшие серебром короткие травы, и отары овец откочевали на другие места, где еще можно было найти свежий нетронутый корм. Оттого в степи стало пустынно и тихо.
Денсима задремала у мангала. Клаве виден ее смуглый лоб, грязные пряди волос и дряблые морщинистые щеки.
«Сбежать бы!» – с тоской подумала и нечаянно забряцала монистами. Старуха приоткрыла лисий глаз и снова задремала. А Клаве не спалось – все время вспоминалась станица, Дон. Заплакать бы, закричать от тоски… но страшно приманить голосом Алея. Она слышала по тяжелым шагам, что он не спал и должно-быть, как всегда курил из своей коротенькой трубочки. Придет ли когда воля? Увидит ли она родных, брата Ивана, который не раз в шутку звал ее казаковать?.. Помнят ли о ней на станице?..
В эту ночь через лиманы Сивашей пробиралась казачья ватажка. Мелкие воды серебрились и ходили рябью под ногами коней. Копыта уходили в мягкий ил. Казаки бесшумно миновали заливы, местами поросшие густым камышом, и выехали в степь. Ермак махнул рукой, и станица понеслась к Перекопу. Вскоре мелькнули редкие огоньки и донесся отдаленный лай псов.
– Ну, братцы, помогите! Наступил мой час! – сжимая плеть, тихо вымолвил Кольцо. – Пусти, батька, меня вперед, я тут каждую тропу знаю!
– Нет, не тебе быть тут первым! – твердо сказал Ермак. – Горяч крепко. Казак Гроза поведет нас до городка: он тут свой, и позвали Иванку Грозой за Перекоп. Одного имени татары испугаются!
Сухой, с ястребиным носом Гроза выскочил вперед и выхватил саблю.
– Только без крику, ребятушки! – оборотясь, предупредил он.
На всем пути казаки не встретили ни пастушечьих отар со страшными зверовыми псами, ни дозоров. Повернув вправо коней, доскакали до городка и ворвались в узкую улицу.
Мурза Алей уже засыпал, когда услышал возле своего дома шум. Осердясь, что смеют беспокоить его, он взял свечу и шагнул было за порог, чтобы взыскать с виновных, и вдруг лицом к лицу встретился с рослым казаком. Не успел мурза удивиться и закричать, как сверкнула сабля, и бритая голова его скатилась на порог. Иван Кольцо шире распахнул дверь и бросился вперед.
– Иванушко! – закричала Клава и, вскочив с подушек, бросилась на шею брату.
Денсима приоткрыла глаза, и в жилах ее от ужаса застыла и без того холодная кровь. «Ой, старая Денсима еще хочет жить! Она знает, что значит казак в ауле!» – татарка склонила ниже голову, хотя чуткий слух ее ловил каждый шорох.
– Братику, братику! – вопила Клава и тащила казака из опочивальни. – Скорей, братику!
На дворе разливался озлобленный лай псов, послышались крики татар.
– Гей-гуляй, казаки! – ошалело кричал Брязга, стегая саблей подушки и пуховики, из которых летел пух. Он бил зеркала, ломал дорогие чубуки мурзы, и только изукрашенные золотой насечкой добрые пистолеты пощадил и засунул за пояс.
– Никак и ты тут, шалый? – смеясь крикнула ему Клава.
– До тебя скакал, девчина. Спасу нет, как торопился!
– Будет тебе брехать! Слышишь драку? – Клава блеснула глазами и бросилась в боковушку.
– Да ты куда подевалась, девка? – заорал Брязга.
Клава выбежала с саблей и закричала:
– Коня мне, коня, братики!
Во дворе рубились донцы и татары. Клава заметила кряжистого бородатого казака. С головы его свалилась баранья шапка, черные волосы рассыпались. Он на отмашь бил набегавших ордынцев.
Клава тенью промелькнула к загородке, быстро выбрала высокого коня, взнуздала и птицей взлетела ему на спину. Жеребец перескочил изгородь и стрелой помчался в проулок. Казачка осадила его и взмахнула саблей над первой попавшейся бритой головой. Конь поднялся на дыбы, подминая под себя набежавших сторожей…
Ермак крикнул станичникам:
– Не задерживайся, братцы! На конь!..
Денсима открыла глаза и зашевелилась, когда все стихло во дворе. Густая темная ночь придавила землю и городок, мерцали редкие звезды, а во дворе тоскливо выла собака. Денсима догадалась: не стало больше ее сына Алея. Старая татарка упала на кошму и тоже завыла, забилась в горе…
Казаки скакали по степи. Кони их вспотели и утомились, под копытами чавкала липкая грязь. Вот и Сиваш!
Скакун Ермака зафыркал, но полез в воду. Лиманы разлились, было глубоко. Потеряв дно, жеребец поплыл, поплыли и другие кони. Когда казаки выбрались из топкого лимана, стало рассветать, подул южный ветер. Ермак поглядывал на Клаву, прикрытую черной косматой буркой. Она прямо держалась на коне, лицо ее побледнело, но серые глаза были полны отчаянного блеска.
«Хороша девка, ей ба казаком родиться!» – одобрил Ермак.
Взошло солнце, и казаки сделали в балке привал. Разложили костер и греться. Клава сбросила тяжелую бурку и, сидя у огня, отжимала мокрые косы, – были они толстые. Сначала она только и занималась ими, но, взглянув мимолетно раз-другой на Ермака, задумалась. Что случилось, – не понимала и сама казачка. Смотрела и все больше ощущала сладкую истому в сердце и во всем теле. Оттого, что Ермак держался сурово и не глядел на девушку, ей было обидно. Веселый Брязга вертелся козырем, он то заговаривал с ней ласково-нежно, то дерзко шутил, но Клава почти не отвечала ему.
Иван Кольцо заметил перемену в сестре и спросил удивленно:
– Ты что это печалишься?
Молодая казачка вспыхнула и отвернулась, но скоро овладела собой и, смело глядя брату в глаза, шепнула:
– Люб мне Ермак!
Кольцо присвистнул: «А как же Брязга?», и строго сказал:
– Смотри, не балуй, Клава! С казаками озоровать не допущу, – порушишь товарищество!
Клава зарумянилась, сверкнула глазами, но промолчала.
Занялся солнечный осенний день, догорел костер, и казаки тронулись в путь. Лесная чаща пестрела красными листьями кленов, золотом берез и кровавыми каплями ягод калины. Над тропой в золотистом воздухе плясали мошки.
Так и не было за ватагой погони…
6
Сроднился Ермак с Диким Полем, с ратными людьми и со всей станицей. Жил он, однако, на отшибе, в своей нетопленной неуютной хибаре. Был повольник суров и требователен к себе, не видели его ни хмельным, ни сластолюбивым. Одна у него таилась страсть; ненавидел казак атамана Бзыгу. Напрасно к нему, одинокому, забегала сероглазая Клава, бряцала золотыми монистами и вела лукавые речи. Ермак угрюмо слушал ее. Не нравилась ему станичница за легкий нрав и за озорство, неприличное для девушки. «Хватит мне и Уляши, царство ей небесное!» – думал он.
Иногда Клава шаловливо таращила глаза, из которых брызгал смех и, дерзко смеясь, предлагала:
– Возьми меня, казак, в женки! – Хватит шутковать, насмешница, – строго прерывал ее Ермак, – не быть тебе доброй казацкой женкой! – Ан врешь, буду!
Клава смеялась и злилась.
– Хочешь, печку твою истоплю, рубаху постираю. Я все могу! Я коренная станичная девка. Ой, какой рачительной женкой буду!
Кровь бушевала в здоровом теле казака, но он не хотел поддаваться мимолетной страсти:
– Уйди, а то зарежу!
Клава испугано пятилась к двери.
– Ты и впрямь… это сделаешь? – спрашивала она, не сводя с Ермака пристальных глаз. Ноздри ее короткого прямого носа жадно трепетали.
Ермак тяжело дышал. Казачка быстро подбегала к нему, обжигала поцелуем и, смеясь, исчезала.
Казак оставался один, ошеломленный и сбитый с толку. Среди зарослей шиповника мелькали красные шальвары Клавы, и пламя их долго стояло в глазах Ермака. «Огонь девка! – смятенно думал он. – Ох и беда мне! Но нет, не поддамся, не свяжу себя!.. Другое мне на роду написано…» – отгонял он прочь соблазн.
Скоро не только Ермаку, но и всему Дону стало не радостей и не до гульбы – в донские степи пришел страшный голод. В понизовых станицах хлеба не сеяли, а в верховьях, в казачьих городках, нивы пожгло солнце. В ногайских степях нехватало корма и гибли стада. Это еще больше усилило беду. От голода умирало много людей, трупы ногайцев валялись на перепутьях и тропах. Турки из Азова сманивали казаков:
– Служи, казак, султану, будешь сыт, накормим!
Обидно и горько было слышать насмешки вековечного врага. Но приходилось терпеть – помощи неоткуда было ждать. В довершение беды, атаман Бзыга, попрежнему сытый и жирный, ни о чем не беспокоился. На жалобы казачьих женок и ребятишек он выходил на крыльцо станичной избы и успокаивал их:
– Вы потише, женки, потише!.. Чего расшумелись?
– Нам хлебушка, изголодались!
– А я что, нивы для вас сеял? – усмехаясь разводил руками Бзыга.
– Хлеба не сеял, а амбары полны! – закричала истомленная женка.
– Амбары мои, и я им хозяин! – отрезал атаман. Прищуренными глазами он бестыдно обшарил толпу станичниц и закончил с усмешкой: – Нет хлеба у меня для всех, а вон той гладенькой молодушке, может, и найдется кадушечка пшена!
– Подавись ты своим хлебом, кабель толстогубый! – обругалась красивая смуглая казачка. – Женки, идем сами до амбаров!
– Ты только посмей, будешь драна! – пригрозил Бзыга. – Ты гляди, рука у меня злая, спуску не дам!
Ермак все это видел и слышал, и сердце его до краев наполнялось гневом. Станица, как мертвая, лежала безмолвной и печальной. Больно ему было смотреть на исхудалых детей и стариков. Каждый день многих из них относили на погост. Ермак ломал голову, но не знал, как помочь общему горю. Он и сам еле-еле перебивался, – выручало лишь железное, крепко сколоченное тело.
Утром он сидел задумавшись, в своей хибаре. Скрипнула дверь и в горенку, сутулясь, вошел Степанко.
– Здравствуй, побратим, – низко поклонился он Ермаку. – Прости, не хотел тревожить, да наболело тут, – показал он на грудь. – Не гони меня, одной веревочкой мы с тобой связаны, нам вместях и горе избывать!
– Что ты, братец? – обрадовался его приходу Ермак. – Время ли старые обиды вспоминать? Садись, давай думать будем…
Станичник опустился на скамью и долго молчал.
– Тяжело молвить о том, что робится в станице, – медленно, после раздумья, заговорил он. – Конец приходит казачеству, народ умирает, а в той поре атаман на горе-злосчастье наживается. Ты совестливый и добрый казак, скажи мне, доколе злыдней терпеть будем? От веку стоял вольный Дон и так повелось, что наикраше и дороже всего было тут казацкое братство. Добычу делили, – не забывали ни сирот, ни вдов. Где наше лыцарство? Куда подевалось оно? И на Дон, видать, пробралась тугая мошна. Не видели, проглядели, как исподволь поделились казаки. Ныне я голутьбенный, а Бзыга заможний. Идет конец вольному казачеству!
Степанко закашлялся, схватился за грудь. Заметно было: постарел бывалый казак, согнулся, поседел весь.
Слова его задели Ермака за живое. Он и сам думал так, как Степанко. Схватив гостя за руку, Ермак с чувством сказал:
– Спасибо, сосед, золотое слово ты вымолвил! Только не век Бзыге праздновать! Укоротим атамана!..
Станичник покосился на оконце и зашептал:
– Проведал я, что сверху будара с хлебом пришла, а Андрей задержал ее в камышах за красноталами. Темной ночью перетаскают хлес с есаулами по сусекам, а казаку ни зернышка! А потом за горстку хлеба душу в заклад от казака потребует!
– Не быть сему! – побагровев, выкрикнул Ермак. – Хлеб всему вольному казачеству! Поспешим на майдан. Скличем станицу, да Бзыгу за глотку! – Он сорвался со скамьи, снял со стены саблю. – За мной, побратим!
Еле успевал Степанко за проворным казаком. Ермак торопился к площади и на ходу выкрикивал:
– Эй, станичники, эй, женки, на майдан! – Он подбрасывал набегу шапку с алым верхом и взывал: – За хлебом, браты, за пшеничкой, женки!
Словно пороховая искра зажгла станицу, по куреням жгучей молнией полетела весть:
– За хлебушком!
– С вешней воды печеного не вкушали!
– Хлеба-пшенички!
Каждый сейчас выкрикивал самое дорогое, самое желанное. Ермак тем часом добежал до вышки, соколом поднялся на нее и ударил в колокол. Над станицей пошел сполох. На майдан бежали и старый, и малый. Кругом уже шумел народ. Прискакал Полетай, распушив свои золотистые усы. Следом за ним – Брязга в широких шароварах, опоясанный шелковым кушаком. Вокруг Степана началась толчея:
– Где о хлебе слышал?
– Браты, – в ответ кричал Степан. – Казаки-молодцы, хватит с нас тяжкой беды! Нашей мертвечиной волки обожрались! Дону-реке истребление идет!
– Что молвишь такое, казак! – остановил его Полетай и, распалившись гневом, сказал: – Казачий корень не выморишь! Не дает Бзыга хлеба, сами возьмем! Говори, Ермак!
Ермак неторопливо вошел в круг, снял шапку и низко поклонился на четыре стороны. На майдане стало тихо. Среди безмолвия раздались возбужденные голоса:
– Да говори скорей! Сказывай правду, казак!
Ермак повел темными пронзительными глазами, вскинул курчавую бороду.
– От веку непокорим Дон-река, – зычно заговорил он. – Издревле вольными жили казаки и лыцарство блюли. На Руси боярство гневливое похолопствовало простого человека, а на Дону – Бзыга на горе нашем жир нагуливает! Кто сказал, что хлеба нет? Есть у нас и хлеб, и водица!
Щербатый есаул Бычкин повел рачьими глазами и выкрикнул в толпу:
– Что зипунника слухаете? Куда заведет вас?
Полетай гневно перебил есаула:
– Зипуны на мужиках серые, а ум богатый! Аль зипунники не Русь?
– Русь! Русь! – дружно ответили казаки и, оборотясь в сторону есаула, сердито вопрошали: – Уж не ты ли со Бзыгой пашу Касима в степи поморил? Шалишь – мы всем войском отстояли землю родную и Астрахани пособили! Где Бзыга, зови его сюда, пусть скажет, где хлеб припрятал?
По возбужденным лицам, по яростным крикам догадался, что скажи он слово поперек, казаки по кускам его растерзают. Понимая, как опасно тревожить народ, есаул незаметно выбрался из толпы и задами, потный и встревоженный, пробрался в станичную избу.
– Сила взбурлила! – закричал он с порога. – Поберегись, атаман!
Бзыга поднял мрачные глаза на есаула и строго сказал:
– Не пугай! Степной конь куда опасней, а и то стреножить можно.
– Из-за хлеба на все пойдут! – стоял на своем есаул.
С майдана в станичную избу вдруг донесся яростный гул толпы. Бзыга побледнел.
Меж тем на майдане Ермак говорил:
– Не мы ли обливались слезами, жгли свою степь, когда ворог пошел на Астрахань? Сколько муки перенесли, многого лишились, а Бзыга тем часом хлеб свозил с верховых городков да прятал, чтобы с казака снять последнюю рубаху. Из Москвы пришла будара с зерном. Почему не раздают народу хлеб? Упрятал ее атаман в камышах за красноталом. От чужого хлеба жиреет Бзыга!
Ермак говорил страстно, каждое его слово жгло сердца.
Смуглая красивая казачка, на которую не так давно зарился Бзыга, первой закричала:
– Женки, айда до атоманова двора, там в сусеках полно муки!
И пошел дым коромыслом. Люди бросились по куреням, хватали мешки, торбы и бежали к атамановой избе. Там ворота уже были настежь, – от них шел свежий след копыт: Бзыга, почуяв грозу, вскочил на коня и ускакал в степь.
Резвый конь уносил атамана и его дружков все дальше и дальше от народного гнева.
– В Раздоры! В Раздоры! – нещадно стегал плетью атаман скакуна. В Раздорах он думал найти спасение. В верхних городках живет много заможних казаков и они помогут.
На станице в это время распахнули атаманские амбары. Степанко заглядывал в сусеки, полные золотого зерна, и призывал:
– Бери все! Жалуйте, вдовы, милости просим стариков. Эй, матка, подставляй торбу, будешь с хлебом! Наголодалась, небось?
– Стой, донцы! – закричал вдруг набежавший дед-вековик Сопелка. – Где это видано, чтобы атаманское добро растаскивать! – он размахивал палкой, а глаза налились злобой. Было старику под сотню годов, огромная пушистая борода пожелтела от времени, но голос сохранился звонкий и властный. – Прочь, прочь, окаяницы! – гнал он женок от атаманских амбаров.
Ермак вырвал у деда его посох и, слегка подталкивая в плечи, вывел старика из атаманского куреня.
– Иди, иди, Сопелка, не твое тут дело!
– Как не мое! – вскипел старик. Я на Доне старинный корень. Где это писано, чтобы не слушать старших? Чужое добро – святыня!
– Эх, старина, старина, ну как тебе не стыдно! – укоризненно покачал головой Ермак. – Не ты ли ныне трех внуков на погост отвез? Хлебушко для всех людей отпущен, а Бзыга что делает?
Дед внезапно притих, глаза его заслезились. Вспомнил он про внуков, погибших от голода, и губы его задрожали.
– Божья кара, божья кара, – прошептал он и склонил удрученно голову.
– Поди-ка сюда, дед, возьми и ты! – позвали его женки, тронутые его беспомощным видом.
Старик однако отказался:
– Кто знает, что робить? Грех это! – шаркая ногами, он пошел прочь от атаманских амбаров.
Древнее предание на Дону гласит: «Дон начался при устье Донца… там и окончится». И впрямь, первым казачьим городком на прославленной реке были Раздоры, которые возвели новгородские ушкуйники на острове при впадении Донца в Дон. Отважные, предприимчивые новгородцы на своих стругах побывали на многих отеческих русских реках – и на Каме светловодной, и на Вятке-реке, и на Северной Двине; доходили они и до Каменного Пояса, а перевалив его, объясачили Югорскую землю. Не миновали они и Волги, и Дона. На последнем и поставили свой городок, который назвали Раздорами. С далекого Ильмень-озера и Волхова вечевики-новгородцы принесли сюда непокорный дух и свободолюбие. Вольные и смелые, они всегда враждовали с боярами и торговыми гостями, а на вечах дело нередко доходило до кулачной расправы. Свой непокорный и вольнолюбивый дух новгородские посельники проявили и в Раздорах. Как и в древнем Новгороде, тут существовали две партии: заможных и голытьбы. Сюда и устремился атаман Бзыга, надеясь найти поддержку против возмутившихся казаков. Ярость и гнев переполняли атамана. Только одна думка одолевала его: «Спасти, во что бы то ни стало, спасти от дележа свое добро. Не добраться голутвенным казакам до будары с хлебом! Неужели раздорские дружки и атаманы оставят его и не вступятся? А коли вступятся, тогда башку с Ермака долой!»
На коротких привалах беглецы давали коням отдохнуть, а сам Бзыга не находил покоя, шагая возле костра, и думал о своем. Есаул Бычкин успокаивал атамана:
– Ты, батька, не тужи, вернем свое добро! Голытьбу в жменю возьмем и не пикнет больше!
– Жменя-то наша маленькая, всех не сгребешь! – сердито отозвался Бзыга. – Ухх! – скрипнул он зубами.
Бычкин сочувственно смотрел на атамана. Был тот грузный, седой и своей ухваткой напоминал остервенелого волка, попавшего в беду.
«Как бы своей свирепостью и ненасытством дела не испортил! – с опаской подумал бывалый есаул. – В Раздорах одним криком не возьмешь, там лукавство и хитрость нужны!»
По совести говоря, сам Бычкин боялся бывать в Раздорах: народ там неугомонный и драчливый. Чуть что, сейчас засучивают рукава.
Дорога длинная. Много передумал Бзыга, пока, наконец, показалась зеленая луковка церквушки в Раздорах. Издалека донесся благовест – звонили к вечерне. Безмолвно и пустынно было на улицах городка, когда беглецы добрались до него, никто не полюбопытствовал, по обычаю, не выглянул в оконце. Дубовые ворота атаманского куреня оказались закрытыми. Бзыга с волнением подъехал к ним и постучал. Долго никто не отзывался. Теряя терпении и волнуясь от смутного предчувствия чего-то неладного, атаман громко заколотил в тесины. Где-то в глубине двора с хриплым кашлем завозился кто-то.








