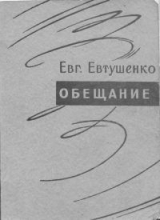
Текст книги "Обещание"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Что за странная ты —
ты зашторила это.
В твоей комнате тишь.
Приглашаешь садиться.
– Наследил,—
говоришь.
будет мама сердиться.
Что шумишь?
И чего
нападаешь на шторы?
Выпал снег —
так его
не видала я.
что ли?
Что так смотришь?
Бледна?
Некрасивая стала?
Я, наверно, больна
или просто устала...
Посидел бы со мной.
Вон
промокли ботинки...
Ты какой-то шальной,
и подумать —
снежинки...
Хватит их на мой век,
и не мыта посуда... —
Я оттуда, где снег,
Ну, а ты-то
откуда?
1954
* * *
Ах, июлустанок молодой!
Тайга у самой линии,
и над болотною водой
светящиеся лилии.
От мошкары во рту горчит,
и все неоперенно,
и ветка хвойная торчит
из грубого перрона...
Стоял наш поезд полчаса.
От зноя еле живы,
по свежим стружкам не спеша
гуляли пассажиры.
Даря прохладу и покой,
качаясь, пели сосны.
Горело где-то за тайгой
и догорало солнце.
И, вся вперед устремлена,
в немом струенье этом
стояла девушка одна,
очерченная светом,
в простом сарпинковом платке,
с лицом чуть-чуть в веснушках,
с точеной лилией в руке
и с туфельками в стружках.
Мне снизу дед махнул рукой
с усмешливостыо доброю:
– А ну-ка, парень городской,
косить не хоть попробовать?
– Чего там, – крикнул я, – уметь
Да и привычка та еще! —
и спрыгнул,
и пошел шуметь
литовкою летающей.
Ах, не косил я, а творил!
Я шел 1и луг выкашивал,
я ничего не говорил —
и этим все высказывал!
Но вот зеленый свет вдали,
и неохотно,
вяло
колеса вздропнули,
пошли,
а девушка стояла.
Отцом окликнула косца,
пошла травою поясной...
А я-то думал полчаса —
мы с одного же поезда...
Уже не шел состав —
летел,
летел навстречу полночи,
и долго я вослед глядел,
выгнувшись
на поручнях...
1956
* * *
Моя любимая приедет,
меня руками обоймет,
все изменения приметит,
все опасения поймет.
Из черных струй, из мглы кромешной,
забыв захлопнуть дверь такси,
взбежит по ветхому крылечку,
в жару от счастья и тоски.
Вбежит, промокшая,
без стука,
руками голову возьмет,
и шубка синяя со стула
счастливо на пол соскользнет...
1956
* * *
От меня не укроется:
если спорим,
грубим,
уезжаешь ты в поезде
с кем-то очень другим.
И зачем тебе едется
и в какие края?
Я смотрю—и не верится
до чего не моя.
Уезжаешь нетрудно
от признавшихся глаз,
от скамейки неструганой,
от обнявшихся нас,
от счастливых светаний
и лепечущих рук,
от хороших свиданий
и хороших разлук...
Ест печаль меня поедом,
все надежды губя,
но иду я за поездом,
увозящим тебя.
6 Евг. Евтушенко 81
Пусть мне тягостно делается,
пусть не энаю, как быть,
продолжаю надеяться,
продолжаю любить...
1955
* * *
Люблю я виноград зеленый
и никогда не разлюблю.
С ладони маленькой, влюбленный,
его губами я ловлю.
Ты подаешь мне горсть за горстью
в тбилисской лавке поутру,
а я смеюсь
и слышу горькость
хрустящих косточек во рту.
И так светло в прохладной лавке,
и в гроздьях блеск такой живой,
как будто крошечные лампы
горят внутри,
под кожурой.
А шум рассветный все слышнее,
и вот выходим мы в рассвет,
не замечая, как влажнеет
и прорывается пакет.
Я на вопросы отвечаю
не очень вдумчиво, молчу,
а между тем не замечаю,
что виноградины топчу...
1956
* * *
СЛЕЗЫ
Мне говорили —
ты поплатишься
за все утраты дорогие.
Мне говорили —
ты поплачешься
за то, что плакали другие.
И были слезы,
слезы мамины...
Стояла,
руки уроня,
и плечи
вздрагивали
маленькие,
и это все из-за меня.
А как ты плакала,
любимая,
когда в лицо тебе курил
и слово жесткое,
обидное
тебе глумливо говорил!
О, как подругам ты завидовала!
Со мною тяжко было видеться,
и гордо
голову
закидывала,
чтобы слезам из глаз не вылиться.
И все печальней моя гордая
душа, собою отягченная,
и это все —
расплата горькая
за слезы,
мною причиненные.
1957
* * *
Следов сырые отпечатки,
бульвар,
заснеженный трамвай,
прикосновение перчатки
и быстрое:
– Прощай! —
Иду направленно,
мертво,
и тишина,
и снег витает.
Вот поворот,
вот вход в метро,
и яркий свет,
и шапка тает.
Стою на легком сквозняке,
смотрю в туннель,
набитый мраком,
и трогаю рукою мрамор,
и холодно моей руке.
И шум,
и отправлений чинность,
и понимать мне тяжело,
что ничего не получилось
и получиться не могло...
1956
* * *
г.
О радиатор хлещет глина,
и листья сыплются с ветвей,
н смотрит женщина Галина
из-под нахмуренных бровей.
В осенних струях, бьющих косо,
летит навстречу ей земля.
Сжимают руки в тонких кольцах
баранку белую руля.
И дождь никак не кончит литься,
и мчит машина в полумглу,
и гром гремит,
и смотрят листья,
прижавшись к мокрому стеклу...
1956
* * *
Среди любовью слывшего
сплетенья рук и бед
ты от меня не слышала,
любима или нет.
Не* спрашивай об истине.
Пусть буду я в долгу —
я не могу быть искренним,
и лгать я не могу.
Но не гляди тоскующе
и верь своей звезде —
хорошую такую же
я не встречал нигде.
Все так,
но силы
мало ведь,
чтоб жить,
взахлеб любя,
ну, а тебя обманывать —
обманывать себя,
и заменять в наивности
вовек не научусь
я чувства без взаимности
взаимностью без чувств.
Хочу я память вытеснить
и думать о своем,
но все же тянет видеться
и быть с тобой вдвоем.
Когда все это кончится?
Я мучаюсь опять —
и брать любовь не хочется,
и страшно потерять.
1954
* * *
Раньше ссорились мы не из милости
к примиреныо, что будет потом.
Мы не ссоримся —
значит не миримся.
Мы бессильно жалеем о том.
И, желая все чаще и чаще
повторения сомнений <и мук,
мы роняем слова,
будто чашки
из нарочно ослабленных рук.
Но ни горя,
ни слез,
ни участья,
лишь вода из осколков течет.
Что разбито нечаянно —
к счастью.
Что нарочно разбито —
не в счет.
1955
ЖЕНЩИНА И ДЕВОЧКА
С какой-то усталой робостью,
на руку плащ положа,
у моря
к стоянке автобусной,
я помню,
она подошла.
В неловко раскрытой пудренице,
в осеннем листе на плече,
в морщинках
и в слабой пуговице
на белом ее плаще,
в нервных перчатках замшевых,
не помнящих про духи,
были глубокая замкнутость,
гордость и слабость души.
А рядом стояла девочка.
Что она сделать могла?
Она ничего не делала —
просто она была.
Худенькая,
остроносая,
трещала она про свое.
Очередь осторожная
слушала молча ее.
У мамы своей,
у юноши,
не знающего, как быть,
растения разные южные
просила ока объяснить.
Она верещала,
баловалась,
спросила, что значит «харчо»,
и очередь улыбалась
смущенно и хорошо.
Женщина в тень отодвинулась
с неловкой своей бедой,
но вся она будто вымылась
глубокой и ясной водой.
Ветки рассеянно трогая,
стояла в осенней листве.
Пробилась улыбка добрая
на бледном ее лице.
Сказала девочка матери:
– Пойдем-ка лучше пешком.
Дал ей конфету мятную
старик с витым посошком.
Женщина,
скрытая ветками,
стояла одна в полумгле...
Руками
махая
весело,
девочка шла по земле.
1956
* * *
Ты плачешь, бедная, ты плачешь,
и плачешь, верно, оттого,
что ничего собой не значишь
и что не любишь никого.
Когда целую твою руку
и говорю о пустяках,
какую чувствую я муку
во влажных теплых перстеньках!
На картах весело гадаешь,
дразня, сережками бренчишь,
но всей собою ты рыдаешь,
но всей собою ты кричишь.
И прорвались твои рыданья,
-и я увидел в первый раз
незащищенное страданье
твоих невыдепжавших глаз...
1956
* * *
И. Тарба
Я груши грыз,
шатался,
вольничал,
купался в море поутру,
в рубашке пестрой,
в шляпе войлочной
пил на базаре «хванчкару».
Я ездил с женщиною маленькой,
ей летний отдых разрушал,
под олеандрами и мальвами
ее собою раздражал.
Брели художники с палитрами,
орал мацонщик на заре,
и скрипки вечером пиликали
в том ресторане на горе.
Потом дорога билась, прядала,
скрипела галькой невпопад,
взвивалась,
дыбилась
и падала
с гудящих гор,
как водопад.
И в тихом утреннем селении,
оставив сена вороха,
нам открывал старик серебряный
играющие ворота.
Потом нас за руки цепляли там,
и все ходило ходуном,
лоснясь хрустящими цыплятами,
мерцая сумрачным вином.
Я брал светящиеся персики
и рог пустой на стол бросал
и с непонятными мне песнями
по-русски плакал и плясал.
И, с чуть дрожащей ниткой жемчуга,
пугливо голову склон я,
смотрела маленькая женщина
на незнакомого меня.
Потом мы снова,
снова ехали
среди платанов и плюща,
треща зелеными орехами
и море взглядами ища.
Сжимал я губы побелевшие.
Щемило,
плакало в груди,
и наступало побережие,
и море было впереди.
1956
* * *
Работа давняя кончается,
а все никак она не кончится.
Что я хотел —
не получается,
и мне уже другого хочется.
Пишу я бледными чернилами,
брожу с травинкою в зубах,
швыряюсь грушами червивыми
в чрезмерно бдительных собак.
Батумский порт с большими крапами,
дымясь, чернеет вдалеке,
а я лежу,
играю крабами
на влажном утреннем песке.
В руках у мальчиков хрусталятся,
как брошки женские, рачки...
Плыву с щемящею усталостью,
прикрыв спокойные зрачки.
И в давней,
давней нерешенности,
гдо столько скомкано и спутано,
во всем —
печаль незавершенности
и тяга к новому и смутному.
1956
* * *
по ягоды
Три женщины и две девчонки куцых
да я...
Летел набитый сеном кузов
среди полей, шумящих широко.
И, глядя на мелькание косилок,
коней,
колосьев,
кепок
и косынок,
мы доставали булки из корзинок
и пили молодое молоко.
Из-под колес взметались перепелки,
трещали, оглушая перепонки.
Мир трепыхался, зеленел, галдел.
Лежал я в сене, опершись на локоть,
задумчиво разламывая ломоть,
не говорил, а слушал и глядел.
Мальчишки у ручья швыряли камни,
и солнце распалившееся жгло,
но облака накапливали капли,
ворочались, дышали тяжело.
Все становилось мглистей, молчаливей,
уже в стога народ колхозный лез,
и без оглядки мы влетели в ливень
и вместе с ним и с молниями
в лес!
Весь кузов перестраивая с толком,
мы разгребали сена вороха
и укрывались...
Не укрылась только
попутчица одна лет сорока.
Она глядела целый день устало,
молчала нелюдимо за едой.
И вдруг сейчас приподнялась и встала
и стала молодою-молодой.
Она сняла с волос платочек белый,
какой-то шалой лихости полна.
И повела плечами и запела,
веселая и мокрая, она:
«Густым лесом босоногая
девчоночка идет.
Мелку ягоду не трогает,
(крупну ягоду берет».
Она стояла с гордой головою,
и все вперед – и сердце и глаза,
а по лицу —
хлестанье мокрой хвои,
и на ресницах —
слезы и гроза.
– Чего ты там?
Простудишься, дурило.,
ее тянула тетя, теребя.
Но всю себя она дождю дарила,
и дождь за это ей дарил себя.
Откинув косы смуглою рукою,
глядела вдаль,
как будто там,
вдали,
поющая
увидела такое,
что остальные видеть не могли.
Казалось мне:
нет ничего на свете —
лишь этот в тесном кузове полет,
нет ничего —
лишь бьет навстречу ветер,
и ливень льет,
и женщина поет...
Мы ночевать устроились в амбаре.
Амбар был низкий.
Душно пахло в нем
овчиною, сушеными грибами,
моченою брусникой и зерном.
Листом зеленым веники дышали.
В скольжении лучей и темноты
огромными летучими мышами
под потолком чернели хомуты.
Мне не спалось.
Едва белели лица,
и женский шепот слышался во мгле.
Я вслушался в него:
– Ах, Лиза, Лиза,
ты и не знаешь, как живется мне!
Ну, фикусы у нас, ну, печь-голландка,
ну, цинковая крыша хороша,
все вычищено,
выскоблено,
гладко,
есть дети, муж...
Но есть еще душа!
А в ней какой-то холод, лютый холод...
Вот говорит мне мать:
«Чем плох твой Петр?
Он бить не бьет,
на сторону не ходит,
ну, пьет, конечно.
Ну, а кто не пьет?»
Ах, Лиза!
Вот придет он пьяный ночью,
рычит – неужто я ему навек.
И грубо повернет и – молча, молча,
как будто вовсе я не человек.
Я раньше, помню, плакала бессонно,
теперь уже умею засыпать.
Какой я стала...
Все дают мне сорок,
а мне ведь, Лиза, только тридцать пять!
Как дальше буду?
Больше нету силы...
Ах, если б у меня любимый был,
уж как бы я тогда за ним ходила,
пускай бы бил, мне только бы любил!..—
Да это ведь она сквозь дождь и ветер
летела с песней, жаркой и простой.
Ия —
я ей завидовал,
я верил
раздольной нёзадумчивости той.
Стих разговор.
Донесся скрип колодца
и плавно смолк.
Все улеглось в селе,
и только сыто чавкали колеса
по втулку в придорожном киселе...
Нас разбудил мальчишка ранним утром
в напяленном на майку пиджаке.
Был нос его воинственно облуплен,
и медный чайник он держал в руке.
С презреньем взгляд скользнул по мне,
по тете,
по всем дремавшим сладко на полу:
– По ягоды-то, граждане, пойдете?
Чего ж тогда вы спите? Не пойму...
За стадом шла отставшая корова.
Дрова босая женщина колола.
Орал петух.
Мы вышли за село.
Покосы от кузнечиков оглохли.
Возов застывших высились оглобли,
и было над землей синё-синё.
Сначала шли поля, потом подлесок
в холодном блеске утренних подвесок
и птичьей хлопотливой суете.
Уже и костяника нас манила,
и дымчатая нежная малина
в кустарнике алела кое-где.
Тянула голубика лечь на хвою,
брусничники подошвы так и жгли,
103
но шли мы за клубникою лесною —
за самой главной ягодой мы шли.
И вдруг передний кто-то крикнул с жаром:
Да вот она! А вот еще видна!.. —
О, радость быть простым, берущим, жадным!
О, первых ягод звон о дно ведра!
Но поднимал нас предводитель юный,
и подчиняться были мы должны:
Эх, граждане, мне с вами просто юмор!
До ягоды еще и не дошли...—
И вдруг поляна лес густой пробила,
вся в пьяном солнце, в ягодах, в цветах.
У нас в глазах рябило.
Это было
как выдохнуть растерянное «Ах!»
Клубника млела, запахом тревожа,
гремя посудой, мы бежали к ней
и падали,
и, в ней, дурманной, лежа,
ее губами брали со стеблей.
Пушистою травой дымились взгорья.
Лес мошкарой и соснами гудел.
А я...
Забыл про ягоды я вскоре.
Я вновь на эту женщину глядел.
В движеньях радость радостью сменялась.
Платочек белый съехал до бровей.
Она брала клубнику и смеялась.
И думал я, забыв про все, о ней. %
104
Запомнил я отныне и навеки,
как сквозь тайгу летел наш грузовик,
разбрызгивая грязь, сшибая ветки
и в белом блеске молний грозовых.
И пела женщина,
и струйки,
струйки,
пенясь,
по скользкому стеклу стекали вкось...
И я хочу,
чтобы мне так же пелось,
как трудно бы мне в жизни
не жилось!
Чтоб шел по свету с гордой головою,
чтоб все вперед —
и сердце и глаза,
а по лицу —
хлестанье мокрой хвои,
и на ресницах —
слезы и гроза!
* * *
О, нашей молодости споры,
о, эти взбалмошные оборы,
о, эти наши вечера!
О, наше комнатное пекло,
на чайных блюдцах горки пепла,
и сидра пузырьки, и пена,
и баклажанная икра!
Здесь разговоров нет окольных.
Здесь исполнитель арий сольных
и скульптор в кедах баскетбольных
кричат, махая колбасой.
Высокомерно и судебно
здесь разглагольствует студентка
с тяжелокованой косой.
Здесь песни под рояль поются,
и пол трещит, и блюдца бьются,
и спорят все дружней, дружн^р.
Здесь столько мнений, сколько прений
и о путях России прежней
и о сегодняшней о ней.
Все дышат радостно и грозно,
106
и расходиться уже поздно.
Пусть это кажется игрой,
не зря мы в спорах этих сипнем,
не зря насмешками мы сыплем,
не зря стаканы с бледным сидром
стоят в соседстве с хлебом ситным
и баклажанною икрой!
1957'
* * *
Лифтерше Маше
под сорок...
Грызет она грустно подсолнух.
И сколько в ней' жалкой забитости
и женской кричащей забытости...
Она подружилась с Тонечкой,
белесой девочкой тощенькой,
отцом-забулдыгой замученной,
до бледности в школе заученной...
Заметил я —
робко,
по-детски
ноют они вместе в подъезде.
Вот слышу —
запела Тонечка.
Поет она тоненько-тоненько,
протяжно и чисто выводит...
Ах, как у ней это выходит!
И ей подпевает Маша,
обняв ее будто бы мама.
Страдая, поют,
108
и блаженствуя,
две грусти —
ребячья
и женская.
Ах, пойте же,
пойте подольше,
еще погрустнее,
потоньше.
Пойте,
пока не устанете...
Вы никогда не узнаете,
что я,
благодарный случаю,
пецие ваше слушаю,
рукою щеку подпираю
и молча
вам подпеваю...
* * *
М. Луконину
Спасибо вам,
Быковы Хутора,
за мальчика, который там родился,
и деревянной саблею рубился,
и не боялся плавать в холода.
Все в нем обычно было —
худоба,
разрез калмыцких глаз,
косая челка,
но он глядел задуманно и четко —
вы помните, %
Быковы Хутора?
И он ушел...
Переплывал чужие реки
и жадно воду пил из этих рек.
Но все-таки,
покуда в человеке
жив край родной,
жив этот человек.
Все забывают —
и друзей
и женщин.
Наука забывания хитра.
Вас не забыл он,
но все меньше,
меньше
вас вижу в нем,
Быковы Хутора.
Мы все чего-то стоим до поры,
пока мы помним, как в краю родимом
полынью пахнут мокрые полы
и дышит ветер травами и дымом.
И вы под окна наши приходите,
края родные,
если плохо нам,
с собою реки детства приводите
и вызывайте нас по именам.
Мы —
ваше нсразбуженное эхо.
Будите нас —
пора уже,
пора...
Станция Зима,
ты слышишь это?
Вы слышите,
Быковы Хутора?
1957
* * *
ЛЕД
Я тебя различаю с трудом.
Что вокруг натворила вода!
Мы стоим,
разделенные льдом,
мы по разные стороны льда.
По колено в воде леса.
Клен шатается,
бледный,
худой.
Севши на воду,
голоса
тихо движутся вместе с водой.
Льдины стонут и тонут в борьбе,
и, как льдинка вдали, ты тонка,
и обломок тропинки к тебе
по теченью уносит река...
1957
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
В дорогу тянет, ох; как тянет!
И не могу заснуть,
и
в грудь
скребется острыми когтями
куда-то тянущая грусть.
Есть город Вятские Поляны,
а в нем есть домик и скамья...
Из экспедиции полярной
когда-то мимо ехал я.
Я помню – вышел я устало,
и плечи свежестью свело,
а в небе медленно светало,
но не было еще светло.
Все было призрачно-лиловым,
и босоногий оголец
с прилипшим листиком лавровым
мне дал соленый огурец.
Над смутной речкой утомленной
рыбак виднелся на скале,
а у стены свежебеленой
сидели двое на скамье.
И было, словно откровенье,
свеченье синего платка,
и чуб чумазый на коленях,
и в чубе белая рука.
Она тихонько нагибалась,
шептала что-то в тишине
и озаренно улыбалась
рассвету, поезду и мне...
В дорогу тянет,
ох, как тянет!
И не могу заснуть,
и в грудь
скребется острыми когтями
куда-то тянущая грусть.
Я город Вятские Поляны,
возможно, буду проезжать,
и будут улицы туманны,
и где-то кони будут ржать.
Увижу с грустью удивленной
рыбак все тот же на скале,
и у стены свежебеленой
все те же двое на скамье...
1957
* * *
ХУДОЖНИЦЫ
В плащах и курточках вельветовых
в лесу тревожно молодом
сидели девушки с мольбертами
над горько пахнущим прудом.
Я руку за спину закладывал,
плечами ветви отводил,
в мольберты жалкие заглядывал
и потихоньку отходил.
Болела печень у натурщика —
за два часа совсем он скис,
и, губы детские надувшая,
одна из них швырнула кисть.
Встав на валежины корявые,
решила скуку прекратить,
и две, особенно кудрявые,
веревку начали крутить.
Они через веревку прыгали,
полны шального озорства,
I
II от девчачьей этой придури
с деревьев сыпалась листва.
То дальняя, то заземленная
веревка шлепалась под гам,
и платьица зазелененные,
взлетая, били по ногам.
Девчонки пели с детской жадностью,
садились ноги разувать,
и к ним не чувствовал я жалости,
что не умеют рисовать.
Летя в траву, от смеха корчились,
друг с другом весело дрались,
а через час искусство кончилось —
за кисти девушки брались.
1957
* * *
В. Бокову
Пахнет засолами,
пахнет молоком.
Ягоды засохлые
в сене молодом.
Я лежу,
чего-то жду
каждою кровинкой,
в темном небе
звезду
шевелю травинкой.
Все забыл,
все забыл,
будто напахался,—
с кем дружил,
кого любил,
над кем надсмехался.
В небе звездно и черно.
Ночь хорошая.
117
Я не энаю ничего-
ничегошеньки.
Баловали меня,
а я —
как небалованный,
целовали меня,
а я —
как нецелованный...
1957
* * *
Беда не в том, что пишешь мало,—
но мало любишь ты людей.
Ты вяло пил, женился вяло
и вяло заводил детей. '
Вступил ты в лермонтовский возраст.
Достигнешь пушкинского ты.
Но где же внутренняя взрослость,
но где же мужества черты?
Живешь, ненужностью обросший,
и уж который год подряд
не говорят: «Поэт хороший» —
«Хороший парень» говорят.
Но отчего с людьми плохими
хороший парень водку пьет
и с пожеланьями благими
пальто начальству подает?
Талант на службе у невежды,
привык ты молча слушать ложь.
Ты раньше подавал надежды —
теперь одежды подаешь.
Глядишь ты как-то воровато,
и не рассказывай мне, брат,
что это время виновато,
а ты совсем не виноват.
Забыв обет поры начальной,
ничто, как прежде, не любя,
проходишь, словно вор печальный,
себя укравший у себя.
И, как беды возможной признак,
кричащей полный немоты,
со мной всегда твой грустный призрак,
и он не даст мне стать, как ты.
* * *
Меня обнимали,
а чаще —
нет, |
меня понимали;
а чаще —
нет.
Я жизнь обожаю
и жизни грублю.
Ее обижаю
и, значит, люблю.
Навечно,
навечно,
на все времена
она мне невеста,
она мне жена!
Когда же я лягу,
пожить не успев,
пошлю я их к ляду
жалетелей всех.
Глаза я закрою
и руки сложу.
Жене моей —
жизни
спасибо скажу.
Спасибо,
спасибо,
что был я любим,
что нс был красивым,
но был молодым...
1957
* * *
Ах, что я делал, что я делал,
чего хотел, куда глядел?
Какой неумный меткий демон
во мне заноечиво сидел?
Зачем ты жизнь со мной связала
с того невдумчивого дня?
Зачем ты мне тогда сказала,
что жить не можешь без меня?
Я ничего не вспоминаю —
теперь мы с памятью враги.
Не так я жил. Как жить – не знаю
и ты мне в этом помоги.
1955
* * *
Я жаден до людей,
и жаден все лютей.
Я жаден до портных,
министров и уборщиц,
до слез и смеха их,
величий и убожеств!
Как молодой судья,
свой приговор тая,
подслушиваю я,
подсматриваю я.
И жаль, что, как на грех,
никак нельзя суметь
подслушать сразу всех,
все сразу подсмотреть!
1957
* * *
А что поют артисты джазовые,
в интимном,
в собственном кругу,
тугие бабочки развязывая?..
Я это рассказать могу.
Я был в компЗкии джазистов,
лихих,
похожих на джигитов.
В тот бурный вечер первомайский
я пил
с гитарою гавайской
и с черноусеньким,
удаленьким
в брючишках узеньких
ударником.
Ребята были
как ребята.
Одеты были небогато,
зато изысканно и стильно,
и в общем
выглядели сильно...
И вдруг,
и вдруг они запели,
как будто чем-то их задели,
ямщицкую,
тягучую,
текучую-текучую...
О чем они в тот вечер пели?
Что и могли, а не сумели,
но что нисколько не забыли
того, что знали и любили...
«Ты, товарищ мой.
не попомни зла,
Ты в степи глухой
схорони меня...»
Я товарища хороню —
эту тайну я хмуро храню.
Для других еще он живой,
для других еп?е он с женой,
для других еще с ним дружу,
ибо с ним в рестораны хожу.
Никому я не расскажу,
никому,
что с мертвым дружу.
Говорю не с его чистотой,
а с нечистою пустотой,
и не дружеская простота —
держит рюмку в руке
пустота...
Ты прости, что тебя не браню,
не браню,
а молчком хороню.
1957
* * *
Шла в городе предпраздничная ломка.
Своих сараев застеснялся он.
Вошли мы в дворик, сплевывая ловко,
и дворик был растерян и смятен.
И кое-кто на нас глядел из дома,
как будто мы сломать хотели дом,
и было на троих у нас
три лома,
и по сараю дряхлому
на лом.
Была жара июньская.
От пыли
першило в глотках водосточных труб.
К ларьку мы подбегали.
Пиво пили
и шли ломать, не вытирая губ.
Нам била в ноздри темнота сырая.
Трещали доски,
сыпалась труха,
а мы ломали старые сараи,
128
счастливые от пива и труда.
Летели к черту стены, и ступеньки,
и двери, и пробои от замков,
и тоненькие девочки-студентки
клубникой нас кормили из кульков.
Мы им не говорили, что устали,
на бревна приглашали, как гостей,
и алые клубничины глотали
с больших ладоней, ржавых от гвоздей..
1957
МОНОЛОГ ИЗ ДРАМЫ«Г ВАН-ГОГ»
Мы те,
кто в дальнее уверовал,—
безденежные мастера.
Мы с вами из ребра гомерова,
мы из рембрандтова ребра.
Не надо нам
ни света чопорного,
ни Магомета,
ни Христа,
а надо только хлеба черного,
бумаги,
глины
и холста!
Смещайтесь, краски,
знаки нотные!
По форме и земля стара —
мы придадим ей форму новую,
безденежные мастера!
Пусть слышим то свистки,
то лаянье,
пусть дни превратности таят,
мы с вами отомстим талантливо
тем, кто не верит в наш талант!
Вперед,
ломая
и угадывая!
Вставайте, братья,—
в путь пора.
Какие с вами мы богатые,
безденежные мастера!
ПАРТИЗАНСКИЕ МОГИЛЫ
Итак,
живу на станции Зима.
Встаю до света —
нравится мне это.
В грузовике на россыпях зерна
куда-то еду,
вылезаю где-то,
вхожу в тайгу,
разглядываю лето
и удивляюсь: как земля земна!
Брусничники в траве тревожно тлеют,
и ягоды шиповника алеют
с мохнатинками рыжими внутри.
Все говорит как будто:
«Будь мудрее
и в то же время слишком не мудри!»
Отпущенный бессмысленной тщетой,
я отдаюсь покою и порядку,
торжественности вольной и святой
и выхожу на тихую полянку,
где обелиск белеет со звездой.
132
Среди берез и зарослей малины
вы спите, партизанские могилы.
Есть свойство у могил – у их подножий,—
пусть и пришел ты,
сгорбленный под ношей,—
вдруг делается грустно и легко
и смотришь глубоко и далеко.
Читаю имена:
«Клевцова Настя»,
«Петр Беломестных»,
«Кузмичов Максим»,
а надо всем торжественная надпись:
«Погибла смертью храбрых за марксизм».
Задумываюсь я над этой надписью:
Ее в году далеком девятнадцатом
наивный грамотей
с усердьем вывел
и в этом правду жизненную видел.
Они,
конечно,
Маркса не читали
и то, что бог на свете есть,
считали,
но шли сражаться
и буржуев били,
и получилось,
что марксисты были...
За мир погибнув новый, молодой,
лежат они,
сибирские крестьяне,
с крестами на груди—не под крестами —
под пролетарской красною звездой.
133
И я стою с ботинками в росе,
за этот час намного старше ставший
и все зачеты по марксизму сдавший
и все-таки,
наверное,
не все...
Прощайте,
партизанские могилы!
Вы помогли мне всем, чем лишь могли вы.
Прощайте!
Мне еще искать и мучиться.
Мир ждет меня,
моей борьбы и мужества.
Мир с пеньем птиц,
с шуршаньем веток мокрых,
с торжественным бессмертием своим,
мир, где живые думают о мертвых
и помогают мертвые живым.
1957
РОССИЯ
Россия, ты меня учила,
чтобы не знал потом стыда,—
дрова коАоть, щепать лучину,
и ставить правильно стога,
ценить любой сухарь щербатый,
коней впрягать и распрягать,
и клубни надвое лопатой,
сажая в землю, разрубать...
Все поднимала, выносила,
надеждой чистою дыша,
твое спасение и сила —
твоя рабочая душа.
Какие вложены заботы,
какие вложены труды
в твои колхозы, и заводы,
и в самолеты, и сады!
Ты на жнивье детей рожала
с измученно-счастливым ртом.
Трудом сражения решала
и заглушала боль трудом.
И что бы ни происходило,
какая б ни была беда,
ты молча сталь производила
и возводила города.
Россия, ты меня учила —
и в юных и в иных летах —
упрямым быть, искать причины
того, что плохо, что не так,
и свято поклоняться праху,
и свято верить в молодежь,
и защищать по-русски правду,
и бить по-русски в морду – ложь...
Но ты меня еще учила
всем скромным подвигом своим,
что званье «русский» мне вручила
не для того, чтоб хвастал им.
А чтобы был мне друг-товарищ,
будь то поляк или узбек,
будь то еврей или аварец,
коль он хороший человек.
Ты никого не оскорбляешь,—
как совесть, миру ты дана.
Добра Америке желаешь,
желаешь Франции добра.
Не для войны ты строишь зданья,
ракеты, фабрики, мосты —
ведь не для нового страданья
коммуну выстрадала ты!
136
Благодарю тебя, Россия,
за то, что строю и пашу,
за буквы первые косые,
за книги те, что напишу!
Наградой сладостной и грустной—
я верю – будет мне навек,
что жил и умер я, как русский,
рабочий русский человек.
1957
СОДЕРЖАНИЕ
Пролог : 5
Я сибирской породы 8
Глубокий снег 10
Я на сырой земле лежу 13
Заснул поселок Джаламбет.. 15
Она все больше курит 17
Кассирша 18
История – не только войны 20
Он вернулся из долгого 21
Лучшим из поколения 23
Меня не любят многие : 25
Не понимаю—что со мною сталось? 27
Пионерский горн 29
Воспоминание . 31
Усталость 33
Не знаю я, чего он хочет 35
Поэзия – великая держава... 37
Когда я думаю о Блоке 39
Какое наступав', отрезвенье 40
У трусов малые возможности 41
О, бойтесь ласковых данайцев 42
Сквер величаво листья осыпал 13
Рыцари инерции 47
Давай поедем вниз по Волге... : 48
Рассматривайте временность гуманно 50
Новая трава . 51
Мама 53
Мне было и сладко и тошно 55
По улице проходят пролетарии 57
Блиндаж – 58
Патриаршие пруды 60
Пельмени 62
Я кошелек. Лежу я на дороге 64
В автобусе 66
Стихотворенье надел я на ветку 69
Пришло без спросу. С толку сбило 71
Что ты плачешь? У старого вяза 73
Со мною вот что происходит 74
Я оттуда, где снег 76
Ах, полустанок молодой! .78
Моя любимая приедет 80
От меня не укроется .81
Люблю я виноград зеленый 83
Слезы 84
Следов сырые отпечатки 86
О радиатор хлещет глина 88
Среди любовью слывшего 89
Раньше ссорились мы 91
Женщина и девочка 92
Ты плачешь, бедная, ты плачешь 94
Я груши грыз, шатался, вольничал 95
Работа давняя кончается 97
По ягоды 99
О. нашей молодости споры 106
Лифтерше Маше под сорок 108
Спасибо вам, Быковы Хутора ПО
Лед
Вятские Поляны ИЗ
Художницы 115
Пахнет засолами 117
Беда не в том, что пишешь мало 119
Меня обнимали 121
Ах, что я делал, что я делал 123
Я жаден до людей 124
А что поют артисты джазовые 125
Я товарища хороню 127
Шла в городе предпраздничная ломка 128
Монолог из драмы «Ван-Гог» 130
Партизанские могилы 132
Россия 135
Евтушенко Евгений Александрович
ОБЕЩАНИЕ
*
Редактор В. И. Бутусов
Художник Е. Н. Голяховский
Худож. редактор И. В. Царевич
Техн. редактор Н. Л. Греймер
Корректор В. Н. Стаханова
Сдано в набор 23/Ш-57 г. Подп. к печ. 26/Х1-57 г.
А 05382. 70х1081/ 32. Печ. л. 43/„ (5 99).
Уч.-изд. л. 3,78. Зак. 1 000. Тир. 10 000.
Цена 1 р. 90 к.
Издательство «Советский писатель»
Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., 10
Тип. УПП МИД
и


![Книга Свет юности [Ранняя лирика и пьесы] автора Петр Киле](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-svet-yunosti-rannyaya-lirika-i-pesy-165416.jpg)



