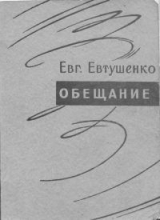
Текст книги "Обещание"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Евгений Евтушенко
ОБЕЩАНИЕ
СТИХИ
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва 1957
ПРОЛОГ
Я разный —
я натруженный
и праздный,
я целе-
и нецелесообразный,
я весь несовместимый,
неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.
Я так люблю,
чтоб все перемежалось!
И столько всякого во мне перемешалось —
от запада
и до востока,
от зависти
и до восторга!
Я знаю,
вы мне скажете —
где цельность?
О, в этом всем огромная есть ценность!
Я вам необходим.
5
Я доверху завалей,
как сеном молодым
машина грузовая.
Лечу
сквозь голоса,
сквозь ветки,
свет
и щебет,
и —
бабочки в глаза,
и —
сено
прет
сквозь щели!
Да здравствуют
движение,
и жаркость,
и жадность,
торжествующая жадность!
Границы мне мешают...
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка.
Хочу шататься,
сколько надо,
Лондоном,
со всеми говорить,
хотя б на ломаном!
Мальчишкой,
на автобусе повисшим,
хочу проехать
утренним Парижем!
6
Хочу искусства —
разного, как я!
Пусть мне /искусство не дает житья
и обступает пусть со всех сторон...
Да я и так
искусством осажден!
Я в самом разном сам собой увиден.
Мне близки
и Есенин,
и Уитмен,
и Мусоргским охваченная сцена,
и резкие смещения Гогена.
Мне нравится
и на коньках кататься
и, черкая пером,
не спать ночей.
Мне нравится
в лицо врагам смеяться
и женщину нести через ручей.
Вгрызаюсь в книги
и дрова таскаю,
грущу,
чего-то смутного ищу
и алыми морозными кусками
арбуза августовского хрущу.
Пою и пью,
не думая о смерти,
раскинув руки,
падаю в траву,
и если я умру на белом свете,
то я умру от счастья, что живу.
1936
7
* * *
Я сибирской породы.
Ел я хлеб с черемшой,
и мальчишкой
паромы
тянул, как большой.
Раздавалась команда.
Шел паром по Оке 1.
От стального каната
были руки в огне.
Мускулистый,
лобастый,
я заклепки клепал
и глубокой лопатой,
где велели,
копал.
На меня не кричали,
не плели ерунду,
а топор мне вручали,
приучали к труду.
О к а – река в Восточной Сибири.
8
Л уж если и били
за плохие дрова —
потому что любили
и желали добра.
До десятого пота
гнулся я под кулем.
Я косою работал,
колуном и кайлом.
Не боюсь я обиды,
не боюс'л я тоски.
Мои руки оббиты
и сильны, как тиски.
Все на свете я смею.
Усмехаюсь врагу,
потому что умею,
потому что могу...
1956
9
глубокий снег
По снегу белому на лыжах я бегу.
Бегу и думаю —
что в жизни я могу?
В себя гляжу,
тужу,
припоминаю...
Что знаю я?
Я ничего не знаю.
По снегу белому на лыжах я бег> г.
В красивом городе есть площадь Ногина
Она сейчас отсюда мне видна.
Там девушка живет одна.
Она
мне не жена.
В меня не влюблена.
Чья в том вина?..
Ах, белое порханье!
Бегу.
Мне и тревожно и легко.
Глубокий снег.
Глубокое дыханье.
10
Над головою тоже глубоко.
Мне надо далеко...
Скрипите,
лыжи милые, скрипите,
а вы,
далекая,
забудьте про беду.
Скрепите сердце.
Что-нибудь купите.
Спокойно спите.
Я не пропаду!
Я закурить хочу.
Ломаю спички.
От самого себя устал бежать.
Домой поеду.
В жаркой электричке
кому-то буду лыжами мешать.
Приеду к девушке одной.
Она все бросит.
Она венком большие косы носит.
Она скучала от меня вдали.
Она поцеловать себя попросит.
«Не подвели ли лыжи?» —
тихо спросит.
«Нет, нет, —
отвечу я, —
не подвели...»
А сам задумаюсь...
«Ты хочешь, милый, чаю?»-
«Нет».—
«Что с тобой —
понять я не могу...
И
Где ты сейчас?»
Я головой качаю.
Что я отвечу?
Я ей отвечаю:
«По снегу белому на лыжах я бегу...»
1955
12
* * *
Г. Мазурину
Я на сырой земле лежу
в обнимочку с лопатою,
во рту травинку я держу,
травинку кисловатую.
Такой проклятый грунт копать—
лопата поломается,
и очень хочется мне спать,
а спать не полагается.
– Что,
не стоится на ногах?
Взгляните на голубчика! —
хохочет девка в сапогах
и в маечке голубенькой.
Заводит песню на беду
певучую-певучую:
«Когда я милого найду,
Уж я его помучаю...>
Лопатой сизою сверкнет,
сережками побрякает
и вдруг такое завернет,
что даже парни крякают.
Смеются все:
– Ну и змея!
Ну, Анька,
и сморозила! —
И знают разве только я
да звезды и смородина,
как, в лес ночной со мной входя,
в смородинники пряные,
траву
руками
разводя,
идет она, что пьяная,
как, неумела и слаба,
роняя руки смуглые,
мне говорит она слова
красивые и смутные...
1957
* * *
Заснул поселок Джаламбет,
в степи темнеющей затерянный,
лишь раздается лай затейливый,
неясно, на какой предмет.
А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,
и я строчу,
строчу приподнято...
Перо, которым я пишу,
суровой ниткою примотано
к граненому карандашу.
Огни далекие дрожат...
Под закопченными овчинами
в обнимку с дюжими дивчинами
чернорабочие лежат.
Застыли тени рябоватые,
и прислоненные к стене
лопаты, чуть голубоватые,
устало дремлют в тишине.
О лампу бабочка колотится.
В окно глядит журавль колодезный,
15
и петухов я слышу пение
и выбегаю на крыльцо,
и, прыгая,
собака пегая
мне носом тычется в лицо.
И голоса,
и ночи таянье.
и звоны ведер,
и заря,
и вера, сладкая и тайная,
что это все со мной не зря
1957
* * *
Она все больше курит,
все меньше говорит,
то платье себе купит,
то плачет вдруг навзрыд.
И, подавая ужин,
надменна и строга,
она глядит на мужа,
как будто на врага.
И говорит: – Ну с кем,
ну с кем, скажи, ты дружишь
Ты стал другой совсем,
ты мечешься и трусишь...—
Он кофе себе пьет
с куском позавчерашним
и критиком домашним
смеясь ее зовет.
Она идет едва,
лицо в подушки прячет,
и горько-горько плачет
замужняя вдова.
1957
* * *
КАССИРША
На кляче, нехотя трусившей
сквозь мелкий дождь по большаку,
сидела девочка-кассирша
с тганом черным на боку.
В пустой мешок портфель запрятав,
чтобы никто не угадал,
она везла в тайгу' зарплату,
и я ее сопровождал.
Мы рассуждали о бандитах,
о разных случаях смешных,
и об артистах знаменитых,
и о большой зарплате их.
И было тихо, приглушенно
лицо ее удивлено,
и челка из-под капюшона
торчала мокро и смешно.
О неувиденном тоскуя,
неслышно трогая коня,
«А как у вас в Москве танцуют?»—
она спросила у меня.
В избушке,
дождь стряхая с челки,
суровой строгости полна,
достав облупленные счеты,
раскрыла ведомость она.
Ее работа долго длилась —
от денег руки затекли,
и, чтоб она развеселилась,
мы патефон ей завели.
Ребята карты тасовали,
на нас глядели без острот,
а мы с кассиршей танцевали
то вальс томящий, то фокстрот.
И по полу она ходила,
как ходят девочки по льду,
и что-то тихое твердила,
и спотыкалась на ходу.
При каждом шаге изменялась
то вдруг впадала в забытье,
то всей собою извинялась
за неумение свое...
И после —
празднично и чисто
у колченогого стола —
в избушке
под тулупом чьим-то
она, усталая, спала.
А грудь вздымалась,
колебалась
и тихо падала опять.
Она спала и улыбалась
и продолжала танцевать.
1957
* * *
История – не только войны,
изобретенья и труды,
она –
и запахи,
и звоны,
и трепет веток и травы.
Ее неверно понимают
как только мудрость книжных гру
Она и в том, как обнимают,
как пьют, смеются и поют.
В полете лет, в событъях вещих,
во всем, что плещет и кипит, —
и гул морей,
и плечи женщин,
и плач детей,
и звон копыт.
Сквозь все великие идеи
плывут и стонут голоса,
летят
неясные виденья,
мерцают звезды и глаза...
1956
* * *
я. с
Он вернулся из долгого
отлученья от нас
и, затолканный толками,
пьет со мною сейчас.
Он отец мне по возрасту.
По призванию брат.
Невеселые волосы.
Пиджачок мешковат.
Вижу руки подробные,
все по ним узнаю,
и глаза изподбровные
смотрят в душу мою.
Нет покуда и комнаты,
и еда не жирна.
За жокея какого-то
замуж вышла жена.
Я об этом не спрашиваю.
Сам о женщине той
поминает со страшною,
неживой простотой.
Жадно слушает радио,
за печатью следит.
Все в нем дышит характером,
интересом гудит...
Я сижу растревоженный,
говорить не могу...
В черной курточке кожаной
он уходит в пургу.
И, не сбитый обидою,
я живу и борюсь.
Никому не завидую,
ничего не боюсь.
1956
* * *
ЛУЧШИМ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
Лучшие из поколения,
цвести вам —
не увядать!
Вашего покорения
бедам
не увидать.
Разные будут случаи,
будьте сильны и дружны.
Вы ведь на то и лучшие —
выстоять вы должны.
Вам петь, вам от солнца жмуриться,
будут и беды и боль...
Благословите на мужество,
благословите на бой!
Возьмите меня в наступление,
не упрекнете ни в чем.
Лучшие из поколения,
возьмите меня трубачом!
Я буду трубить наступление,
ни нотой не изменю,
а если не хватит дыхания,
26
трубу на винтовку сменю.
Пускай, если даже погибну,
не сделав почти ничего,
строгие ваши губы
коснутся лба моего...
1956
* * *
Меня не любят многие,
за многое виня,
и мечут громы-молнии
по поводу меня.
Угрюмо и надорванно
смеются надо мной,
и взгляды их недобрые
я чувствую спиной.
А мне все это нравится.
Мне гордо оттого,
что им со мной не справиться,
не сделать ничего.
С небрежною высокостью
гляжу на их грызню
и каменной веселостью
нарочно их дразню.
Но я, такой изученный,
порой едва иду.
Растерянный, измученный,
вот-вот и упаду.
26
И без улыбки деланной
я слышу вновь с тоской,
какой самонадеянный
и ловкий я какой.
С душой, для них закрытою,
я знаю – все не так.
Чему они завидуют,
я не пойму никак.
Проулком заметеленным
шагаю и молчу
и быть самонадеянным
отчаянно хочу...
1956
* * *
Не понимаю —
что со мною сталось?
Усталость, может?
Может, и усталость...
Расстраиваюсь быстро и грустнею,
когда краснеть бы нечего,
краснею...
А вот со мной недавно было в ГУМе,
да, в ГУМе,
в мерном рокоте и гуле.
Гам продавщица с завитками хилыми
руками неумелыми и милыми
мне шею обернула сантиметром...
Я раньше был не склонен к сантиментам
А тут, гляжу,
и сердце больно сжалось,
и жалость,
понимаете вы,
жалость
к ее усталым чистеньким рукам,
к халатику и хилым завиткам.
Вот книга...
Я прочесть ее решаю!
Глава —
ну так,
обычная глава,
а не могу читать ее...
Мешают
слезами заслоненные глаза...
Я все с собой на свете перепутал.
Таюсь,
боюсь искусства, как огня.
Виденья Малапаги,
Пера Гюнта,
мне кажется —
все это про меня...
А мне бубнят —
и нету с этим сладу, —
что я плохой,
что связан с жизнью слабо..
Но если столько связано со мною,
я что-то значу, видимо, и стою?!
А если ничего собой не значу,
то отчего же мучаюсь и плачу?
1956
* * *
ПИОНЕРСКИИ ГОРН
Тропа извилиста,
корн иста.
По ней спускаюсь я к реке
и слышу долгий зов горниста,
невидимого вдалеке.
Он пробивается сквозь щуплость
худого, жидкого леска,
и дачники,
от солнца щурясь,
приподнимаются с песка.
Есть превосходство в этом горне
над нами,
взрослыми людьми,
и перехватывает в горле
от зависти
и от любви.
Меня не раз бедою било.
Я ничего не позабыл,
но надо так,
чтоб это было —
чтоб лес рябил
и горн трубил.
29
Холоднодушия -слепого
я никому не извиню,
и, если больно,
если плохо.
я все равно не изменю
ни солнцу,
ни тропе корнистой
ни мокрым веткам,
ни реке,
ни зову долгому горниста,
невидимого вдалеке.
1956
* * *
ВОСПОМИНАНИЕ
Вот снова роща в черных ямах,
и взрывы душу леденят,
и просит ягод.
просит ягод
в крови лежащий лейтенант.
Ему парнишка невеликий',
в траве проползав дотемна,
несет пилотку земляники,
а земляника не нужна...
Пошел июльский дождик легкий,
и среди мертвых танков,
тел
лежал он,
тихий и далекий,
а на ресницах дождь блестел.
Была в глазах печаль,
забота,
а я стоял ц молча мок,
как будто ждал ответ на что-то,
но он 1ответить мне не мог.
31
И я, растерянно притихнув,
не видя больше ничего,
как он просил,
билет партийный
взял из кармана у него.
Побрел я,
маленький,
усталый.
до удивленья невысок,
и ночью дымной,
ночью алой
пристал к бредущим на восток.
Все в бликах страшного свеченья,
мы шли без карты,
кое-как —
и с рюкзаком седой священник
и в руку раненный моряк.
Кричали дети,
ржали кони.
Тоской и мужеством объят,
на белой-белой колокольне
на всю Россию бил набат.
Я шел по черным нивам сельским,
в шубейку женскую одет,
и над своим ребячьим сердцем
партийный чувствовал билет.
1957
* * *
УСТАЛОСТЬ
Растерянность рождая и смятенье,
приходит неожиданно она.
Она,
усталость эта,
не смертельна
и этим еще более страшна.
Не нам она могилы насыпает -
хоронит наши замыслы и труд,
и юностью ее не называют,
а старостью безвременной зовут.
Вот был талант,
была когда-то страстность,
а не хватило мужества дойти.
Он слишком поздно понял всю напрасность
и всю опасность отдыха в пути...
И, в душу самому себе уставясь,
я чувствую —
наступит мой черед.
Она придет,
придет, моя усталость,
не скоро,
но когда-нибудь придет.
Мне очень трудно будет,
может статься.
Дай силы,
жизнь,
перебороть ее,
в пути остаться,
выдержать,
не сдаться
и продолжать
движение свое...
1954
* * *
Не знаю я,
чего он хочет,
но знаю —
он невдалеке.
Он где-то рядом,
рядом ходит
и держит яблоко в руке.
Пока я даром силы трачу,
он ходит, он не устает,
в билет обвернутую сдачу
в троллейбусе передает.
Он смотрит,
ловит каждый шорох,
не упускает ничего,
не понимающий большого
предназначенья своего.
Все в мире ждет его,
желает,
о нем,
неузнанном,
грустит,
а он но улицам
гуляет
и крепким яблоком хрустит.
Но я робею перед мигом,
когда, поняв свои права,
он встанет,
узнанный,
над миром
и скажет новые слова.
1956
* * *
Поэзия – великая держава.
Она легла на много верст и лет,
строга,
невозмутима,
величава,
распространяя свой спокойный свет.
В ней есть большие,
малые строенья,
заборы лжи и рощи доброты,
и честные нехитрые растенья,
и синие отравные цветы.
И чем подняться выше.
тем предметней
плоды ее великого труда —
над мелкой суетливостью предместий
стоящие сурово города.
Вот Лермонтов под бледными звездами
темнеет в стуках капель и подков
трагическими очерками зданий,
иронией молчащих тупиков.
Село Есенине сквозь тихие березки
глядит в далекость утренних дорог.
Г удит,
дымится
город Маяковский.
Заснежен, строг и страстен город Блок.
В густых садах равнины утопают,
гудят леса без тропок и следов,
а вдалеке
туманно проступают
прообразы грядущих городов...
1956
* * *
И. Глазунову
Когда я думаю о Блоке,
когда тоскую по «ему,
то вспоминаю я не строки,
а мост, пролетку « Неву.
И над ночными голосами
чеканный облик седока —
круги под страшными глазами
и черный очерк сюртука.
Летят навстречу светы, тени,
дробятся звезды в мостовых,
и что-то выше, чем смятенье,
в сплетенье пальцев восковых.
И, как в загадочном прологе,
чья суть смутна и глубока,
в тумане тают стук пролетки,
булыжник, Блок и облака...
1956
39
Какое наступает отрезвенье,
как наша совесть к нам потом строга,
когда в застольном чьем-то откровенье
не замечаем вкрадчивость врага.
Но страшно ничему не научиться
и в бдительности ревностной опять
незрелости мятущейся, но чистой
нечистые стремленья приписать.
Усердье в подозрениях не заслуга.
Слепой судья – народу не слуга.
Страшнее, чем принять врага за друга,
принять поспешно друга за врага.
1957
Бойтесь данайцев, дары приносящих...
О, бойтесь ласковых данайцев,
не верьте льстивым их словам.
Покою в руки не давайтесь,
иначе худо будет вам.
Они вас хвалят,
поднимают,
они задуманно добры
ивас
у вас же отнимают,
когда подносят вам дары.
Не поступайте так, как просят.
Пусть видится за похвалой
не что они на лицах носят,
а что скрывают под полой.
Пусть злость сидит у вас в печенках,
пусть осуждают вас, корят,
но пусть не купят вас почетом,
уютом не уговорят...
1956
* * *
* * *
У трусов малые возможности.
Молчаньем славы не добыть,
и смелыми из осторожности
подчас приходится им быть.
И лезут в соколы ужи,
сменив с учетом современности
приспособленчество ко лжи
риспособленчеством ко смелости
1956
* * *
Сквер величаво листья осыпал.
Светало.
Было холодно и трезво.
У двери с черной вывескою треста,
нахохлившись, на стуле сторож спал.
Шла, распушивши белые усы,
пузатая машина поливная.
Я вышел, смутно мир воспринимая,
и, воротник устало поднимая,
рукою вспомнил, что забыл часы.
Я был расслаблен, зол и одинок.
Пришлось вернуться все-таки.
Я помню,
как женщина в халатике японском
открыла дверь на нервный мой звонок.
Чуть удивилась,
но не растерялась:
– А, ты вернулся?—
В ней во всей была
насмешливая умная усталость,
которая не грела и не жгла.
43
– Решил остаться?
Измененье правил?
Начало новой светлой полосы?
Я на минуту.
Я часы оставил.
– Ах, да,
часы,
конечно же часы... —
На стуле у тахты коробка грима,
тетрадка с новой ролью,
томик Грина.
румяный целлулоидный голыш.
– Вот и часы.
Дай я сама надену. —
И голосом, скрывающим надежду,
а вместе с тем и боль:
– Ты позвонишь?
Я шел устало дремлющей Неглинной.
Все было сонно:
дворникоз зевки,
арбузы в деревянной клетке длинной,
на шкафчиках чистильщиков —
замки:
Все выглядело странно и туманно:
и сквер с оградой низкою витой
и тряпками обмотанные краны
тележек с газированной водой.
Свободные таксисты, зубоскаля,
кружком стояли.
Кто-то, в доску пьян,
стучался в ресторан «Узбекистан»,
куда его. конечно, не пускали.
Бродили кошки чуткие у стен.
Я шел и шел,
вдруг чей-то резкий оклик:
– Нет закурить?
и смутный бледный облик,
и странный и знакомый вместе с тем.
Пошли мы рядом —
было по пути.
Курить —
я видел—
не умел он вовсе.
Лет двадцать пять,
а может, двадцать восемь,
но все-таки не больше тридцати.
Он был большим, неловким и худым.
В нем с откровенной нервной наготою
соединялось очень молодое
с усталым и уже немолодым.
И понимал я с грустью нелюдимой,
которой с ним я был соединен,
что тоже он идет не от любимой
и этим тоже мучается он.
И тех же самых мыслей столкновения,
и ту же боль, и трепет становленья,
как в собственном жестоком дневнике,
я видел в этом странном двойнике.
Я размышлял, сводил с собою счеты,
но, как я сам себя ни обличал,
был мир, как обещание чего-то,
и я собою что-то обещал.
Все было обещаньем:
листьев шепот,
движенье низких белых облаков,
шуршанье шин,
скрип веток,
метел шорох.
постукиванье чьих-то каблуков...
И охватили сонные кварталы,
и умывались улицы водой,
и люди шли,
и в городе светало,
и был еще я очень молодой.
1957
* * *
РЫЦАРИ ИНЕРЦИИ
Они остались прежними, как вещи.
Попробуй-ка в них новое внедри!
От многого отказываясь внешне,
они все те же самые внутри.
Им понимать все новое не к спеху,
или понять, вернее, не хотят,
и старыми доспехами успехов
они еще бессмысленно блестят.
Я вижу положения их трудность,
я вижу обреченность их забот,
когда,
усердно сплачиваясь,
трусость
на смелость справедливую идет.
Их кони постарели,
пооблезли,
не те манеры, что в былые дни,
и плохи их дела сегодня,
если
боятся боя честного они.
1956
* * *
Давай поедем вниз по Волге,
а может, вверх по Ангаре.
Давай поверим, как помолвке,
в дороге встреченной заре.
Давай увидим ночью где-то,
как, проплывая чередой,
дома,
дома
на сваях света
стоят над черною водой.
Пусть, вместе нас еще не зная,
вдруг поглядит из ивняка
вся очень добрая,
родная,
вся очень русская
Ока.
Пусть и Сибирь с второй Окою,
и ярославские стада...
Пусть земляникою сухою
повеют курские стога.
Но нс забыть тревоги века,
их, как репейник, отцепя.
Нам от раздумий не уехать,
как не уехать от себя.
Меняясь,
реки,
стены,
горы
проявят схожесть многих душ,
и будут люди,
будут споры
и дружб немало
и недружб,
и очертанья новых строек,
и восхищение без фраз,
и немота признаний строгих,
что мало знаем мы о нас.
Вокруг события большие,
вокруг великая страда...
А впереди —
все шире,
шире
большая, добрая страна.
Летая,
сея,
строя зданья,
мы за нее ведем бои,
и нет без этого призванья,
и нет без этого любви...
1955
* * *
Рассматривайте временность гуманно.
На все невечное бросать не надо тень.
Есть временность недельного обмана
потемкинских поспешных деревень.
Но ставят и времянки-общежитья,
пока домов не выстроят других...
Вы после тихой смерти их
скажите
спасибо честной временности их.
1956
* * *
НОВАЯ ТРАВА
Сосульки виснут по карнизу.
Туманны парки и строги.
Водой подточенные снизу,
сереют снега островки.
Я вижу склоны с буроватой,
незащищенно-неживой,
как будто в чем-то виноватой,
той, прошлогоднею травой.
Она беспомощно мешает,
хотя бы тем, что не нова,
а в глубине земли мужает
другая – новая трава.
Она не хочет опасаться
и лета красного не ждет,
и первые ее посланцы
ломают головы о лед.
Вся как задор и упованье,
она возьмет, возьмет свое,
но будет шагом к увяданью
победа первая ее,
но и ее судьба обманет —
всему на свете свой черед
Она пожухнет и обвянет,
на землю ляжет и умрет.
И вновь права, как пробудитель.
но лишь до времени права,
над ней взойдет, как победитель,
другая – новая трава...
1957
* * *
МАМА
Давно не поет моя мама,
да и когда ей петь!
Дел у ней, что ли, мало —
где до всего успеть!
Разве на именинах
под чоканье и разговор
сядет за пианино
друг ее,
старый актер.
Шуткой печаль ей развеет,
и ноты ищет она,
ищет' и розовеет
от робости и от вина.
Будут хлопать гуманно
и говорить:
«Молодцом!»
Но в кухню выбежит мама
с постаревшим лицом.
Были когда-то концерты —
с бойцами лицом к лицу
в строгом, высоком, как церковь,
прифронтовом лесу.
Мерзли мамины руки,
была голова тяжела,
но возникали звуки,
чистые, как тишина.
Обозные кони дышали,
от холода поседев,
и, поводя ушами,
думали о себе.
Смутно белели попоны.
Был такой снегопад —
не отличишь погоны,
кто офицер, кто солдат..
Мама вино подносит
и расставляет снедь.
Добрые гости просят
маму что-нибудь спеть.
Мама,
прошу,
не надо...
Будешь потом пенять.
Ты ведь не виновата,
гости должны понять.
Пусть уж поет радиола
и сходятся рюмки, звеня
Мама,
не пой, ради бога
Мама,
не мучай меня.
1956
* * *
Мне было н сладко и тошно,
у ряда базарного встав,
глядеть,
как дымилась картошка
на бледных капустных листах.
И пел я в вагонах клопиных,
как графа убила жена,
как, Джека любя, Коломбина
в глухом городишке жила.
Те песни в вагонах любили,
не ставя сюжеты в вину, —
уж раз они грустными были,
то, значит, они про войну.
Махоркою пахло, и водкой,
и мокрым шинельным сукном.
Солдаты давали мне воблы,
меня называли сынком...
Да, буду я преданным сыном,
какой бы ни выпал удел,
каким бы ни сделался сытым,
какой бы пиджак ни надел!
Мерзли мамины руки,
была голова тяжела,
но возникали звуки,
чистые, как тишина.
Обозные кони дышали,
от холода поседев,
и, поводя ушами,
думали о себе.
Смутно белели попоны.
Был такой снегопад —
не отличишь погоны,
кто офицер, кто солдат...
Мама вино подносит
и расставляет онедь.
Добрые гости просят
маму что-нибудь спеть.
Мама,
прошу,
не надо...
Будешь потом пенять.
Ты ведь не 'виновата,
гости должны понять.
Пусть уж поет радиола
и сходятся рюмки, звеня...
Мама,
не пой, ради бога.
Мама,
не мучай меня.
1956
* * *
Мне было и сладко и тошно,
у ряда базарного встав,
глядеть,
как дымилась картошка
на бледных капустных листах.
И пел я в вагонах клопиных,
как графа убила жена,
как, Джека любя, Коломбина
в глухом городишке жила.
Те песни в вагонах любили,
не ставя сюжеты в 'вину, —
уж раз они грустными были,
то, значит, они про войну.
Махоркою пахло, и водкой,
п мокрым шинельным сукном.
Солдаты давали мне воблы,
меня называли сынком...
Да, буду я преданным сыном,
какой бы ни выпал удел,
каким бы ни сделался сытым,
какой бы пиджак ни надел!
И часто
в раздумье бессонном
я вдруг покидаю уют —
и снова аду по вагонам,
и хлеб мне солдаты суют...
1956
* * *
По улице проходят пролетарии—
друзья девчата с картонажной фабрики.
Приходят в общежитие, усталые,
и надевают ситцевые фартуки.
Платками плечи зябкие закутывают,
и папиросы-гвоздики закуривают,
и песенки монтановекие слушают,
и колбасу любительскую кушают...
А вечером они приходят в парки
в цветных косынках и накидках гарусных.
Их вежливо сопровождают парни
в широких брюках,
в самовязах-галстуках.
И смотрят в лица с выраженьем честным
и угощают важно пивом чешским.
А поздно-поздно, где аллеи в семечках,
сидят девчата эти на скамеечках,
сидят и с кавалерами не ссорятся.
Им отчего-то радостно и совестно,
и под слова, тревожные и сладкие,
дрожат их руки, детские и слабые...
1956
* * *
БЛИНДАЖ
М. Луконину
Томясь какой-то смутною тревогой,
блиндаж стоял над Волгой,
самой Волгой.
И в нем среди остывших гильз и пыли,
не зажигая света, тени жили...
Блиндаж стоял над Волгой,
самой Волгой.
Приехали сюда с закуской, с водкой.
Решительные юные мужчины
поставили отцовские машины
и спутницам сказали грубовато:
– Используем-ка, детки,
эту хату!—
И прямо с непосредственностью детской: —
А ну-ка, патефончик милый,
действуй!—
Не водки им, ей-богу бы, а плетки!..
Пластинки пели из рентгенопленки,
и пили сталинградские стиляги,
и напускали сигаретный дым,
и в стены громко пробками стреляли,
где крупно: «Сталинград не отдадим».
А утром водку кисло попрекали,
швы на чулках девчонки поправляли,
и юные поблекшие мужчины
шли заводить отцовские машины...
Блиндаж стоял над Волгой, самой Волгой.
Изгажен сигаретами и воблой,
стоял он и смотрел в степные дали,
и тени оскорбленные витали...
1957
* * *
ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ
Туманны Патриаршие пруды.
Мир их теней загадочен и ломок,
и голубые отраженья лодок
видны на темной зелени воды.
Белеют лица в сквере по углам.
Сопя, ползет машина поливная,
смывая пыль с асфальта
и давая
возможность отражения огням.
Скользит велосипед мой в полумгле.
Уж скоро два, а мне еще не спится,
и прилипают листья к мокрым спицам,
и холодеют руки на руле.
Вот этот дом, который так знаком!
Мне смотрят в душу пристально и долго
на белом полукружье номер дома
и лампочка под синим козырьком.
Я спрыгиваю тихо у ворот.
Здесь женщина живет —
теперь уж с мужем
и дочкою,
но что-то ее мучит,
и что-то спать ей ночью не дает.
И видится ей то же, что и мне,—
вечерний лес,
больших теней смещение,
и ландышей неверное свеченье,
взошедших из расщелины на пне.
и дальнее страдание гармошек,
и смех,
и платье в беленький горошек,
вновь смех,
и все другое,
из чего
у нас не получилось ничего...
– Я мимо шла...
Я только на минуту...
Но мне в глаза не смотрит почему-то
от странного какого-то стыда.
И исчезают вновь ее следы...
Она ко мне приходит иногда:
Вот эта повесть.
ясная не очень.
Она туманна, как осенней ночью
туманны Патриаршие пруды.
1957
* * *
ПЕЛЬМЕНИ
На кухне делали пельмени.
Стучали миски и ключи.
Разледеневшие поленья,
шипя, ворочались в печи.
Летал цветастый тетин фартук,
и перец девочки толкли,
и струйки розовые фарша
из круглых дырочек текли.
И, обволокнутый туманом,
в дыханьях мяса и муки,
граненым пристальным стаканом
я резал белые кружки.
Прилипла к мясу строчка текста,
что бой суровый на земле,
но пела печь
и было тесно
кататься тесту на столе!
О год тяжелый,
год военный,
ты на сегодня нас прости.
Пускай тяжелый дух пельменный
поможет душу отвести.
Пускай назавтра нету денег
и снова горестный паек,
но пусть —
мука на лицах девок
и печь веселая поет!
Пускай сейчас никто не тужит
и в луке
руки у стряпух...
Кружи нам головы и души,
пельменный дух,
тяжелый дух!
1956
* * *
Я кошелек.
Лежу я на дороге.
Лежу один посередине дня.
Я вам не виден, люди.
Ваши ноги
идут по мне
и около меня.
Да что, вы
ничего не понимаете?!
Да что, у вас, ей-богу,
нету глаз?!
Та пыль,
что вы же сами поднимаете,
меня скрывает,
хитрая,
от вас.
Смотрите лучше.
Стоит лишь вглядеться,
я все отдам вам,
все, чем дорожил.
И не ищите моего владельца
я сам себя на землю положил.
Не думайте,
что дернут вдруг за ниточ
и над косым забором невдали
увидите какую-нибудь Ниночку,
смеющуюся:
«Ловко провели!»
Пускай вас не пугает смех стыдящий
и чьи-то лица где-нибудь в окне...
Я не обман.
Я самый настоящий.
Вы посмотрите только, что во мне!
Я одного боюсь,
на вас в обиде:
что вот сейчас,
посередине дня,
не тот, кого я жду,
меня увидит,
не тот, кто надо,
подберет меня...
1955
* * *
В АВТОБУСЕ
Автобус
тяжко
переваливался.
Мелькали дымные окраины,
а я с тобою не сговаривался —
мы здесь увиделись нечаянно.
Сосед острил длинно и грубо,
посуда
перетенькивала.
Ах, да—
у нас открытие клуба!
Мы едем в Переделкино!
Налез в автобус институт.
Вокруг дымят солидно.
Сижу, молчу.
Ты тоже тут,
но мне тебя не видно.
О чем ты думаешь,
о ком?
Что на твоем лице?
Сидим с тобою —
ты в одном,
а я
в другом конце.
Злят
пристающие девчата,
чужие спины злят.
Соломенная шляпа чья-то
вдвинулась
в мой взгляд.
Глазами смутными,
безмолвными
среди голов,
газет,
плеч ей,
портфелей,
папок с молниями
ищу просвет.
И вот лицо мелькнуло бледное.
По мне,
скользя,
прошли,
тревожные и медленные,
твои глаза.
Вот блузка с поясом цветным,
вот нитка бус...
И – чьи-то руки вдруг!
По ним
двинулся
арбуз.
Ты снова
за живой стеной.
Что там сейчас ты делаешь?
Смеешься, может, надо мной
среди довольных девушек?
Поездку, может быть, коришь
за то, что здесь так душно,
о кинофильмах говоришь
подругам равнодушно.
А может быть,
в кругу подруг,
не думая про это,
среди голов,
портфелей,
рук
ты тоже
ждешь просвета?
1955
* * *
Стихотворенье
надел я на ветку.
Бьется оно,
не дается ветру.
Просишь:
– Сними его,
не шути. —
Люди идут.
Глядят с удивленьем.
Дерево
машет
стихотвореньем.
Спорить не надо.
Надо идти.
Ты ведь не помнишь его...
– Это правда,
Но я напишу тебе новое завтра.
Стоит бояться таких пустяков!
Стихотворенье для ветки не тяжесть.
Я напишу тебе сколько ты скажешь.
69
Сколько деревьев —
столько стихов!—
Как же с тобою дальше мы будем?
Может быть, это мы скоро забудем?
Нет,
если плохо нам станет в пути,
вспомним,
что где-то,
полно озареньем,
дерево
машет
стихотвореньем,
и улыбнемся:
– Надо идти.
1955
* * *
Пришло без спросу.
С толку сбило.
Захолонуло.
Налегло.
Как не похоже все, что было,
И даже то, что быть могло!
Я до беспомощности нежен
в рассветном сумраке лесном
перед прекрасным побледневшим
полузакинутым лицом.
Меня шатает все сильнее,
то в жар бросая,
то знобя.
Припав ко мне,
рукой моею
счастливо гладишь ты себя.
Но я,
неловко обнимая,
боюсь и слова одного.
Я ничего не понимаю
и не умею ничего.
71
И всем, чем радуешь и мучишь,
чему названья не найду,
меня в любви ходить ты учишь,
а я боюсь, что упаду.
1954
* * *
Что ты плачешь?
У старого вяза
мы укрылись от сизой грозы,
и сияют в тумане два глаза,
словно две пребольшие слезы.
За домами гудят паровозы,
паровозы гудят о любви,
и не плачут,
не сетуют слезы —
улыбаются слезы твои...
1956
73
Б. Ахмадулиной.
Со мною вот что происходит —
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те...
И он
не с теми
ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним...
Со мною вот что происходит —
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
А той—
скажите, бога ради, —
кому на плечи руки класть?!
Та, у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
74
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе...
О, сколько нервных и недужных,
ненужных связей,
дружб ненужных
Во мне уже осатаненность!..
О кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность близких душ!
1957
* * *
Я оттуда,
где снег.
Гак и валит он валом!
Вот чудак человек,
ты еще не вставала!
Как сугробы чисты! '
Сколько хруста и света!


![Книга Свет юности [Ранняя лирика и пьесы] автора Петр Киле](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-svet-yunosti-rannyaya-lirika-i-pesy-165416.jpg)



