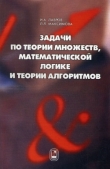Текст книги "Диалектическая логика. Очерки истории и теории"
Автор книги: Эвальд Ильенков
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Именно поэтому определения мира в мышлении (логические определения) суть прямо и непосредственно определения чувственно созерцаемого мира. И нелепо задавать вопрос, в каком особом отношении система логических определений находится к чувственно данному миру, к миру в созерцании и представлении. Логическая система и есть не что иное, как выражение определённости чувственно созерцаемого мира. Мнимым, фиктивным оказывается и вопрос об отношении логики к метафизике. Нет такого отношения, ибо логика и метафизика суть непосредственно и прямо одно и то же. Универсальные определения мира в мышлении (логические определения, категории) суть не что иное, как выражение абстрактно-универсальной определённости вещей, данных в созерцании. И потому именно, что и мышление, и созерцание имеют дело с одним и тем же реальным миром.
И если под логикой разуметь не свод правил выражения мышления в речи, а науку о закономерностях развития действительного мышления, то под логическими формами как раз и следует понимать не абстрактные формы предложений и высказываний, а абстрактно-универсальные формы действительного содержания мышления, т.е. чувственно данного человеку реального мира. «Так называемые логические формы суждения и заключения не являются поэтому активными мыслительными формами, или ut ita dicam [так сказать] причинными условиями разума. Они предполагают метафизические понятия всеобщности, особенности, частности, целого и части, в качестве Regula de omni [всеобщего правила], предполагают понятия необходимости, основания и следствия; они мыслимы только посредством этих понятий. Следовательно, они являются производными, выведенными, а не первоначальными мыслительными формами. Только метафизические отношения суть логические отношения, только метафизика, как наука о категориях, является истинной эзотерической логикой. Такова глубокая мысль Гегеля. Так называемые логические формы суть только абстрактные элементарнейшие формы речи; но речь это не мышление, иначе величайшие болтуны должны были бы быть величайшими мыслителями»[119]119
Фейербах Л. Сочинения, т. I. Москва – Ленинград, 1926, с. 13.
[Закрыть].
Таким образом, Фейербах полностью соглашается с Гегелем в том, что логические формы и закономерности абсолютно тождественны метафизическим, хотя и понимает причину и основу этого обстоятельства совсем иначе, нежели идеалист Гегель. Здесь мы имеем дело с остро выраженной материалистической интерпретацией принципа тождества законов и форм мышления и бытия. С материалистической точки зрения он гласит, что логические формы и закономерности суть не что иное, как осознанные универсальные формы и закономерности бытия, реального, чувственно данного человеку мира.
Вот за это-то неокантианцы типа Бернштейна и называли последовательный материализм «спиритуализмом наизнанку». Между тем фейербаховская трактовка тождества мышления и бытия остаётся верной и бесспорной для любого материалиста, в том числе и для марксиста. Конечно, только в самой общей форме, до тех пор, пока речь идёт о фундаменте логики и теории познания, а не о деталях самого здания, на этом фундаменте воздвигнутого. Поскольку же у Фейербаха далее начинается специфически антропологическая конкретизация общематериалистических истин, в его изложении появляются рассуждения, явно слабые не только по сравнению с марксистско-ленинским решением вопроса, но даже и по сравнению со спинозовской концепцией. Они-то и дали впоследствии повод вульгарным материалистам, позитивистам и даже неокантианцам усмотреть в Фейербахе своего предшественника и – пусть не до конца последовательного – единомышленника.
Несколько более подробный анализ своеобразия фейербаховского толкования тождества мышления и бытия небезынтересен по двум причинам. Во-первых, потому, что это – материализм. Во-вторых, потому, что это – материализм без диалектики.
Материализм состоит в данном случае в категорическом признании того факта, что мышление есть способ деятельного существования материального тела, деятельность мыслящего тела в реальном пространстве и времени. Материализм выступает, далее, в признании тождества умопостигаемого и чувственно воспринимаемого мира. Наконец, материализм Фейербаха выражается в том, что субъектом мышления признаётся тот же самый человек, который живёт в реальном мире, а не особое, вне мира витающее существо, созерцающее и осмысливающее мир «со стороны». Всё это – аксиоматические положения материализма вообще. Следовательно, и диалектического материализма.
В чём же слабости позиции Фейербаха? В общем и целом, они те же самые, что и слабости всего домарксовского материализма: прежде всего непонимание роли практической деятельности как деятельности, изменяющей природу. Ведь и Спиноза имеет в виду только движение мыслящего тела по готовым контурам природных тел и упускает из виду тот момент, который против Спинозы (а тем самым и вообще против всей им представляемой формы материализма) выставил Фихте. А именно тот факт, что человек (мыслящее тело) движется не по готовым, природой заданным формам и контурам, а активно творит новые формы, самой природе не свойственные, и движется вдоль них, преодолевая «сопротивление» внешнего мира.
«Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейербаховский – заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берётся только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно... Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самоё человеческую деятельность он берёт не как предметную деятельность»[120]120
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 1.
[Закрыть].
Отсюда и получается, что человек (субъект познания) рассматривается как пассивная сторона отношения объект – субъект, как определяемый член этого взаимоотношения. Далее. Человек тут вырывается из сплетения общественных отношений и превращается в изолированного индивида. Поэтому отношение человек – окружающий мир толкуется как отношение индивид – всё остальное, всё то, что находится вне индивидуального мозга и существует независимо от него. А ведь вне индивида и независимо от его воли и сознания существует не только природа, но и общественно-историческая среда, мир вещей, созданных трудом человека, и система отношений человека к человеку, складывающихся в процессе труда. Иными словами, вне индивида лежит не только природа сама по себе («в себе»), но и очеловеченная, переделанная трудом природа. Для Фейербаха же окружающий мир, данный в созерцании, берётся как исходный пункт, предпосылки которого не исследуются.
Поэтому, когда перед Фейербахом встаёт вопрос, где и как человек (мыслящее тело) находится в непосредственном единстве (контакте) с окружающим миром, он отвечает: в созерцании. В созерцании индивида, поскольку тут постоянно имеется в виду именно индивид. Вот где корень всех слабостей. Ибо в созерцании индивиду дан всегда продукт деятельности других индивидов, взаимодействующих между собой в процессе производства материальной жизни, те свойства и формы природы, которые уже ранее превращены в свойства и формы деятельности человека, её предмета и продукта. «Природа как таковая», которую Фейербах хочет «созерцать», на самом-то деле лежит как раз вне поля его зрения. Ибо эта «предшествующая человеческой истории природа – не та природа, в которой живёт Фейербах, не та природа, которая, кроме разве отдельных австралийских коралловых островов новейшего происхождения, ныне нигде более не существует, а следовательно, не существует также и для Фейербаха»[121]121
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 44.
[Закрыть].
Отвлекается Фейербах и от реальных сложностей социальных отношений между теорией и практикой, от разделения труда, которое «отчуждает» мышление (в виде науки) от большинства индивидов и превращает его в силу, независимую от них и вне их существующую. Поэтому он и в гегелевском обоготворении мышления (т.е. науки) и не видит ничего, кроме перепева религиозных иллюзий.
Часть вторая. Некоторые вопросы марксистско-ленинской теории диалектики
Очерк седьмой.К вопросу о диалектико-материалистической критике объективного идеализма
Чтобы преодолеть слабости, тем более пороки, той или иной философской системы, необходимо их понять. По отношению к Гегелю такого рода «понимание» и продемонстрировал Маркс. Тем самым и в вопросах логики он пошёл значительно дальше как Гегеля, так и его материалистического антипода – Фейербаха.
Маркс, Энгельс и Ленин ясно показали как исторические заслуги Гегеля, так и исторически обусловленную ограниченность его научных завоеваний, чётко прочертив границы, через которые гегелевская диалектика перешагнуть не смогла, те иллюзии, власть которых она одолеть не была в состоянии, несмотря на всю силу ума её создателя. Величие Гегеля, как и его ограниченность, целиком определяется тем, что он исчерпал возможность разработки диалектики на базе идеализма, в рамках тех аксиом, которые идеализм навязывает научному мышлению. Гегель независимо от своих намерений показал как на ладони, что идеализм приводит мышление в роковые тупики и обрекает даже диалектически просвещённую, даже до артистического уровня вышколенную в отношении диалектики мысль на безвыходное круговращение внутри себя, на бесконечную процедуру «самовыражения», «самосознания». Для Гегеля (и именно потому, что он наиболее последовательный и нелицемерный идеалист, раскрывающий тем самым тайну всякого другого, непоследовательного и незавершённого идеализма) «бытие», т.е. вне и независимо от мышления существующий мир природы и истории, неизбежно превращается лишь в повод для демонстрации логического искусства, в неисчерпаемый резервуар «примеров», подтверждающих снова и снова всё одни и те же школьные схемы и категории логики. Как ядовито заметил молодой Маркс, «дело логики» загораживает от Гегеля «логику дела», и потому и прусский монарх, и вошь в голове этого монарха одинаково хорошо могут служить идеалисту-диалектику как «примеры», иллюстрирующие категорию «в-себе-и-для-себя сущей единичности».
И кипящий чайник, и Великая французская революция тоже превращаются таким подходом лишь в «примеры», иллюстрирующие соотношение категорий качества и количества. Но тем самым любая попавшая на глаза эмпирическая реальность, какой бы скверной и случайной она сама по себе ни была, превращается во «внешнее воплощение абсолютного разума», в одну из необходимых диалектических ступеней его саморазличения...
Глубокие пороки гегелевской диалектики прямо связаны с идеализмом, благодаря которому диалектика легко превращается в способ тонкой, логически изощрённой апологетики всего существующего. Во все эти обстоятельства надлежит вглядеться попристальнее.
Гегель действительно противопоставляет человеку с его реальным мышлением безличное и безликое – «абсолютное» – мышление как некую от века существующую силу, в согласии с которой протекает акт «божественного творения мира и человека». Логика и понимается Гегелем как «абсолютная форма», по отношению к которой реальный мир и реальное человеческое мышление оказываются чем-то, по существу, производным, вторичным, сотворённым.
Здесь и обнаруживается идеализм гегелевского понимания мышления, а именно специфически гегелевский объективный идеализм, превращающий мышление в некоторого нового бога, в некоторую вне человека находящуюся и над человеком господствующую сверхъестественную силу. Однако в этой специфически гегелевской иллюзии выразились вовсе не просто некритически перенятый Гегелем у религии взгляд, не простой атавизм религиозного сознания, как полагал Фейербах, а гораздо более глубокие и серьёзные обстоятельства.
Дело в том, что гегелевская концепция мышления представляет собою некритическое описание того реального положения вещей, которое складывается на почве узкопрофессиональной формы разделения общественного труда, а именно на почве отделения умственного труда от физического, от непосредственно-практической, чувственно-предметной деятельности, на почве превращения духовно-теоретического труда в особую профессию – в науку.
В условиях стихийно развивающегося разделения общественного труда с неизбежностью возникает то своеобразное перевёртывание реальных отношений между человеческими индивидами и их собственными коллективными силами, коллективно развиваемыми способностями, т.е. всеобщими (общественными) способами деятельности, которое получило в философии наименование отчуждения. Здесь, в социальной действительности, а вовсе не только в фантазиях религиозных людей и философов-идеалистов всеобщие (коллективно осуществляемые) способы деятельности организуются в виде особых социальных институтов, конституируются в виде профессий, своего рода каст со своими особыми ритуалами, языком, традициями и прочими «имманентными» структурами, имеющими вполне безличный и безликий характер.
В итоге не отдельный человеческий индивид оказывается носителем, т.е. субъектом той или иной всеобщей способности (деятельной силы), а, наоборот, эта отчуждённая и всё более отчуждающая себя от него деятельная сила выступает как субъект, извне диктующий каждому индивиду способы и формы его жизнедеятельности. Индивид как таковой превращается тут в раба, в «говорящее орудие» отчуждённых всеобщечеловеческих сил и способностей, способов деятельности, персонифицированных в виде денег, капитала и, далее, в виде государства, права, религии и т.д. и т.п.
Та же самая судьба постигает здесь и мышление. Оно тоже становится особой профессией, пожизненным уделом профессионалов учёных, профессионалов духовно-теоретического труда. Наука и есть мышление, превращённое в известных условиях в особую профессию. При наличии всеобщего отчуждения мышление только в сфере науки (т.е. внутри касты учёных) и достигает высоты и уровня развития, необходимых для общества в целом, и в таком виде действительно противостоит большинству человеческих индивидов. И не только противостоит, но и диктует им, что и как они должны с точки зрения науки делать, что и как им надлежит думать и т.д. и т.п. Учёный, профессионал теоретик вещает им ведь не от своего личного имени, а от имени Науки, от имени Понятия, от имени вполне всеобщей, коллективно-безличной силы, выступая перед остальными людьми как её доверенный и полномочный представитель.
На такой почве и возникают все те специфические иллюзии профессионалов духовно-теоретического труда, которые своё наиболее осознанное выражение обретают именно в философии объективного идеализма – этого самосознания отчуждённого мышления.
Дальнейшее уже не представляет особых трудностей для понимания. Легко заметить, что в своей логике Гегель в схоластически замаскированной форме совершенно точно выразил фундаментальную особенность человеческой жизнедеятельности: способность человека (как существа мыслящего) смотреть на самого себя как бы «со стороны», как на нечто «другое», как на особый предмет (объект), или, иными словами, превращать схемы своей собственной деятельности в объект её же самой. (Это та самая особенность человека, которую молодой Маркс – и именно в ходе критики Гегеля – обозначил следующим образом: «Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает самоё свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность – сознательная. Это не есть такая определённость, с которой он непосредственно сливается воедино»[122]122
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 565.
[Закрыть].)
Поскольку Гегель рассматривает названную особенность человеческой жизнедеятельности исключительно глазами логика, постольку он и фиксирует её лишь в той мере, в какой она уже превратилась в схему мышления, в логическую схему, в правило, в согласии с которым человек более или менее сознательно строит свои частные действия (будь то в материале языка или в любом другом материале). Вещи и положение вещей (дел), находящихся вне сознания и воли индивида («Dinge und Sache»), и фиксируются им поэтому исключительно как моменты, метаморфозы мышления (субъективной деятельности), реализованного и реализуемого в естественно-природном материале, включая сюда и органическое тело самого человека. Особенность человеческой жизнедеятельности, описанная выше словами Маркса, и выглядит в гегелевском изображении как осуществляемая человеком схема мышления, как логическая фигура.
Реальная картина человеческой жизнедеятельности получает здесь перевёрнутое, с ног на голову поставленное изображение. В действительности человек мыслит потому, что такова его реальная жизнедеятельность. Гегель же говорит наоборот: реальная человеческая жизнедеятельность такова потому, что человек мыслит в согласии с определённой схемой. Естественно, что все определения человеческой жизнедеятельности, а через неё и положения вещей вне головы человека фиксируются здесь лишь постольку, поскольку они «положены мышлением», выступают как результат мышления.
Естественно, ибо логика, специально исследующего мышление, интересует уже не вещь (или положение вещей) как таковая, как до, вне и независимо от человека с его деятельностью существующая реальность (последнюю рассматривает вовсе не он, логик, а физик или биолог, экономист или астроном), а вещь, как и какой она выглядит в глазах науки, т.е. в результате деятельности мыслящего существа, субъекта, в качестве продукта мышления, понимаемого как деятельность, специфическим продуктом которой и является понятие.
Так что Гегель «виновен» в том, что он остаётся «чистым» логиком и там, где точка зрения логики уже недостаточна. Эта своеобразная профессиональная слепота логика обнаруживает себя прежде всего в том, что практика, т.е. реальная чувственно-предметная деятельность человека, рассматривается им только как критерий истины, только как проверочная инстанция для мышления, для свершившейся до неё и независимо от неё духовно-теоретической работы, а ещё точнее – для её результатов.
Практика поэтому и понимается здесь абстрактно, освещается лишь с той стороны, лишь в тех характеристиках, которыми она и в самом деле обязана мышлению, так как представляет собой акт реализации некоторого замысла, плана, идеи, понятия, той или иной заранее разработанной цели, и совершенно не анализируется как таковая в её собственной, ни от какого мышления не зависящей детерминации. Соответственно и все результаты практической деятельности людей – вещи, созданные трудом человека, и исторические события с их последствиями – также принимаются в расчёт лишь постольку, поскольку в них опредмечены те или иные мысли. В понимании исторического процесса в целом такая точка зрения представляет собою, само собой понятно, чистейший («абсолютный») идеализм. Однако по отношению к логике, к науке о мышлении, она не только оправданна, но является единственно резонной.
В самом деле, можно ли упрекать логика за то, что он строжайшим образом абстрагируется от всего того, что не имеет отношения к предмету его специального исследования, и любой факт принимает во внимание лишь постольку, поскольку тот может быть понят как следствие, как форма обнаружения его предмета, предмета его науки – мышления? Упрекать логика-профессионала в том, что «дело логики» занимает его больше, чем «логика дела» (т.е. логика любой другой конкретной области человеческой деятельности), столь же нелепо, сколь нелепо корить химика за излишнее внимание к «делу химии»... Совсем другой смысл кроется в известных словах Маркса, сказанных по адресу Гегеля.
Беда узкого профессионала заключается вовсе не в строгом ограничении мышления рамками предмета данной науки, а в его неспособности ясно видеть связанные с этой ограниченностью взгляда на вещи границы компетенции собственной науки.
То же самое относится и к Гегелю, типичному профессионалу логику. В качестве логика он прав, когда рассматривает и высказывание, и дело исключительно с точки зрения обнаруживающихся в них абстрактных схем мышления, когда логика любого дела интересует его лишь постольку, поскольку в нём обнаруживает себя деятельность мышления вообще. Мистицизм гегелевской логики и одновременно та её коварная особенность, которую Маркс назвал «некритическим позитивизмом», начинаются там, где специальная точка зрения логика ex professo (по профессии) принимается и выдаётся за ту единственно научную точку зрения, с высоты которой только якобы и раскрывается «последняя», самая глубокая, самая сокровенная и самая важная истина, доступная вообще человеку и человечеству...
Как логик Гегель вполне прав, рассматривая любое явление в развитии человеческой культуры как акт обнаружения силы мышления. Но стоит добавить к этому (в логике допустимому и естественному) взгляду немногое, а именно, что в специально-логических абстракциях как раз и выражена суть самих по себе явлений, из коих абстракции извлечены, как истина сразу же превращается в ложь. В такую же ложь, в какую тотчас же превратились бы совершенно точные результаты химического исследования состава красок, которыми написана «Сикстинская мадонна», как только в этих результатах химик усмотрел бы единственно научное понимание уникального «синтеза», созданного кистью Рафаэля.
То же и тут. Абстракции, совершенно точно выражающие (описывающие) формы и схемы протекания мышления во всех формах его конкретного осуществления, непосредственно и прямо выдаются за схемы процесса, созидающего всё многообразие человеческой культуры, в составе которой они и были обнаружены. Вся мистика гегелевской концепции мышления сосредоточивается в результате в одном-единственном пункте. Рассматривая всё многообразие форм человеческой культуры как результат обнаружения действующей в человеке способности мыслить, он утрачивает всякую возможность понять, а откуда же вообще взялась в человеке эта уникальная способность с её схемами и правилами? Возводя мышление в ранг божественной силы и энергии, изнутри побуждающей человека к историческому творчеству, Гегель просто-напросто выдаёт отсутствие ответа на этот резонный вопрос за единственно возможный на него ответ.
Для Гегеля чувственно-предметная деятельность миллионов людей, создающих своим трудом то тело культуры, самосознанием которого является научное мышление, остаётся вне поля зрения, кажется «предысторией» мышления. Поэтому внешний мир выглядит как «сырьё» для производства понятия, как внешний материал, который дóлжно обработать посредством наличных понятий, чтобы они были конкретизированы.
Мышление, таким образом, превращается в единственно активную и творящую «силу», а внешний мир – в поле её применения. Естественно, что если чувственно-предметная деятельность (практика) общественного человека изображена как следствие, как внешнее воплощение идей, планов и понятий, разработанных мышлением (т.е. лицами, занятыми умственным трудом), то ответ на вопрос, а откуда же берётся мышление в голове теоретиков, как оно возникает, становится принципиально неразрешимым.
Оно есть, отвечает Гегель, и спрашивать о его возникновении из чего-то другого – значит задаваться праздным вопросом. Оно есть, оно действует в человеке и постепенно приходит к осознанию своих собственных действий, их схем и законов. Логика и есть самосознание этого ниоткуда и никогда не возникавшего «творческого начала», этой «бесконечной творческой мощи», этой «абсолютной формы». В человеке сия «творческая сила» лишь обнаруживает, опредмечивает, отчуждает себя, чтобы затем – в логике – познать самоё себя как таковую, как всеобщую творческую силу.
Вот и весь секрет гегелевского объективного идеализма. Объективный идеализм в логике, следовательно, означает отсутствие какого бы то ни было ответа на вопрос, откуда возникает мышление? В виде логики, определяемой как система вечных и абсолютных схем всякой творческой деятельности, Гегель и обожествляет реальное человеческое мышление, его логические формы и закономерности.
В этом – одновременно и сила, и слабость его концепции мышления и логики. Сила – в том, что обожествляет он (т.е. фиксирует как от века и навек данные, как абсолютные) всё же вполне реальные, вскрытые им в ходе изучения человеческой духовной и материальной культуры, логические формы и законы человеческого мышления. Слабость – в том, что логические формы и законы человеческого мышления он всё-таки обожествляет, т.е. объявляет абсолютными, даже не разрешая ставить вопроса об их возникновении.
Дело в том, что идеализм, т.е. представление о мышлении как о всеобщей способности, которая лишь «пробуждается» в человеке к самосознанию, а не возникает в точном и строгом смысле на почве определённых, вне и независимо от него складывающихся условий, приводит к ряду абсолютно неразрешимых проблем и внутри самой логики.
Делая колоссальной важности шаг вперёд в понимании логических форм мышления, Гегель останавливается на полпути и даже возвращается назад, как только перед ним встаёт вопрос о взаимоотношении чувственно воспринимаемых форм воплощения деятельности духа (мышления), в которых дух становится для самого себя предметом рассмотрения. Так, Гегель отказывается признать слово (речь, язык) единственной формой «наличного бытия духа», внешнего обнаружения творческой силы мышления. И тем не менее продолжает считать его преимущественной, наиболее адекватной формой, в виде которой мышление противополагает себя самому себе.
«В начале было Слово» – в применении к человеческому мышлению (мыслящему духу человека) Гегель сохраняет библейское положение нетронутым, принимая его как нечто самоочевидное и делая его основоположением (аксиомой) всей дальнейшей конструкции, точнее, реконструкции развития мыслящего духа к самосознанию.
Мыслящий дух человека пробуждается впервые (т.е. противополагает себя всему остальному) именно в слове, через слово, как способность «наименовывания», а потому и оформляется прежде всего как «царство имён», названий. Слово и выступает как первая – и по существу и по времени – «предметная действительность мысли», как исходная и непосредственная форма «бытия духа для себя самого».
Наглядно это выглядит так: один «конечный дух» (мышление индивида) в слове и через слово делает себя предметом для другого такого же «конечного духа». Возникнув из «духа» как определённым образом артикулированный звук, слово, будучи услышанным, опять превращается в «дух», в состояние мыслящего духа другого человека. Колебания воздушной среды (слышимое слово) и оказываются лишь чистым посредником между двумя состояниями духа, способом отношения духа к духу, или, выражаясь гегелевским языком, духа к самому себе.
Слово (речь) выступает здесь как первое орудие внешнего воплощения мышления, которое мыслящий дух создаёт «из себя», чтобы для самого себя (в образе другого мыслящего духа) стать предметом. Реальное же орудие труда – каменный топор или зубило, скребок или соха – начинает выглядеть как второе и вторичное – производное – орудие того же самого процесса опредмечивания, как чувственно-предметная метаморфоза мышления.
Таким образом, в слове Гегель видит ту форму наличного бытия мыслящего духа, в которой тот выявляет свою творчески созидающую силу (способность) раньше всего, до и независимо от реального формирования природы трудом. Последний лишь реализует то, что мыслящий дух открыл в самом себе в ходе проговаривания, в ходе диалога себя с самим собой. Но при таком освещении диалог оказывается лишь монологом мыслящего духа, лишь способом его «манифестации».
В «Феноменологии духа» вся история и начинается поэтому с анализа противоречия, возникающего между мышлением, поскольку последнее выразило себя в словах «здесь» и «теперь», и всем остальным, ещё не выраженным в словах его же содержанием. «Наука логики» тоже предполагает эту схему, содержит в своём начале ту же самую, только неявно выраженную предпосылку. Предполагается и тут мышление, осознавшее и осознающее себя прежде всего в слове и через слово. Не случайно и завершение всей «феноменологической» и «логической» истории мыслящего духа состоит в возвращении к исходному пункту: своего абсолютно точного и незамутнённого изображения мыслящий дух достигает, естественно, в печатном слове – в трактате по логике, в «Науке логики»...
Потому Гегель и утверждает в логике: «Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом языке. В наше время мы должны неустанно напоминать, что человек отличается от животного именно тем, что он мыслит. Во всё, что для него (человека) становится чем-то внутренним, вообще представлением, во всё, что он делает своим, проник язык, а всё то, что человек превращает в язык и выражает в языке, содержит в себе, в скрытом ли, спутанном или более разработанном виде, некоторую категорию»[123]123
Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. V, Москва, 1935, с. 6-7.
[Закрыть].
Здесь – самый глубокий корень гегелевского идеализма. Этим ходом мышление как деятельность, осуществляющаяся в голове именно в виде внутренней речи, и превращается в исходную точку для понимания всех феноменов культуры, как духовной, так и материальной, в том числе всех исторических событий, социально-экономических и политических структур и пр. и пр. Тогда весь мир продуктов человеческого труда, вся история и начинает толковаться как процесс, вытекающий «из головы», «из силы мышления». Вся грандиозная концепция истории отчуждения (опредмечивания) творческой энергии мышления и обратного присвоения ею плодов своего труда (распредмечивания), начинающаяся со слова и в слове же замыкающая свои циклы, как раз и есть та история, схема которой изображена в «Науке логики».
Разгадка гегелевской концепции не так уж сложна. Основанием всей сложной схемы служит старинное представление, согласно которому человек сначала думает, а затем уже реально действует. Отсюда и схема: слово – дело – вещь (созданная делом) – снова слово (на этот раз словесно фиксированный отчёт о содеянном). А далее – новый цикл по той же самой схеме, но на новой основе, благодаря чему всё движение имеет форму не круга, а спирали, «круга кругов», каждый из которых, однако, и начинается, и заканчивается в одной и той же точке – в слове.
«Рациональное зерно» и одновременно мистифицирующий момент описанной схемы легче всего рассмотреть сквозь аналогию (хотя это и больше, чем просто аналогия) с теми метаморфозами, которые политэкономия выявила в анализе товарно-денежного обращения. Подобно тому, как накопленный труд, зафиксированный в машинах, в средствах и продуктах труда, выступает здесь в образе капитала, в образе «самовозрастающей стоимости», сознательным «душеприказчиком» которой выступает отдельный капиталист, так и научное знание, т.е. накопленный духовный труд общества, выступает в образе Науки – такой же безличной и безликой анонимной силы. Отдельный же теоретик-профессионал функционирует как представитель «саморазвивающейся силы знания». Его социальная функция сводится к тому, чтобы быть единичным воплощением всеобщего духовного богатства, накопленного за столетия и тысячелетия духовного труда. Он выступает как одушевлённое орудие процесса, совершающегося независимо от его единичного сознания и его единичной воли, – процесса приращения знания. Мыслит тут не он как таковой – «мыслит» Знание, вселившееся в его индивидуальную голову в процессе образования. Не он владеет понятием, а, скорее, Понятие владеет им, диктуя ему, куда он должен обращать своё исследовательское внимание, свою личную энергию, диктуя ему и способы, и формы его собственной деятельности в качестве теоретика.