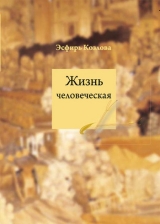
Текст книги "Жизнь человеческая"
Автор книги: Эсфирь Козлова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 7
Год 1934. Пионерлагерь. «Веселые ребята». Песни. Пушгоры. «Челюскин» и челюскинцы
В 1934 году родители отправили нас в пионерский лагерь, расположенный совсем недалеко от Пушкинских Гор. Брат был в старшем отряде и требовал, чтобы я к нему не приставала и ходила со своим отрядом. Я очень скучала и хотела домой. Запомнились мне только несколько эпизодов.
В жаркий июльский день мы купались в речушке, протекавшей неподалеку, в зарослях кустов и деревьев. Одна девчонка – Томка, моя одноклассница, сильно перегрелась, и у нее случился солнечный удар, а потом – дикая истерика: она смеялась и плакала одновременно. Но мы-то знали, что в ее истерике виновато не только солнце. Девочка она была красивая и, хотя ей было всего 12 лет, она влюбилась в нашего пионервожатого и, как мы говорили, «бегала» за ним. Он, естественно, относился к ней как к капризному малому ребенку. После эпизода с «солнечным ударом» родители срочно забрали ее домой. Без Томки стало еще тоскливее.
Старший отряд поехал в Пушгоры на экскурсию, а нас не взяли – опять обида. И еще помню я, как мы ходили строем и пели песни из фильмов «Веселые ребята» и «Дети капитана Гранта». Мы еще не видели фильмы, но по всей стране уже звучало: «Но тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет», «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и горы ты обшарил все на свете и все на свете песенки слыхал…», «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря!» Эту песенку я мысленно напевала всегда, когда мне было трудно.
1934 год был годом величайшего подвига советского народа и годом потерь. Затертый во льдах Северного Ледовитого океана пароход «Челюскин» затонул 13 февраля 1934 года. Весь народ следил за судьбой челюскинцев, затаив дыхание. Мы бредили Северным полюсом, с восторгом произносили имена О. Ю. Шмидта и капитана В. И. Воронина. Все с трепетом ждали спасения Карины, рожденной на «Челюскине» в Карском море. Имена спасателей – летчиков Ляпидевского, Леваневского, Молокова, Каманина, Водопьянова – знали все. И когда всех челюскинцев вывезли на Большую Землю, было всеобщее ликование.
Мы, хотя и были совсем детьми, но радовались и печалились вместе со всеми. И летом в пионерлагере много говорили о челюскинцах и обсуждали проблемы освоения Арктики. Я думаю, это тоже сыграло роль в выборе мною в дальнейшем профессии географа.
В день, когда в лагере зажегся прощальный костер, мы пели любимые песни, и главную – «Картошка – тошка – тошка». Нам было весело и уютно у жаркого костра, с треском выбрасывающего золотые искры в вечернем мраке на лесной опушке.
В сентябре 1934 года в наш пятый класс пришла новая девочка – Валя Хвалынская. Приехала она с родителями из Ленинграда. Ленинград – город нашей мечты, куда мы все хотели бы попасть. Для нас было непостижимо, что может быть такой огромный город, который сам делится на отдельные районы. Наш опочецкий район вмещал в себя не только город, но и все окрестные деревни, поля, леса, реки и озера. Валя рассказывала, что в Ленинграде есть Дворец пионеров, много театров, клубов, дворцов. Мы ей очень завидовали. Валя в Ленинграде училась хореографии. Теперь она учила нас классическим фигурам балета. Мы пытались делать «арабески», «ласточки» и что-то еще, для нас немыслимое.
Мы были воспитаны в основном на народных танцах: русских, украинских, лезгинке. Весь этот репертуар мы готовили к годовщине Великого Октября. Концерт состоялся в клубе, только что построенном к празднику. Дом культуры стоял на берегу реки Великой, перед ним возвышался памятник Ленину. (Этот памятник сбросили в реку во время гитлеровской оккупации, и спустя десятилетия после войны он оставался в реке.) Выступали мы вместе со взрослыми, среди которых выделялась своей внешностью молодая красивая женщина – жена секретаря обкома партии. Она пела какие-то романсы. В самый разгар выступления кто-то принес страшное известие, что ее муж убит в деревне кулаками. Не стало праздника, наступила гробовая тишина. Все были потрясены. Его хоронил весь город. Люди шли и плакали: в народе о нем жила добрая слава.
Первого декабря пришел с работы расстроенный отец: в Ленинграде убили Кирова. Всех мучил вопрос: у кого могла подняться рука на всеми любимого человека? Мы гордились, что опочецкий район – это часть ленинградской области и что первый секретарь обкома партии – Киров. Мы много слышали о нем, о его доброте, отзывчивости, любви к простому народу. Он ходил по городу, по предприятиям без охраны, а убили его в Смольном. Мы, как и весь советский народ, считали, что убить такого человека могли только враги народа. Разве могло прийти нам тогда в голову, что через несколько десятков лет начнут пересматривать, перемалывать историю и калечить наши несчастные души, веровавшие в светлое будущее и справедливость нашего нового социального строя?
Я все сильнее привязывалась к Кате Богдановой. Мы расставались только вечером, часто вместе учили уроки, гуляли, и все говорили, говорили и говорили… О чем? Обо всем! И все ушло, и время ушло, ушли мечты, идеалы, радости. Только осталась горечь воспоминаний.
Папа очень много работал, часто после обеда вновь возвращался в банк, а иногда уходил на всю ночь, много курил и часто раздражался.
Мама переписывалась со своей тетушкой, которая жила в Америке. Тетя Лиза уехала в Америку еще ребенком, в начале века, с родственниками покойного маминого отца. Она присылала нам фотографии свои и своих детей. Помню три фотографии: тетя Лиза сидит на стуле в декольтированном платье по моде тридцатых годов с ниткой жемчуга на шее. И две фотографии: мальчика в пальто и шапочке и девочки – в белом платье с короткой стрижкой.
Однажды отец пришел встревоженный и велел маме уничтожить все письма и прекратить всякую переписку с Америкой. Он был напуган репрессиями. Арестовали Ивана Дмитриевича Еременко, который служил в белой гвардии. Мы дружили с его семьей, ходили друг к другу в гости. Жена у него была Машенька. Их так и называли: Иван да Марья. И были у них две дочки: Алла – черненькая и Лариса – беленькая. Лариса была очень красивая девочка. Когда Ивана Дмитриевича забрали, Лариса с мамой уехали из Опочки, а Алла заболела скарлатиной и осталась у тетушки. Из-за болезни Алла осталась на второй год и теперь училась в одном классе с моим братом.
Арестовали учителя истории – Парфенова, а у него остались младшие братья и сестры, которые были на его попечении. Говорили, что он скрыл свое кулацкое происхождение и «пролез» в партию. Ходил он всегда в поношенной кожаной куртке, и все мы считали его красноармейцем. Кем он был на самом деле, мы не знали. Мы верили, что все, что делается, делается на благо народа.
Отец мало занимался нами, когда мы были маленькими: у него не было времени. Только иногда он играл с нами, учил нас делать кораблики из газет и спускал их вместе с нами с моста в бурный поток Великой, делал с нами мебель из спичечных коробков и строил из игральных карт домики. Теперь мы подросли, и они с братом уже спорили о политике, и разговоры были довольно бурными. Суть их споров я тогда не понимала, но помню только, что маме приходилось их разгонять.
Глава 8
Год 1935. Шестой класс. Ульяновские. Книги. Наши животные. День рождения
В 1935 годы во флигеле поселилась семья Ульяновских: муж – инженер, веселая черноглазая шатенка цыганского типа – его жена Верка (почему-то мама ее иначе не называла) и пятилетняя дочка Эльвира, похожая на мать. Ульяновский был замкнутым, даже мрачноватым человеком. Жена его была женщина общительная и часто заходила к нам поболтать и помузицировать.
Летом 1935 года к ней приехала из Ленинграда сестра Женя с трехлетней дочкой Риммой. Жене было лет двадцать пять. Удивительно нежное белокурое создание с голубыми глазами. Брату исполнилось только четырнадцать лет, но женщины уже начали обращать на него внимание. В школе девочки писали ему записочки, и он уже дружил с девочкой, которая была старше его. Они вместе ходили на лыжах, катались на коньках, а летом купались и загорали.
Вот и Женечка была не прочь с ним пококетничать. Брат мой был от нее без ума. Это, вероятно, его и вдохновило на написание романа. Что-то о лунном свете, тайных встречах в саду и т. п. Книгу свою он сам переплел и оформил. Это была его первая книга. Теперь у него десятки трудов, книг и брошюр, но все они на другую тему.
Книги мы очень любили, брали их в библиотеке. Тогда не принято было создавать личные библиотеки. Зачем? Ведь книга – это общее достояние, и чем больше людей ее прочитает, тем лучше и тем книга ценнее. Из книг мы черпали знание жизни. Это теперь у нас в шкафах и на книжных полках стоят сотни книг, зачастую не востребованных. Читали мы все подряд, без разбора. Помню детскую книжку «За золотыми окошками». Это была очень грустная книжка. Мальчик каждый вечер на закате видел дом с золотыми окошками. Однажды он решил пойти и посмотреть, кто же там живет, и увидел, что там живут такие же, как он, бедные люди, а окна светились золотым заревом заходящего солнца. Я тогда уже поняла, что «золотые окошки» – это мираж, обман.
Однажды отец принес из банка пишущую машинку. Мама когда-то умела печатать. Отец хотел, чтобы она опять начала печатать. Он чувствовал, что недолго проживет. А мама ничего не умела делать. Как-то семья без него останется? Машинка была не совсем исправна. Когда Ульяновский поехал в командировку в Ленинград, его попросили починить там машинку. Он сначала отказывался, а потом взял. Вернулся он из Ленинграда перепуганный, без машинки. Не знаю, почему он решил ее там продать, но факт, что его при этом задержали и дело передали в суд. Он всю вину взвалил на маму. Пришлось обращаться к адвокату. Это было ужасно. Для отца это был страшный удар. Болезнь его стала прогрессировать. Летом в банке делали ремонт, а он почти не выходил оттуда. Туберкулез легких перешел на горло. Он с трудом говорил хриплым голосом, с трудом ел. Осенью он снова уехал в санаторий на два месяца, но уже не в Крым, а куда-то поблизости.
Соседка уговорила маму взять поросеночка «на откорм». Купили они поросят и поместили их в загон-закуток в сарае. Поросята были розовенькие, маленькие, очень симпатичные. Когда им приносили пойло, они ели с жадностью и весело хрюкали. Но вскоре они заболели, жалобно визжали и перестали есть. Однажды, войдя утром в сарай, мама увидела, что наш поросеночек лежит и не дышит. Потом умер и второй. Оказалось, поросят перекормили.
Во дворе жили Пушок и Нелька – две собаки, которых мы взяли в Катином доме. Они были очень разные. Пушок – гладкий, весь белый, на коротких лапах с широким туловищем и умными карими глазами. Нелька – разноцветная, маленькая, изящная собачонка, таких обычно показывают в цирке. Она любила вытанцовывать на задних лапках. Пушок всюду следовал за мной. Даже в школу провожал и ждал перемены. За Пушком ходила целая стая бездомных дворняг. Особенно выделялся крупный пес рыжей масти. Он приходил к нам во двор, оказывая особое внимание Пушку. И вдруг наш Пушок начал толстеть. Тут-то мы и узнали, что не Пушок у нас, а Пушиха.
12 сентября 1935 года мне исполнилось тринадцать лет. Впервые в жизни мы отмечали мой день рождения. Пришли девочки-одноклассницы и подарили мне альбом для фотографий. На картонной обложке альбома был изображен «Челюскин». Этот альбом сохранился у меня до сего дня. И это – чудо. Погибло почти все, что некогда в детстве окружало нас, время поглотило тех, кого уже нет с нами, а альбом – старый, порванный, подклеенный – все еще хранит наше детство.
Глава 9
Год 1936. Вечер памяти А. С. Пушкина. Морозы. Гибель щенят. Папины сестры. Смерть отца. Прощай, Опочка!
В январе 1936 года, в преддверии 100-летия со дня гибели А. С. Пушкина, в школе в дни памяти поэта ставили «Сцену у фонтана» из «Бориса Годунова». Ося играл Лжедмитрия, а Алла Еременко – Марину Мнишек. Брату налепили на лицо бородавки и нарядили шляхтичем. Алла была неподражаема. Ей очень шла роль гордой, надменной полячки. Наряд ее блестел искусственными драгоценностями. На этом вечере я читала стихотворение Лермонтова «На смерть поэта». Слова «Вы, жадною толпой, стоящие у трона, / Свободы, гения и славы палачи…» я произносила с такой ненавистью и презрением, что чувствовала, как замирают в зрительном зале слушатели. Я уже привыкла к тому, что аплодисменты возникают не сразу, а как бы после всеобщего вздоха. Мне нравилось читать стихи со сцены.
Мы с братом жили своей школьной жизнью, своими делами, заботами, а в это время дома наш отец доживал свои последние дни. Он вернулся из санатория поздней осенью. Ему уже трудно было двигаться, его привезла мама. Когда я вошла в гостиную, где он сидел на стуле, и увидела его горящие запавшие глаза и всю его немощную фигуру, я потеряла сознание. Теперь мы все реже заходили в его комнату, говорить он не мог – ему было тяжко. И только мама пыталась облегчить его страдания своим самоотверженным уходом. На нервной почве маму скрутил радикулит. Несколько дней она разгибалась, превозмогая боль. Лечила я ее горячим утюгом, грела его на примусе, заворачивала в полотенце и прикладывала к спине.
В январе ударили сильные морозы. Воздух казался звенящим, пар изо рта мгновенно окутывал лицо, волосы покрывались белым инеем. Под ногами громко похрустывал снег, искрящийся россыпью разноцветных лучистых брызг. Наши куры, которые жили в сарае, на сеновале, стали куда-то прятать свои яйца. И как мы ни искали – не могли их найти. Гнезда были пустыми. Нашли случайно. Мы играли в сарае, и брат забрался под крышу сарая. За балкой лежали друг на друге несколько десятков замерзших, полопавшихся яиц. Было жалко кур и того, что не вывести им потомства из этих яиц. Яйца сварили не размораживая, и съели.
Еще более печальной была гибель потомства Пушихи. В январе она ощенилась тремя щенками, слепыми, толстыми, с голыми розовыми животиками. Сначала мама поселила Пушку со щенками в коридоре, в старой корзине с подстилкой из тряпья. Но собака лаяла и беспокоила отца. Мама потребовала, чтобы мы вынесли щенят с Пушкой в сарай. Пушиха почти не оставляла своих щенят. Сбегает поест, сделает свои дела и обратно – отогревать своих деток. Но однажды Пушка задержалась, щенята выбрались из своего «гнезда» в поисках материнского тепла… Мы вдруг увидели, что Пушиха царапается около дома и жалобно визжит. Мама пошла за ней в сарай и увидела мертвых, замерзших щенят. Я горько плакала, но поправить уже ничего было нельзя.
Из Великих Лук приехали попрощаться с братом сестры отца – тетушки Рая и Таня. Были они шляпными мастерицами и привезли нам с мамой две золотистые плетенные из соломки шляпки с муаровыми лентами. Тетушки, увидев в каком тяжелом состоянии находится их брат, уехали, пробыв у нас дня два-три. Мы были мало знакомы. Только один раз в конце двадцатых годов мы ездили с папой в Великие Луки, жили у тети Тани, а потом, в Булынино, где сестры снимали дачу.
Отец умер 16 февраля 1936 года. Мы знали, что отец умирает. Каждый день, возвращаясь из школы, я смотрела на наши окна. Мне казалось, что если отец умрет, в окнах не будет света. Дни были короткие, и возвращалась я обычно в сумерки. Но отец умер днем. За нами в школу пришла наша новая соседка – Белявская. Она тоже была больна туберкулезом, кашляла и куталась в пуховый серый платок. Меня вызвал из класса директор, что-то говорили, успокаивали. Сказали, что отец еще жив, но ему стало хуже. Я очень любила отца. Всю дорогу я плакала. Ведь мне уже было тринадцать лет, и меня нельзя было обмануть, да и зачем?
Когда мы пришли домой, мама сидела в кухне. Вокруг толпились какие-то незнакомые люди. Отец лежал на диване накрытый простыней. Нас подвели попрощаться. После того, как я увидела маму с окаменевшим от горя лицом, я больше не плакала.
Отца хоронили по еврейскому обычаю. Его завернули в талес – шелковое покрывало с белыми и черными полосами, которое надевают евреи, когда молятся. Его положили в гостиной на пол, а в голове поставили две свечи. Комнату не отапливали. В квартире было холодно, и мы все жались на кухне. Приходили разные люди, знакомые и совсем чужие. Нам казалось, что они смотрят на нас и ждут наших слез. А мы уже не могли плакать и не хотели выносить свое горе к этим людям. Мы с братом прятались от людей в спальне. Я шептала: «Зачем они приходят? Что им всем здесь надо? Что их гонит сюда – праздное любопытство?»
Три дня не хоронили отца, ждали, что приедут его сестры. Никто не приехал…
В морозный февральский день пришло много людей проститься с отцом. Папу хорошо знали в городе, многим он помогал в финансовых делах, многие знали его просто как человека. Пришли сотрудники Госбанка, только новый директор банка так трясся за свою шкуру, что не пришел на похороны.
Отца положили на носилки, покрыли черным покрывалом и срезанными ветками зеленой комнатной елочки. Носилки подняли и понесли на плечах через весь город на еврейское кладбище. У банка сделали остановку – последнее «прости» месту, которому он отдал жизнь. Нас хорошо, тепло одели, но я все время дрожала. На кладбище могила была уже готова. Раввин прочитал молитву. Зачем-то у нас с мамой надрезали платья у воротника.
Мама ужасно плакала и убивалась. Ей казалось, что жизнь кончена: она ведь ничего не умеет. Что будет с ней и с детьми? Кому мы нужны? Рядом с нами не было родных, только чужие люди – знакомые и незнакомые. Домой мы вернулись одни. У евреев не принято делать поминки. Нас встретили Белявские. Они проветрили и протопили квартиру, сварили обед и накормили нас. Есть не хотелось. Хотелось зарыться в постель и спать, никого не видеть и ни с кем не разговаривать.
В свой класс я уже не вернулась. Мама написала своим родителям, чтобы они забрали нас к себе, что ей здесь, на чужбине, страшно и тоскливо. В конце февраля за нами приехал мамин брат, которого мы называли просто Миша, так как он был не намного старше нас. Ему было тогда лет двадцать пять. Он окончил институт и работал инженером в Днепропетровске. Он появился – здоровый, веселый, улыбающийся, с вечной смешинкой в глазах за толстыми стеклами очков. Мы сразу ожили. Ходили с ним по городу. Как-то зашли в книжный магазин, и он купил мне открытку с репродукцией картины Брюллова «Последний день Помпеи». Она произвела на меня неизгладимое впечатление: огонь извержения вулкана, разрушение прекрасного города и люди, для которых нет выхода.
В школе мама забрала наши документы. Нас уговаривали, чтобы мы ходили в школу, пока не уедем. Но все во мне восставало: я больше всего боялась человеческой жалости. Встречалась я только с Катей в эти последние наши дни в Опочке. Из мебели мы взяли только рояль и шкаф. Миша достал где-то доски и заколотил рояль в ящик, обложив его предварительно перинами и подушками. Всю мелочь, домашнюю утварь, посуду, белье упаковали в бельевые корзины. Все было готово к отъезду. Мы сидели и ждали, когда за нами приедет извозчик.
Нас ждала новая жизнь. Жалко было расставаться только с Катей и Пушком. На все мои просьбы взять Пушка с собой, мама отвечала отказом. Катя провожала нас. Она вышла из саней у своего дома, а Пушок все несся и несся. Катя обещала взять его (ее) к себе, но было больно смотреть, как бежал Пушок за нашими санями, долго, долго, пока устал и отстал. Он все понимал, этот маленький, умный, преданный, ласковый Пух.
Мы оставили все – Пушка, Опочку, могилу отца, собор на том берегу Великой, речку с ее радостями, поля и леса. Мы оставили в Опочке свое детство.
Пройдет много лет, которые вместят в себя юность и зрелость, мир и войну, блокаду Ленинграда, учебу, и работу, и мою семью, пройдет целая жизнь прежде, чем я вновь вернусь в страну моего детства, к реке Великой, в город Опочку.
Послесловие к «Детству»
«Машина везла меня
в страну моего детства…»
Д. Гранин
В начале 60-х годов прошлого века, когда моего мужа уволили после инфаркта из рядов советской армии, мы вернулись из Йошкар-Олы в Ленинград. В Ленинграде жил старший брат мужа – Леонид со своей семьей. В 1966 году Леонид на своей машине ехал в Белоруссию, его путь пролегал через Псковскую область, и мы, будучи с мужем в отпуске, поехали с ним. Нас пригласили в гости одесситы, наши друзья по Североморску. Мой муж служил вместе с одесситом Василием Дмитриевичем Кочергой, который после демобилизации вернулся в свою солнечную Одессу.
Наш путь от Ленинграда до Опочки проходил через Лугу, Псков и Остров. Я попросила проехать через Опочку, где я не была с детских лет. Мысленным взором прослеживаю я события этого дня, как будто это было вчера.
Когда мы переехали новый мост через Великую, который в отличие от старого сдвинут в сторону Вала, я вышла и замерла в растерянности: мне показалось, что все расстояния на Завеличье как бы уменьшились, все, что меня окружало, как будто сдвинулось со своих мест. Нет нашего дома, нет домов Люси и Кольки Нефельда. И только река по-прежнему несет свои прозрачные воды. Исчез пруд, где водились головастики и по берегу которого цвели незабудки: на его месте возвышается насыпной холм. Нет и сарая-сеновала. Но позади нашего двора, как и прежде, стоит лачуга. Какая-то старая женщина смотрит на меня с неприязнью и неохотно говорит, что наши дома сожгли – не то немцы, не то при немцах.
Леонид остался в машине – передохнуть перед дальней дорогой, а мы с мужем и дочкой пошли на еврейское кладбище, где был в 1936 году похоронен мой отец. Кладбище было маленькое, запущенное, заросшее деревьями и кустарниками. Прошли десятилетия, и я с трудом отыскала место его захоронения. Я помнила, что он был похоронен рядом с могилой Забежинского, зубного врача. К счастью, на этой могиле был установлен обелиск еще до войны. Сейчас он был свален и разбит, но только по нему я и нашла безымянную могилу своего отца. Я стояла и горько плакала, плакала о том, чего уже не было и не могло быть. Мой муж торопил меня: Леонид спешил в Оршу.
Мы вернулись к машине и поехали дальше. Я плакала долго, горько и безутешно, не только от вида заброшенной могилы отца, но и от того, что никто, в том числе и мой муж, не мог понять и разделить мою боль. Дорогу до Орши, пребывание в этом городе у добрых родственников мужа – все поглотило время.
* * *
В июле 1977 года я поехала в командировку в город Псков. Мне удалось выкроить только один день для поездки в родную Опочку. 27 июля в 8 часов утра я выехала из Пскова автобусом. Я старалась не волноваться. Два с половиной часа езды, – и я в Опочке. Меня встретил очень грязный автовокзал с загаженным до предела привокзальным туалетом, который произвел на меня невероятно удручающее впечатление. На 14.40 у меня был обратный билет, и я боялась, что ничего не успею.
Местный автобус, на котором можно было доехать от автовокзала до кладбища, ходил раз в сорок минут. Я решила пойти на кладбище пешком, хотя мне представлялось, что это довольно далеко. На мое счастье, мне встретилась женщина, которая указала мне кратчайший путь. И буквально через пятнадцать минут я была уже на месте.
После первой моей послевоенной поездки прошло больше десяти лет. Кладбище по-прежнему было в запустении, но памятник Забежинскому не валялся, а был установлен на постаменте. Вероятно, детьми или внуками. После немецкого нашествия в городе не осталось евреев.
Если десять лет назад были видны хотя бы очертания могилы моего отца, то теперь все сравнялось и заросло травой и кустарником. И спросить не у кого. В этот раз я не плакала, только голову как будто обручем сковало. Молча постояла я у безымянной могилы и побрела в город.
На сей раз мне повезло: сразу подошел автобус, и я быстро попала на рыночную площадь на Завеличье. Рыночная площадь была невелика и выглядела очень бедно. Какие-то три убогие старушки продавали ягоды, морковь и лук. Я пошла по улице Набережной и дошла до дома № 3, где мы когда-то жили, а теперь на нашем фундаменте стоял другой, новый дом. Здесь улица поворачивала на Клемешино; похоже, что там ничего не изменилось. К усадьбе по-прежнему вела липовая аллея, но туда я не пошла. На обратном пути я встретила пожилую женщину, мы разговорились. Оказалось, что она знакома с Верой Игнатович, с которой я училась до шестого класса. А вот Кати Богдановой в Опочке нет, хотя ее белый двухэтажный дом у моста цел и невредим.
Женщина показала мне дом Веры Игнатович, и мы с ней встретились и даже узнали друг друга. После войны она стала преподавать в школе немецкий язык. Жила она одна, но у нее была замужняя дочь, которая жила в Москве, а своих двух девочек отправляла к бабушке в Опочку. Девчушки были очень славные, лет пяти, послушные, хорошенькие. Удивительно, прошло сорок два года со времени моего отъезда из Опочки, а Вера мало изменилась, если не считать фигуры. Что-то в ней осталось от прежней маленькой девочки. Поведала она мне свою историю, но что в ней правда, а что вымысел – не мне судить.
В Опочке жила еще Нина Гаврилова, но я с ней не встретилась – не захотела. Она работала у немцев. За что отсидела десять лет и вернулась в Опочку. А я еще не стала относиться к немцам лояльно.
Потом я пошла на Вал, обошла его вокруг. Показался он мне меньше, но выше. Видно, труднее мне стало подниматься по лестнице. Идя по дорожке, я встретила всего три группки людей. Взяла на память черный камушек, почему-то пахнущий нефтью. Он у меня и сейчас хранится, напоминая мне о моей родине. Спустилась к реке. Умылась в Великой, и на душе стало легче. В Великой вода прозрачная, хотя река заросла водорослями, а берега – деревьями и кустарниками. Возле того места, где мы жили, стоят высокие клены. Они были тут и сорок лет назад, и их желтые листья мы собирали осенью, чтобы мама пекла на них вкусный черный хлеб.
За Набережной стали появляться новые дома, нет больше на площади красавца-собора, но в остальном все по-прежнему: и казармы, и сберкасса, и школа, и улица Ленинская, и одноэтажные деревянные домики – старый, обойденный железной дорогой городок, в котором живут вежливые и доброжелательные люди, искренне старавшиеся мне помочь.
Прошли десятилетия. Изменилась я, но город моего детства изменился мало. Вечером я вернулась в Псков.
* * *
В последний раз я посетила Опочку в сентябре 1987 года. Как давно это было! Память и мои записные книжки возвращают меня к тем дням, к тем впечатлениям. На сей раз я была не одна: со мной была моя дочка Катя. Автобус привез нас в Опочку в семь часов вечера. На улице Ленина мы нашли гостиницу «Волна». Встретили нас там не слишком дружелюбно: «Без командировки не принимаем». С трудом уломали администратора, нас поселили, но предупредили, что номер забронирован и предоставляют нам его «из милости», только на сутки. Но мы и этому были рады. Оставили вещи и пошли гулять по городу. По дороге встретили женщину, которая знала «всех жителей Опочки». Она похвалила нам Веру Игнатович, к которой мы отправились в гости. Сидели у нее, пили чай, смотрели телевизор; говорить было вроде бы не о чем. Все было сказано во второй мой приезд. Вера показалась мне какой-то странной, с какой-то новой версией своей жизни во время войны. При первой встрече она рассказала, что была в оккупации. Я запомнила сказанные ею слова: «А жить-то хотелось…» Тогда я смолчала, не хотела ее судить. А в этот раз рассказывала, что была в эвакуации. Чему верить? Не знаю. Чужая душа – потемки.
На следующий день мы с Верой и Катей отправились на Вал, где и фотографировались, так как Катя захватила с собой фотоаппарат. Когда мы поднялись на верхнюю площадку Вала, я была поражена: пожелтевшие листья деревьев, особенно широкие листья кленов, были испещрены черными кляксами. Вера рассказала, что ураган, пронесшийся 7 – 9 августа, поваливший тысячи деревьев в пушкинских горах, принес какой-то черный дождь, от которого она с трудом отмыла оконные стекла.
Когда мы ехали от Пскова к Опочке, я обратила внимание на завалы: деревья лежали в лесу вдоль дороги как скошенная трава, но происхождение черных луж в канавах и пятен на листьях осталось для меня тайной.
С Вала мы спустились на Завеличье, посетили на рыночной площади какой-то промтоварный магазин, где купили дефицитные тогда ситцевые наволочки и книгу Д. Гранина о Карпинском, а затем пошли по Набережной к нашему дому. Теперь уже маршрут стал более узнаваемым. Вот дом у моста, где жила Катя Богданова; а вот через несколько метров бывший детдом; а в конце улицы, как ни странно, я увидела дом, который почти не отличался от нашего. Забор с калиткой в том же месте, только нет палисадника. Недалеко от дома стоит тот же старый клен, все так же течет река Великая, оправдывая свое название, она по-прежнему широка, глубока, и струится в ней прозрачная чистая вода, и виден каждый камешек на дне ее.
А Опочка, несмотря на то что железная дорога обошла ее стороной, а в магазинах пустые полки, растет и строится. Уже много новых улиц появилось за нашим домом, там, где некогда были поля.
Кладбище заросло еще больше, и нет никаких следов папиной могилы. Все заросло кустарником, осталась только память сердца и наши красные гвоздики на траве.
На следующее утро мы расстались с Опочкой – навсегда.








