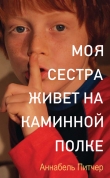Текст книги "Масло в огонь"
Автор книги: Эрве Базен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
IX
Ну и ветер! Совсем рядом со мной он трясет железный экран камина, сдирает жесть с крыши крольчатников и, ворвавшись через окошки на чердак, стучит там стручками фасоли, которые сушатся, нанизанные на длинные нити. Я сплю, просыпаюсь, снова засыпаю, все время настороже от волнения, в том полудремотном состоянии, когда сознание борется со сном.
Ну и ветер! Чуть подальше он истязает ясени и красные дубы, вздыбливает шерсть бродящих в темноте собак… Меня там нет, и вас там нет, и никого там нет, кроме тьмы и того, что живет во тьме. Но мы все узнаем, мы все знаем, совсем как Лука и Марк, которые там тоже не были, но все увидели потом, не открывая глаз, по наитию свыше – а значит, вернее, чем если бы сами были там. «В те дни», – говорят они… И этот рефрен сродни тому, что и по сей день звучит у меня в ушах: «Послушай, Селина…»
Ну и ветер! Там, далеко в лесу, он гонит сов, подхватывая их в широком бесшумном полете. Плотный, как густо связанный шарф, он обволакивает и душит большеголовые деревья, которые похожи, – а может быть, это и в самом деле они, – вон то на браконьера, ждущего своего часа; вот это – на человека в засаде. Ну и ветер! Ну и ветер! Он несется от самого побережья, растекается, приминая траву, от забора к забору, налетает на крепостные стены в виде зарослей терновника и утесника, раскачивает кусты дрока, опустошает сливы, просвистывает дыру в гнезде синицы на стволе яблони. Затихает было и снова летит, что-то приносит, что-то уносит, хрустя, точно смятыми купюрами, последними лепестками, первыми опавшими листьями. А какие запахи! Неисчислимые осенние запахи – они куда насыщенней едва уловимых ароматов апреля, месяца еще не оперившегося, не оформившегося.
Ах, какие запахи! Бродячие собаки – в наших краях собак не держат на цепи и почти все они бегают где хотят, – бродячие собаки прямо-таки пьянеют от них. Посмотрите на того, а вернее, на ту, посмотрите, как она бежит, вглядываясь и вслушиваясь во все кругом, то и дело приостанавливается, унюхав что-то там, учуяв что-то здесь, застыв, пофыркивая, над чем-то невидимым. Она будто идет по следу. Но на самом деле Ксантиппа не охотится, она просто играет, забавляется. Достаточно ласково ее окликнуть, и она тут как тут, стрелой примчится из темноты, уткнув все же нос в землю и визгливо потявкивая. Вот кролик кинулся в кустарник, но собака, тотчас его учуяв, не хочет продираться сквозь сухостой. Лучше обогнуть его. А там – снова блужданья по лесу. Эта кучка прутьев так вкусно пахнет – наверняка тут кто-то живет. А чуть подальше, у корней рябины, возник аромат, который ползет вверх по коре, – это, должно быть, молоденькая белочка прилепилась к основанию ветки и дразнит из безопасного места собак, а вот сову дразнить не стоит. Собака заливисто тявкает и трусит дальше, вдоль дороги на Нуазьер, обсаженной утесником, который глубоко прочесывает ей шерсть. Обычный путь. В конце темнеет ельник, испещренный отверстиями нор, расширенных лихорадочными скребками. Вот и он! Несмотря на частые дожди, ветер все высушил. Иголки, сучья, низкий приземистый кустарник стоят сухие, точно в разгар лета. Все трещит, все обламывается. Будь то человек или зверь – малейшее движение тотчас выдает его присутствие… Стой! Там кто-то шевелится.
Шевелится. Все ближе. Уж не егерь ли это треклятый, который так ненавидит собак и так ловко умеет подсекать все живое, шаря длинной палкой по орешнику? Нет. Застыв с поднятой лапой, Ксантиппа пытается определить поточнее. На запах Бессона это не похоже – от того всегда несет затхлым запахом одежды из грубого сукна, сырой кожей, порохом и красным вином, не говоря уже об его отвратительном свистке. А этот – совсем другое. От этого веет дружелюбием! Встреча, которая повторяется по меньшей мере раз в неделю, совершенно безобидна, а с некоторых пор даже и выгодна. Можно, радостно перебирая всеми четырьмя лапами, заскулить, завилять хвостом. Запах усиливается, слышится легкое посвистывание – добрый знак: ведь обычно свистят просто так, по привычке, а сегодня ее как будто зовут. Истово виляя хвостом, собака наступает в темноте на трюфель, таращит глаза и тихонько тявкает. Появляется круглая шляпа, накидка, сапоги. Свист умолкает, протягивается рука… Ксантиппа наугад, клацнув челюстями, хватает кусочек сахару.
За ним другой, третий. Если этот лунатик не болтун, сегодняшняя ночь – просто чудо. Собака трепещет от ласковых прикосновений, льнет головой к рукам, безошибочно отыскивающим самые чувствительные места, гладящим ее большие уши, к краям которых прилепились, точно жемчужины, клещи.
Но что это? Что за предательство? Намертво зажатая между коленями собака тщетно пытается освободиться. Нет, защищаться невозможно. Нечем – она не в силах даже, извернувшись, укусить своего благодетеля. Ведь для начала он набросил ей на морду нечто вроде намордника. А теперь тащит. Хоть поступь у него и тяжелая, он точно выбирает мягкие кочки, скопления иголок и углубляется все дальше в лес, но звук шагов мгновенно замирает, угасает, сменяясь – на две минуты опоздал, не везет тебе, Ксантиппа! – легким, спокойным, уверенным шагом, кто-то идет по Нуазьерской дороге, сопутствуемый песенкой чуть в нос: «Эгей, солеварница, ля-ля, ля-ля, ля-ля…»
* * *
Впрочем, чистая случайность: Бессон ведь никогда не выходит по ночам. Он принадлежит к тем сторожам, которые считают, что браконьеры любят поспать не меньше, чем они сами, и что их медные бляхи и инициалы владельцев, проставленные белой краской на каждой ограде, служат достаточной гарантией неприкосновенности. Родившись в этой деревне, Бессон ничего не боится так, как протоколов: у его жены всегда потом случаются ссоры с женами преступников, которые состоят с нею в том или ином родстве. Совершая дневные обходы, он всегда старается произвести побольше шума, и, если кто-то из самых бедовых осмелится застрелить кролика совсем уж у него под носом, он кричит во все горло: «Стой, погоди, вот ужо я тебя!» – и бежит вдогонку лишь после того, как браконьер успел перемахнуть через три изгороди. Однажды, оправдывая свое звание, он арестовал все же одного браконьера, которого застал за расстановкой силков, да и то потому, что за неимением ружья парень был не опасен и вообще был чужак – рабочий из Сегре. Но мосье Ом не дал делу хода: мосье Ом сам избегал громких историй – ведь он мэр Сен-Ле и кандидат в Генеральный совет. К тому же мадам Ом – член ОЗЖ,[5]5
ОЗЖ – Общество защиты животных.
[Закрыть] она запрещает ему охотиться, с чем он легко соглашается, ибо страсть к охоте – наследственная страсть дворянства – отнюдь не кипит в его крови. Так что мосье Ом держит егеря, как держит лишние комнаты или ненужное серебро. Шик так шик! К тому же у Бессона есть свои достоинства: он служит за шофера, может подремонтировать то тут, то там и умеет проигрывать в шары, любимую игру мосье Ома. Наконец он превосходно знает эти края, он – ходячий кадастр и незаменимый агент во время предвыборной кампании.
* * *
Случайность!.. Чистая случайность, что к вечеру у сторожа разболелись зубы и ему пришлось отправиться в аптеку за двумя таблетками обезболивающего, а получасом позже пойти еще за двумя! Случайность, что он схватил не тот тюбик и вместо аспирина проглотил четыре таблетки коридрана! Зубная боль прошла, и Бессон почувствовал такую бодрость и такой прилив жизненных сил, что о сне и речи не могло быть, тогда, потеряв терпение, он после полуночи решил воспользоваться тем, что не спится, и совершить обход. По субботам и воскресеньям многие берутся за медную проволоку, так что ночь с воскресенья на понедельник для кроликов часто становится роковой. А у Бессона глаз безошибочный, и он не гнушается – снимает силки. Такая у него метода охраны лесов, и в известной мере она мешает их опустошению, отбивая желание у браконьеров, которые говорят: «К чему ставить силки у мосье де ля Эй – все равно Бессон нас опередит».
Пройдя, как обычно, через парк, сторож направляется прямиком к ельнику; ружье – старый «дамаск» – перекинуто через правое плечо на ремешке, сплетенном из соломы. Ветер, забравшись к нему под куртку с карманами, надувает ее на спине, словно шар. Башмаки его подбиты полусотней добротных гвоздей, которые глубоко вонзаются в землю, и, чтобы уж наверняка привлечь внимание возможных клиентов, прочные непромокаемые штаны его из грубой ткани, спускающиеся на штиблеты, шуршат, точно кто-то трет брюкву. Ну и что? Бессон ведь никого не ищет. Дойдя до Женестьеры, он сворачивает с дороги, делает крюк, трижды наклоняется над тремя проволочными сооружениями, видимыми в темноте только ему. А когда возвращается на дорогу, куртка его выглядит совсем иначе, вздувшись на пояснице, как бывает спереди под корсажем у матрон. Он прибавляет шаг и за каких-нибудь десять минут доходит до леса. Он уже прошел метров триста в глубь ельника по одной из просек, что кое-где прорезают его, и вдруг замирает как вкопанный – совсем рядом раздается пронзительный вой и огненная полоса прорезает ночь.
* * *
Бессон с минуту недоумевает. Собака на охоте, даже в наморднике, лает отчетливее, а не воет, как эта. Фонарь в руке браконьера медленно передвигается, характерно подрагивая, а то и вовсе исчезая. Но вот что непонятно – как связана собака с фонарем. Внезапно в голове сторожа мелькает подозрение, и он бросается вперед. Вой не стихает, то удаляясь, то приближаясь, и за ним (или впереди него – этот странный свет, необъяснимое огненное пятно, которое появляется, исчезает, вдруг кидается в сторону или описывает дикие круги… Бессон отстегивает ружье и вскидывает его к плечу. Как раз вовремя: животное выскакивает, мчась со всех ног, волоча за собой какой-то зажженный предмет, и пробегает мимо Бессона на расстоянии двадцати пяти метров. Бессон нажимает на курок, потом на второй – от левого ствола, заряженного доброй четверкой, годной для зайцев, – и раздается выстрел, который днем остался бы незамеченным, но ночью подобно молнии прорезает темноту и будит такое оглушительное эхо, что оно, удаляясь, звучит еще по меньшей мере полдюжину раз. Затем тьма и тишина смыкаются снова. Животное больше не воет и даже не скулит. Оно рухнуло под молодым саженцем, потянув за собой пламенеющий предмет, который успевает описать три круга, словно бенгальский огонь, и продолжает гореть подле трупа, достаточно освещая его, так что можно различить – это и в самом деле собака. Бессон, дрожа всем телом, перебегая от дерева к дереву, подбирается ближе. Эта штука-то вот-вот взорвется – ведь по мере его приближения шипение и яркость огня усиливаются. Преступник застигнут с поличным и сейчас, наверное, выслеживает Бессона, притаившись за кустом, без сомнения, вооруженный, выжидая возможность уготовить ему ту же участь, что постигла пса; Бессон кидается на землю, ползет на животе к своей жертве… и вдруг вскакивает. Под треск веток там, справа, пробегает тень, прячась, как и он, за стволами. Бессон, кажется, различает шляпу, накидку. Не в силах шевельнуться, он стреляет наугад, всадив в кучу опавших листьев заряд свинцовых градин. Его обычную медлительность как рукой сняло. И он уже не напевает. А лихорадочно перезаряжает ружье, выхватывая из патронташа первое, что попадает под руку, и тут же палит не целясь – только чтобы побольше шуму, только чтобы показать, что он, Бессон, сторожит, что он сильный, пусть всем будет страшно оттого, что он, Бессон, сторожит и что он сильный, пусть всем будет страшно оттого, что страшно ему. Тень давно уже исчезла, а он все палит и палит по молодняку, выпуская то четверку, то восьмерку, то картечь… Остановится он, только когда расстреляет все патроны. И только тогда, успокоившись, он подходит к собаке и понимает: к хвосту ее привязана паяльная лампа, которая все еще выплевывает сухое, ровное, почти синее пламя. К счастью, обезумевшая собака петляла только по этой опушке ельника, хорошо знакомой местным мальчишкам и сплошь поросшей черникой. Она еще не достигла, не успела достичь той части леса, где почва целиком покрыта иголками, шишками, пересохшим кустарником, который тотчас загорелся бы, словно пакля. Не вышло! Но идея жива, а вместе с ней и опасность. Ужас снова захлестнул Бессона, подбородок у него затрясся, он погасил лампу, повернув рычажок, взвалил затем собаку на плечо и понесся со всех ног по направлению к замку.
X
Я протянула руки: ничего, ни справа, ни слева: она еще не вернулась! Не вернулась! В семь часов! В той комнате прозвонил будильник и тотчас смолк – кто-то нажал на кнопку. Значит, он был дома и заботливо оберегал мой сон. Но я не воспользовалась этой милостью, которая часто позволяла мне подремать до восьми, и, быстро поднявшись, пошла прямо в ночной рубашке отворять ставни. Одновременно хлопнули ставни в кабинете. «Ты ничего не знаешь, Селина, ты ничего не видела, ничего не слышала; будь приветливой, беззаботной и веселой», – стал внушать мне мой добрый ангел, крылья которого были обрублены, зато венец упорно держался. Следуя его совету, я и запела: «Привет, мосье!» – «Привет, мадемуазель!» – ответил мне голос, ставший к концу фразы совсем серьезным. Я заметила кусочек головы, которая тут же исчезла: папа не успел еще надеть свой войлочный шлем.
Но она-то! Она! Сморщив нос, горя, как в лихорадке, я поспешно оделась перед открытым окном, откуда меня обдавало резкой утренней прохладой. Ветер чуть поутих. Капустные грядки, листья салата припорошило белой изморозью, а ульи в корочке инея походили на игуменские клобуки. Широкий треугольник перелетных птиц прорезал небо в том направлении, куда показывали флюгеры, – с севера на юг. На яблонях листья еще держались, но с груш уже опали, почернев и съежившись. Я машинально потянула молнию на вечной моей куртке и поняла, что готова, – осталось только умыться. Тем хуже! В большой комнате – никого. Я прошла в переднюю. Вот так сюрприз! Над парой покрытых грязью туфель висело пальто. Обмотав бедра полотенцем, с торчащими колючими волосами на ляжках, но в черном войлочном шлеме, действительно смешной в таком виде, папа устало глядел на него.
– Мама спит? – поцеловав меня, спросил он.
– Я ее не видела.
Но все же пальто было перед нами, повешенное за плечо, как делают женщины, стараясь не испортить воротника. По туфлям тоже ничего нельзя было понять. Два или три репейных шарика, кругленьких, ощетиненных колючками, которые встарь лекари употребляли от кожных болезней, – мальчишки зовут их пуговицами пожарника, – прилепились к войлоку. Но репейник ведь растет где угодно, – на обочинах переулков и по краям дорог. Папа, не сказав больше ни слова, пошел одеваться, бриться и вскоре был готов. Пять минут спустя он был уже на кухне, где я потихоньку осматривала уцелевшую после погрома утварь. В пятницу приезжают за мусором – обязанность выносить его всегда лежала на папе. Он схватился за ручку старого бака для стирки, который служил для этой цели, и прошептал:
– Не стоит, пожалуй, нести мусорщику, как ты думаешь?
Верно. Не стоит выставлять бак на улицу, давая мусорщику повод судачить потом по всей деревне: «A у Колю-то, видно, жарко. В баке у них полным-полно битой посуды». Я схватилась за другую ручку, и мы отнесли бак в глубь сада. Получаса хватило, чтобы, вырыв яму на участке, отведенном пчелам, сбросить туда черепки и закидать их землей. Работали мы молча.
– Эта посуда куплена в кооперативе, такую, наверно, и сейчас выпускают, – только и сказал папа.
Как же хорошо мы понимали друг друга.
– Я посмотрела, чего не хватает, – дополнила я его мысль. – Мигом сбегаю и куплю все такое же.
Из-за горизонта появилось солнце. Первая пчела рискнула вылететь навстречу его лучу и стремительно понеслась, будто подгоняемая холодом.
– Странно, – заметил папа. – Они все еще летают!
Он тронул меня за руку, и я обернулась: кто-то затворял в моей комнате окно. И задергивал занавеску. «Она только что вернулась. А теперь укладывается спать», – мелькнуло у меня в голове, и папа, утрамбовывая землю яростными ударами каблука, подумал, верно, то же самое. Но приглушенный стук кастрюль и привинченной к стене кофемолки тотчас вывели нас из заблуждения.
– Иди завтракать, Селина, – как и каждое утро, раздался из коридора матушкин голос.
* * *
На столе стояло три чужих чистых фаянсовых чашки. Три чашки Трошей – зеленая, белая и желтая. Белую я придвинула папе и покраснела от какого-то дурацкого стыда. Я совсем уже ничего не понимала и вконец запуталась. Она, что же, ночевала у Трошей? Или пришла к ним позже? Да в конце-то концов, может, она просто была у бабушки в Луру. Надо будет взглянуть на велосипед… Во всяком случае, она спала – это уж точно. Притом лучше, чем мы, – достаточно взглянуть на ее отдохнувшее лицо.
Прибранная, аккуратно причесанная, спокойная, в свежей блузке мама не обращает на нас ни малейшего внимания. Как и каждое утро, она поздоровалась со мной. Потом, повернувшись спиной, стала спокойно присматривать за молоком, набухавшим на газовой конфорке, и прорвала пенку черенком ложки. Затем, перевернув свое орудие, она зачерпнула в кастрюле, поющей на другой конфорке, немного кипятку и обдала им кофейник. Однако спокойствие ее было лишь маской, которая в одно мгновение и слетела.
– Бертран! – окликнула она его, будто не знала, что муж сидит у нее за спиной.
– Ева! – тем же безразличным тоном отозвался он.
– Слушай, пора с этим кончать, так больше продолжаться не может. Я сейчас же вместе с Селиной переезжаю к маме. Дочка наверняка согласится.
– А я не уверен, – заметил папа.
Он поднялся с чашкой, где уже лежало два куска сахару, в руке, налил молока и налил кофе, не дожидаясь, пока молоко закипит, а кофе весь пройдет через фильтр. Мама топнула ногой.
– Не валяй дурака, – сказала она.
Дурак отошел к окну и там, стоя, принялся пить свой кофе с молоком. Я подошла и стала об него тереться, точно кошка.
– Ты уходишь от меня, Селина? – решился он спросить между двумя глотками.
– Не валяй дурака! – дерзко повторила дочь, не отрывая губ от его щеки у самого края войлочного шлема, там, где начиналась красная полоса.
Глаза его на мгновение стали голубые – как язычок газового пламени. Затем он стремительно вышел: звонил телефон.
* * *
Не обращая внимания на комки, я рассеянно помешивала кашу из растворимой смеси. Мама, которая всегда пила черный кофе, села напротив меня.
– Неприятно мне говорить с тобой об этом, – начала она, не глядя на меня, – но так дольше терпеть нельзя. Мы с тобой сегодня же переедем в Луру. И ты возьмешь с собой свои вещи.
Я смотрела прямо перед собой. И безостановочно скребла ложкой по дну фаянсовой чашки. Кот мяукнул. Защебетал чиж.
– Ну, так что? Ответь же мне! – настаивала матушка.
Я опустила голову. Чувствовала я себя, как на дыбе, и судорожно глотала слюну.
– Мне тоже жаль, мама, – с большим трудом выдавила я из себя, – но между вами я выбирать не стану.
Рука мадам Колю шевельнулась, и я инстинктивно прикрылась локтем.
Но пощечины не последовало – мама устало ссутулилась.
– Несправедливо это, – прошептала она, глядя на меня со смесью нежности и злости.
Она не закончила своей мысли, но догадаться о том, что она хотела сказать, было нетрудно. Разве справедливо, чтобы дети принадлежали мужчинам, да еще какому-то Колю, – в такой же мере, как матерям (и даже в большей, потому что носят их фамилию)? Но все равно ни один ребенок, в том числе и Селина, никогда не станет для своего отца тем, чем является для матери, – ведь ребенок – это часть ее чрева, член, от нее оторванный!
– Ты, значит, не видишь, что я так больше не могу, – подавленно прошептала мама.
– Вижу!
Моя рука протянулась к ее руке, пальцы сплелись с пальцами, как соединяются зубчатые колеса. И, убедившись в моем сочувствии, она призналась в том, в чем никогда не должна была признаваться.
– Ох уж это его лицо! Оно у меня все время перед глазами!
– А я так его просто не вижу, – едва слышно произнесла я.
– Но зато я, я вижу. Все время вижу. И не могу ничего с собой поделать…
– Как же это так, интересно?!
Выдернув из ее пальцев руку, я отодвинула дымящуюся чашку.
– Как же это, мама? Как же ты его видишь? Ты ведь никогда даже и не смотришь на него!
* * *
Когда папа, прямой и сосредоточенный, вернулся на кухню, каша и кофе стыли, нетронутые, как и хлеб, нарезанный, но не намазанный маслом. Папа несколько раз медленно провел рукой по моим волосам от лба до затылка, где они разваливались пополам – там на худенькой шее сидела родинка – такая же и в том же месте, что и у мамы, под волосами. Это обстоятельство, видимо, растрогало его, и он протянул было руку к голове жены, которая тотчас вскинулась и бросила на него взгляд хуже любого оскорбления. Он затряс пальцами, точно обжегся, и быстро сунул руку в карман. Лицо его снова затвердело и стало таким же строгим, как черный войлочный шлем.
– Мне звонил сейчас мосье Ом, – сказал он. – Ночью кто-то пытался поджечь его ельник. Бригадир Ламорн и доктор Клоб уже там. Я тоже пойду.
– И я с тобой!
Разволновавшись не столько от услышанной новости, сколько от возможности остаться наедине с матушкой, когда придется либо фальшивить в ответ на ее объяснения, либо – что еще хуже – молча их сносить, я уцепилась за представившуюся возможность.
– Но речь там пойдет о делах серьезных, – нерешительно возразил отец.
– Иди, иди, мосье Ом будет рад тебя видеть, – тотчас заявила мама.