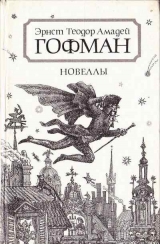
Текст книги "Дож и догаресса"
Автор книги: Эрнст Теодор Амадей Гофман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Дож и догаресса
Под этим названием значилась в каталоге выставки, устроенной в сентябре 1816 года Берлинской Академией изящных искусств, картина кисти достопочтенного мастера К. Кольбе[1]1
Кольбе, Карл Вильгельм (1757–1837) – немецкий художник, ученик Даниеля Ходовецкого (1726–1801), с 1795 г. член Академии изящных искусств в Берлине.
[Закрыть], действительного члена Академии. Картина выделялась особым очарованием, завораживая всех, кто подходил к ней, вот почему перед нею всегда толпились зрители. На полотне изображен был дож в богатых пышных одеждах, ведущий под руку супругу, одетую под стать ему. Он – седобородый старец, в чертах его лица, которому художник придал какой-то красновато-смуглый оттенок, удивительным образом смешались сила и бессилие, гордое высокомерие и добродушие; она – юное создание, во взгляде, во всем ее облике – задумчивая печаль, мечтательное томление. Позади них у балюстрады пожилая женщина, рядом с ней мужчина с раскрытым зонтиком в руках. Сбоку у перил юноша трубит в изогнутый наподобие раковины рог, а за балюстрадой покачивается на волнах богато убранная гондола, украшенная венецианским флагом, и в ней два гребца. На заднем плане раскинулось море, усеянное сотнями парусников, а вдалеке виднеются башни и дворцы прекрасной Венеции, как будто вырастающие из вод морских. Слева угадываются очертания собора Святого Марка, справа и ближе к нам – Сан-Джорджо Маджоре[2]2
Сан-Джорджо Маджоре – монастырь на другом берегу Венецианской лагуны.
[Закрыть]. Картина помещена в золотую раму, по которой вьется резная надпись:
Перед картиной этой разгорелся однажды праздный спор, хотел ли живописец создать только картину в прямом смысле этого слова, то есть иллюстрацию к стишку, довольно ясно обозначившему ситуацию – человек преклонных лет, который, несмотря на все свое богатство и могущество, не может утолить мечтания другого мятущегося сердца, – или же художник запечатлел действительный случай, подтвержденный историей. Наскучив болтовней, спорщики один за другим отходили от картины, покуда не остались лишь два воистину пылких приверженца благородного искусства.
– Не понимаю, – начал один из них, – как можно портить себе наслаждение вечными толкованиями и разъяснениями. Ведь помимо того, что мне вполне понятно все, что связано с этим дожем и его супругой, я сам непостижимым образом как бы оказываюсь во власти того богатства и величия, которым пронизано все на этом полотне. Взгляни на этот флаг с крылатым львом, взгляни, как он, повелевая миром, трепещет на ветру. Венеция, как ты прекрасна! – И он начал декламировать известную загадку Турандот[4]4
…загадку Турандот… – В комедии Карло Гоцци (1720–1806), венецианца по происхождению, «Принцесса Турандот» героиня предлагает сватающимся к ней женихам три загадки; разгадавший их получит ее руку, неудачника ждет смерть. Упоминаемая здесь загадка описывает крылатого льва, изображенного на гербе Венеции. Принц Калаф дает на нее правильный ответ.
[Закрыть] о Льве Адрии: – «Dimmi qual sia quella terribil fera»[5]5
«Скажи мне, что это за страшный зверь» (итал.).
[Закрыть] и т. д.
He успел он договорить, как благозвучный мужской голос произнес ответ Калафа: «Tu quadrupede fera»[6]6
«Ты, четвероногий зверь» (итал.).
[Закрыть] и т. д. Не замеченный друзьями, позади них стоял высокий господин благородного облика, его серый плащ был живописно перекинут через плечо, горящие глаза устремлены на картину. Завязался разговор, и незнакомец произнес почти торжественным тоном:
– Поистине, какая удивительная тайна сокрыта в том, что именно в душе художника рождается подчас картина, образы которой поначалу смутны и бесплотны, подобно туману, струящемуся в пустоте, а затем в глубинах его души они обретают твердые очертания. И неожиданно от этой картины протягивается невидимая нить к прошлому, а может быть, и к будущему, и тогда, оказывается, она изображает лишь то, что произошло или еще произойдет в действительности. Ведь, между прочим, Кольбе и сам мог не знать, что на полотне его изображен не кто иной, как дож Марино Фальери и его супруга Аннунциата.
Незнакомец умолк, но оба друга принялись умолять его, чтобы он раскрыл и эту загадку так же, как загадку о Льве Адрии. Незнакомец молвил на это:
– Умерьте ваше любопытство, господа, запаситесь терпением, и я готов немедля поведать вам историю Фальери, которая и есть ключ к разгадке этого полотна. Но скажите сразу, достанет ли у вас терпения? Рассказ мой будет очень обстоятельным, ибо я не в силах иначе говорить о событиях, столь живо встающих перед моим внутренним взором, словно я видел все это собственными глазами. Впрочем, так оно и есть, ведь всякий историк – а ваш покорный слуга, господа, таковым и является, – итак, всякий историк – что-то вроде призрака, устами которого вещает прошлое.
Друзья расположились вместе с незнакомцем в одной из уединенных комнат, где он без дальнейших предисловий повел свой рассказ:
История эта случилась давно, если память мне не изменяет – в одна тысяча триста пятьдесят четвертом году, в месяце августе, именно тогда храбрый генуэзский полководец по имени Паганино Дориа наголову разбил венецианцев и штурмом взял их город Паренцо[7]7
Паренцо – порт в Истрии на Адриатическом море.
[Закрыть]. По заливу, совсем близко от Венеции, шныряли теперь галеры с воинами-победителями, подобно голодным хищникам, что в неутолимой алчности своей рыщут повсюду, выискивая добычу. И народ, и синьория были объяты смертельным ужасом. И стар, и млад – все, у кого хватало сил, взялись за оружие или сели на весла. В гавани Сан-Николо собирались отряды. Топили корабли, устраивали завалы из бревен, натягивали цепи, чтобы преградить путь врагу. И пока здесь в страшной сутолоке звенели клинки, а лишний груз сбрасывался прямо в пенные морские волны, на мосту Риальто чиновники синьории, в полной растерянности, отирая со лба холодный пот, хриплыми голосами предлагали всем баснословные проценты под наличные деньги, ибо и в них оказавшаяся под угрозой республика испытывала нужду. Но по воле неумолимого провидения случилось так, что как раз в пору невзгод и потрясений растерянное стадо лишилось верного своего пастыря. Не выдержав бремени испытаний, скончался дож Андреа Дандуло[8]8
Андреа Дандуло (правильно: Дандоло) – в 1342–1352 гг. дож Венеции.
[Закрыть], которого в народе называли «душечка граф» (il саго contino), ибо всегда был он кроток и приветлив, и не было случая, чтобы, проходя через площадь Сан-Марко, не оделил бы каждого, кто нуждался в добром совете или в деньгах, – для одного припасены у него были слова утешения, для другого – цехины. И вот, как обессиленный несчастьем человек, которого любой удар, какого он прежде и не заметил бы, поражает с удвоенной силой, – так же точно и народ, едва колокола на соборе Святого Марка глухими протяжными звуками оповестили о смерти дожа, погрузился в неописуемое горе и отчаяние. Нет теперь у них опоры, нет надежды, отныне придется склонить головы перед генуэзцами, – громко вопили они, хотя, если говорить о необходимых военных действиях, то отсутствие Дандуло вовсе не было таким уж гибельным. Добрый граф предпочитал жить в мире и спокойствии и куда больше любил следить ход светил небесных, нежели распутывать загадочную вязь государственной мудрости, и много увереннее чувствовал себя во главе пасхальной процессии, нежели во главе войска. И вот теперь венецианцам предстояло избрать такого дожа, который, обладая в равной мере и талантом храброго полководца, и государственной мудростью, спасет пошатнувшуюся твердыню Венеции от угрозы насилия дерзновенного врага.
Собрались сенаторы, но в собрании этом можно было видеть лишь удрученные лица, застывшие взгляды, понурые головы. Где сыскать мужа, которому по плечу будет встать у покинутого руля и могучей рукою направить корабль по верному пути? Старший советник, по имени Марино Бодоери, возвысил наконец свой голос:
– Среди нас, в нашем кругу, – молвил он, – вы не найдете достойного мужа, но обратите свои взоры к Авиньону, на Марино Фальери, которого послали мы поздравить папу Иннокентия[9]9
Папа Иннокентий. – Имеется в виду Иннокентий VI (1352–1365). В 1309–1377 гг. папский престол находился в южнофранцузском городе Авиньоне.
[Закрыть] со вступлением на престол; пусть он-то и будет дожем и избавит нас ото всех невзгод. Вы возразите мне, что упомянутому Марино Фальери уже под восемьдесят, что голова и борода его давно уж покрылись серебром, что бодрый вид его, блеск глаз, неизменный румянец и подозрительно красный нос, как утверждают досужие языки, есть действие доброго кипрского вина, а не жизненной силы, – но не верьте этому, пустое! Вспомните, какую блистательную храбрость проявил наш Марино Фальери, когда стоял во главе флота на Черном море, призадумайтесь над тем, какими достоинствами он должен был обладать, чтобы прокураторы Сан-Марко[10]10
Прокураторы Сан-Марко – девять высших государственных сановников Венеции.
[Закрыть] одарили его богатейшим графством Вальдемарино!
Вот так ловко расхваливал Бодоери достоинства своего кандидата; он до того искусно опровергал любые возражения, что в конце концов все голоса склонились в пользу Фальери. Кое-кто еще пытался, правда, говорить о неукротимом гневе Фальери, о его властолюбии и своенравии, но услышал в ответ: «Именно потому, что старости все это уже не свойственно, мы и выбираем старца, а не юнца Фальери». Но всякие осуждающие голоса умолкли окончательно, когда народу возвестили имя нового дожа, и началось неистовое, буйное ликование. Да разве мы не знаем, что перед лицом грозной опасности, во дни волнения и тревоги, любое решение, каким бы оно ни было, принимается как перст божий? – Вот и вышло, что душечка граф при всей своей доброте и кротости был мгновенно забыт, и повсюду слышалось: «Клянусь святым Марком, этому Фальери давно пора было сделаться нашим дожем – и тогда высокомерный Дориа не посмел бы сесть нам на голову!» И увечные солдаты с трудом простирали вверх искалеченные свои руки и кричали: «Это ведь тот самый Фальери, который победил Морбассана[11]11
Морбассан – военачальник Ионийского эмира.
[Закрыть],– храбрый полководец, чьи победные флаги реяли над Черным морем!» И посреди толпы кто-то уже повел рассказ о героических деяниях славного Фальери, и зазвучали окрест возгласы бурного ликования, как будто Дориа был уже побежден.
Как раз в это время Николо Пизани, который бог весть зачем, вместо того чтобы сразиться с Дориа, преспокойно проплыл со всем своим флотом до Сардинии, наконец-то воротился назад. Дориа покинул залив, и хотя причиной тому послужило приближение флота Пизани, успех приписывали устрашающему имени Марино Фальери. Столь удачный выбор привел в неописуемый восторг и народ, и синьорию; решено было, в ознаменование небывалого случая, встретить новоизбранного дожа как посланца неба, приносящего победы, почести и благоденствие. Синьория выслала прямо в Верону двенадцать представителей аристократических семейств в сопровождении многочисленной блестящей свиты, – и не успел Фальери добраться до города, как посланцы республики еще раз торжественно возвестили ему о вступлении в должность главы государства.
Пятнадцать роскошно убранных барков, которые снарядил и отправил подеста города Кьоджи под командованием своего сына Тадео Джустиниани, в Кьоцце приняли на борт дожа со всей его свитой, и тот, подобно могущественному непобедимому монарху, с триумфом добрался до Сан-Клеменса[12]12
Сан-Клеменс – остров в южной части Венеции.
[Закрыть], где уже ожидал его бученторо[13]13
Бученторо (по-итальянски – «кентавр») – роскошно убранный корабль, на котором в праздник Вознесения дож совершал символическое обручение с морем.
[Закрыть].
Именно в тот момент, когда упомянутый Марино Фальери собирался ступить на борт бученторо, – а было это третьего октября, вечером, когда солнце уже клонилось к закату, – на ступенях у колоннады Доганы[14]14
Догана – морская таможня в Венеции.
[Закрыть] лежал, распластавшись на холодных мраморных плитах, один бедный, несчастный юноша. Грязные отрепья из полосатой холстины, неопределенного цвета, – остатки того наряда, какой носят обыкновенно беднейшие грузчики да гребцы, – свисали жалкими лохмотьями. И поскольку на несчастном не было даже рубахи, то сквозь прорехи виднелось исхудавшее тело, но кожа была так бела и нежна, какой бывает она лишь у людей высокородных. Да и по всему было видно, что он не простого звания, ибо даже необычайная худоба не могла скрыть врожденного изящества и благородной стройности; и наконец, стоило лишь взглянуть на светло-каштановые локоны, спутанные и растрепанные, что обрамляли прекрасный лоб, на голубые глаза, потемневшие от безутешной скорби, орлиный нос и тонко очерченный рот несчастного, которому было на вид не более двадцати лет, – как становилось ясно, что некий злой рок столкнул этого человека, высокого по рождению, в самые низшие слои общества.
Как уже было сказано, юноша лежал у колоннады Доганы, не шевелясь, подложив правую руку под голову, и остановившимся, безучастным взглядом смотрел в морскую даль. Можно было подумать, что жизнь покинула его, что сама смерть обратила его в камень, если бы время от времени не раздавался глубокий вздох, исполненный невыразимой муки. Страдания ему причиняла, вероятно, боль в левой руке, которую он откинул в сторону; обернутая окровавленными тряпицами, она, по-видимому, была сильно поранена.
Ежедневные труды были заброшены, молчали молотки ремесленников, вся Венеция – тысячи барков и гондол – плыла навстречу высокочтимому Фальери. Вот почему неоткуда было ждать помощи несчастному, заброшенному страдальцу, вот почему лишь молчаливыми вздохами пытался он унять боль. Но едва бледное чело его поникло на каменные плиты и силы, казалось, совсем оставили юношу, как чей-то скрипучий голос жалобно-жалобно стал звать его: «Антонио, милый мой Антонио!» Наконец Антонио, превозмогая боль, с трудом приподнялся и, повернув голову к колоннаде Доганы, из-за которой доносился голос, проговорил слабо, едва слышно:
– Кто там зовет меня? Кто придет, чтобы сбросить в море мое тело, ведь мне уж скоро конец!
И тут показалась маленькая древняя старушонка с клюкой в руках; пыхтя и откашливаясь, она подобралась к раненому юноше, странно хихикая, склонилась над ним, – и вдруг разразилась отвратительным лающим смехом.
– Дурачок, – забормотала старуха, – ну и дурачок ты, надо же что задумал, умереть он здесь собирается – когда золотая звезда удачи восходит над ним! Ты только взгляни, взгляни туда – на это мерцающее в закатном мраке пламя, это все цехины для тебя. Но тебе нужны еда и питье; знай, что голод, только голод бросил тебя сюда, на каменные плиты. А рука твоя уж не болит, не болит!
Антонио узнал в дряхлой старушонке ту странную нищенку, что выпрашивала обычно милостыню у прихожан на ступенях францисканской церкви, вечно хихикая и хохоча, и которой он, подчиняясь необъяснимому внутреннему порыву, иногда бросал добытый тяжким трудом кватрино, хотя и сам очень нуждался.
– Оставь меня, – молвил он, – оставь в покое, сумасшедшая старуха. Твоя правда – не рана, а голод подточил мои силы и довел до такого плачевного состояния; уже три дня, как я не заработал ни одного кватрино. Я думал добраться до монастыря, чтобы хоть там раздобыть ложку-другую похлебки, но все товарищи покинули меня – не нашлось никого, кто взял бы меня из сострадания к себе в лодку, и вот я упал обессиленный здесь, и видно никогда не суждено уже мне встать на ноги.
– Хи-хи-хи, – засмеялась старуха, – ну зачем же так сразу отчаиваться, к чему впадать в уныние? Тебя замучили жажда и голод, но я сумею помочь тебе. Гляди, вот пять отличных вяленых рыбешек, только сегодня куплены на пристани, вот лимонный сок, а в придачу ломоть доброго белого хлеба; поешь, сынок, сперва ешь и пей, а потом посмотрим, что там у тебя с рукой.
Старуха сняла заплечный мешок, который горбом торчал у нее за спиной. Из этого-то мешка она и вынула обещанную рыбу, хлеб и сок. Едва только Антонио почувствовал на своих горящих пересохших губах первые капли прохладного напитка, голод подступил к нему с новой силой, и он с жадностью проглотил рыбу и хлеб. Старуха тем временем занялась его рукой – когда она размотала тряпицы, то обнаружилось, что рана уже затянулась, хотя сама рука оставляла желать лучшего. Старуха достала маленькую баночку с мазью, поднесла ко рту, чтобы согреть своим дыханием, а потом принялась втирать целительное снадобье в рану, приговаривая: «Кто ж тебя так отделал, сыночек?»
Антонио уже совершенно оправился, кровь быстрее побежала по жилам, и он даже смог приподняться: глаза его сверкали; грозя кулаком неведомому обидчику, он воскликнул:
– Ух, ну и мошенник этот Николо! Хотел искалечить меня, потому что завидует каждому медяку, что подает мне милосердная рука. Ты ведь знаешь, что я с трудом мог заработать себе на жизнь, перетаскивая товары в торговый немецкий дом, так называемый дом Фонтего[15]15
Фонтего – с XIII в. торговый склад немецких купцов вблизи Риальто.
[Закрыть], он тебе, верно, знаком.
Едва только юноша вымолвил слово «Фонтего», старуха разразилась омерзительным хохотом, сквозь который время от времени прорывалось «Фонтего – Фонтего – Фонтего».
– Перестань смеяться и не мешай мне рассказывать, – досадливо воскликнул Антонио; старуха тут же приутихла, и юноша продолжал:
– Как-то раз я заработал несколько кватрино, справил себе новую куртку, вид у меня был вполне пристойный, так что меня даже взяли в гондольеры. Нрава я веселого, работы не боюсь, да еще и петь могу, вот и случилось мне подзаработать на кватрино-другой больше, чем моим товарищам. Но это-то и пробудило зависть в их сердцах. Они наплели хозяину обо мне невесть чего, и тот меня прогнал; и где бы я ни появлялся, они кричали мне вслед: «Пес поганый, немчура проклятая, нехристь окаянный!» И вот три дня тому назад, когда я помогал на пристани у площади Сан-Себастьян поднимать лодку на берег, они набросились на меня, закидали камнями и жестоко избили. Я сопротивлялся отчаянно, пока подлый Николо не хватил меня веслом, так что я даже упал; удар пришелся по голове, но больше всего пострадала рука. – Ну, бабка, ты и впрямь накормила меня на славу, да и мазь твоя – чудодейственная! Гляди, как помогает – я уже свободно двигаю рукой. Теперь я могу смело садиться на весла!
Антонио поднялся с земли и принялся с силою сгибать и разгибать больную руку. Старуха же снова громко захихикала и захохотала и начала как-то нелепо пританцовывать и подпрыгивать вокруг него, приговаривая:
– Сынок, сынок, сыночек мой! Смелее за весла – вот придет он, он придет, золото сверкает да сияет, греби сильнее, греби сильнее! Но только разочек, только разочек, и больше ни-ни!
Антонио не обратил внимания на странное старухино поведение, ибо взору его открылось удивительное зрелище необычайной красоты. Со стороны Сан-Клеменса шел бученторо с реющим на ветру флагом, на котором красовался Лев Адрии, мощные удары весел по воде напоминали хлопанье крыльев могучего золотого лебедя. Тысячи гондол и барков составляли его свиту, и казалось, будто идет он, гордо подняв свою царственную голову, словно повелитель бесчисленного ликующего войска, которое вышло со дна морского, сверкая и сияя доспехами. Предзакатное солнце роняло свои последние пылающие лучи на гладкое море и на Венецию, так что все заполыхало огнем; забыв о своих горестях, Антонио в упоении любовался этим зрелищем; но вот на глазах у него в природе произошли неуловимые изменения: золотое зарево стало кровавым, в воздухе что-то глухо зашумело, засвистело, и глухим эхом отозвались воды морские. Буря налетела стремительно, будто вырвалась из черной тучи, и в мгновение ока все погрузилось в кромешную тьму, море вспенилось и забурлило, волна за волною вздымались все выше и выше, казалось, чудища с жутким шипением и свистом вылезают из глубин, разевают пасти свои, того и гляди, все проглотят. Раскидало-разметало в вихре барки и гондолы, словно легкие перышки. Плоскодонный бученторо не мог противостоять такому натиску, и его швыряло из стороны в сторону. Радостные, ликующие звуки рожков и труб сменились криками ужаса, которые были едва различимы сквозь завывание ветра.
Антонио, словно окаменев, глядел вперед; где-то поблизости почудился ему стук цепи, он посмотрел вниз: небольшая лодочка, прикрепленная цепью к стене, раскачивалась на волнах, – и в этот миг его словно молнией пронзило: он вскочил в лодку, отвязал ее от стены, схватил весла – они были как раз на месте – и храбро ринулся вперед, прямо в открытое море, навстречу бученторо. Чем ближе он подходил к кораблю, тем явственнее слышал доносившиеся оттуда крики о помощи: «Сюда! Сюда! Спасите дожа! Спасите дожа!» Надо сказать, что небольшие рыбачьи суденышки в ненастье на море гораздо более устойчивы и проворны, нежели крупные барки, и потому со всех сторон к бученторо устремились такие лодки для спасения дражайшей особы Марино Фальери. Но в жизни всегда случается так, что святое провидение выбирает для свершения подвига лишь одного-единственного, так что все остальные только понапрасну выбиваются из сил. На сей раз жребий выпал бедному Антонио, которому суждено было спасти новоизбранного дожа. Вот почему только он и сумел на своем утлом суденышке добраться до бученторо. Престарелый Марино Фальери, который и не такое видывал на своем веку, не раздумывая ни секунды, с удивительной для его возраста ловкостью спрыгнул в лодку к Антонио, оставив великолепный, но весьма ненадежный бученторо, после чего легкая лодочка понеслась по вздымающимся волнам, будто быстрый дельфин, и через несколько минут уже причаливала у площади Сан-Марко. Так и ввели этого вельможного старца в собор – в мокрых одеждах, капли воды поблескивали на седой бороде, а там его встречали благородные патриции, готовые, несмотря на смертельный испуг, который еще не сошел с их бледных лиц, завершить церемонию посвящения. Народ, равно как и члены синьории, еще не оправился от потрясения, вызванного зловещим предзнаменованием, которое сопутствовало появлению нового дожа, что вдобавок ко всему усугубилось еще одним скверным обстоятельством: в спешке и суете дожа провели между теми гранитными колоннами, где обыкновенно казнили преступников, и оттого ликующие приветственные крики сменились сумрачным молчанием. Так день, что начался столь празднично и мирно, закончился печально и уныло.
Никто, казалось, и не вспоминал о спасителе дожа, да и сам Антонио не думал об этом, ибо лежал, смертельно усталый, прямо в галерее герцогского дворца; силы покинули его из-за нестерпимой боли, которую причиняла ему вновь открывшаяся рана. Тем чудеснее было его пробуждение, когда уже на закате дня появился герцогский страж, поднял его с земли и со словами: «Пойдем, приятель, пойдем!»– препроводил прямо во дворец, в покои дожа. Тот приветливо ступил ему навстречу и молвил, указывая на мешки, что были приготовлены на столе:
– Ты держался молодцом, сын мой! Вот, возьми себе эти три тысячи цехинов, и если тебе надобно больше, я дам тебе столько денег, сколько пожелаешь, но сделай милость – никогда больше не показывайся мне на глаза.
При этих словах старец грозно сверкнул очами, и даже кончик носа у него покраснел. Антонио толком не понял, что хотел от него старик, но он не слишком уж долго и размышлял над этим; не придав значения словам старика, он с трудом взвалил на спину мешки с деньгами, справедливо полагая, что честно заслужил их.
Сияя в лучах вновь обретенного могущества, престарелый Фальери утром следующего дня смотрел из высоких сводчатых окон дворца на оживленную толпу, бурлившую внизу, на группы воинов, затевавших тут и там потешные сражения. В это время в покои вошел Бодоери, с юных лет тесно связанный с дожем узами неизменной дружбы, и поскольку дож, погруженный в себя, упивался мыслями о своей славе и, казалось, вовсе на замечал его, Бодоери всплеснул руками и с громким смехом воскликнул:
– Эй, Фальери, что за возвышенные мысли рождаются и зреют у тебя в голове, с тех пор как ее украшает островерхая шапка дожа?
Фальери, будто очнувшись от глубокого сна, пошел навстречу старому приятелю, придав своему лицу как можно более дружелюбное выражение. Он понимал, что именно Бодоери обязан он своей шапкой, и прозвучавшие слова, вероятно, напомнили ему об этом. Но поскольку любые обязательства были тяжким грузом для его гордого властного нрава, и в то же время он не мог избавиться от старшего советника и верного друга так, как избавился от бедного Антонио, – Фальери заставил себя произнести несколько слов благодарности и тут же заговорил о мерах, которыми надлежит остановить грозящего со всех сторон врага.
– Постой, – прервал его Бодоери с лукавой улыбкой, – это и все прочее – все, чего требует от тебя республика, – мы тщательно обсудим и взвесим через несколько часов, на заседании Большого Совета. Не для того явился я в столь ранний час, чтобы изыскивать с тобою средства, как одержать победу над дерзким Дориа или как заставить образумиться венгерского короля Людвига[16]16
Людвиг Первый, венгерский король (1342–1382), впоследствии вынудил венецианцев платить ему дань. Подстрекаемый генуэзцами, предъявлял притязания на Далмацию.
[Закрыть], который вновь покушается на наши порты в Далматии. Нет уж, Марино, речь идет сейчас о тебе самом, а точнее – ты только не удивляйся, – о твоей женитьбе.
– О чем ты говоришь? – отвечал дож, вставая, в сильнейшем раздражении и, повернувшись к Бодоери спиной, посмотрел в окно. – Как тебе могло прийти такое в голову? И это именно сейчас! Нет, об этом и думать нечего, во всяком случае, до праздника Вознесения. К тому времени враг, я надеюсь, будет разбит; победу, честь, богатую добычу и еще более могущественную державу положим мы к ногам пеннорожденного Льва Адрии. Настоящей целомудренной невесте пристало иметь достойного жениха!
– А-а-а, – нетерпеливо прервал его Бодоери, – вот оно что, ты толкуешь о своеобразном торжественном обряде в день Вознесения: бросив в волны золотое кольцо, ты хочешь обручиться с Адриатическим морем. Но разве ты, Марино, морю посвященный по рождению своему, не знаешь иной невесты, нежели холодная, обманчивая стихия, повелителем которой ты себя мнишь и которая не далее как вчера столь немилостиво обошлась с тобой? – О, как ты можешь мечтать об объятиях такой невесты, если она, это буйное, своенравное создание, едва ты, скользя на своем бученторо, слегка погладил ее по голубоватым холодным щекам, тут же начала браниться и бушевать! Да и самого дышащего огнем Везувия вряд ли будет довольно, чтобы согреть ледяную грудь девы, которая в вечной неверности своей все вновь и вновь совершает брачные обряды и не принимает кольца в залог верной любви, а отшвыривает прочь как презренную рабскую дань! Нет, Марино, я полагаю, что тебе нужно заключить брак с одной из прекраснейших дочерей земли, какую только можно сыскать.
– Что за вздор, – пробормотал Фальери, продолжая глядеть в окно, – вздор, я тебе говорю! Это я-то, восьмидесятилетний старец, отягощенный заботами и трудами, ни разу не вступавший в брак и уже вряд ли способный любить…
– Постой, – воскликнул Бодоери, – не возводи напраслины на самого себя! Разве зимний ветер, каким бы студеным и резким он ни был, в конце концов не простирает в томлении руки навстречу милой богине, несомой теплыми западными ветрами на смену зиме? И когда он прижмет ее к своей хладной груди и пленительный жар побежит по жилам – куда деваются тогда лед и снег! Ты говоришь, что тебе уже под восемьдесят – это верно, – но неужели старость измеряется одними только годами? Разве голова твоя поникла, разве поступь твоя не так же тверда, как сорок лет назад? Или, может быть, ты чувствуешь все же, что силы покидают тебя, что тяжел стал тебе твой меч, что ты задыхаешься при быстрой ходьбе и с трудом взбираешься по лестницам дворца?
– Да нет, боже упаси! – перебил друга Фальери и, резко обернувшись, подошел к Бодоери со словами – Нет, нет, ничего подобного я не чувствую!
– Ну, в таком случае, – продолжал Бодоери, – спеши же и в старости насладиться всеми прелестями земного счастья, которое отпущено тебе. Я выбрал тебе прекраснейшую из женщин, пусть станет она догарессой – и все женщины Венеции назовут ее первой по красоте и добродетельности, подобно тому, как мужчины видят в тебе первого среди первых по храбрости, уму и силе!
Бодоери принялся, не жалея красок, расписывать достоинства и прелести невесты и вскоре преуспел настолько, что глаза старого Фальери заблестели, кровь бросилась в лицо, щеки запылали, от удовольствия он даже причмокивал губами, как после изрядной порции сиракузского вина.
– Ну так раскрой же тайну! – сказал он, усмехаясь. – О ком ты мне толкуешь? Кто эта чаровница?
– К чему скрывать? – отвечал Бодоери. – Речь идет о моей очаровательной племяннице.
– Что?! – вскричал Фальери. – Твоя племянница? Та самая, которая была замужем за Бертуччо Неноло, когда я еще был подестой Тревизо?
– Да что ты – ты говоришь, наверное, о моей племяннице Франческе, – ответил Бодоери, – а я-то прочу тебе в жены ее дочку. Ты ведь помнишь, ее отец Неноло, известный своим неукротимым нравом, не вернулся с войны, найдя свой покой на дне морском. Франческа, вне себя от безутешной скорби и отчаяния, удалилась в монастырь, – вот почему я взял на воспитание маленькую Аннунциату, и все это время она жила в глубоком уединении в Тревизо, в моем доме.
– Что ты такое говоришь, – вновь прервал старика Фальери, исполненный нетерпения, – ты предлагаешь мне взять в супруги дочь твоей племянницы? Сколько же лет минуло со времени женитьбы Неноло? Девочке, наверное, никак не более десяти лет. Когда я был подестой Тревизо, Неноло еще и не помышлял о женитьбе, а это было…
– Двадцать пять лет назад! – со смехом подсказал Бодоери. – Да-a, неужто, дружище, время для тебя летит столь быстро, коли ты способен так ошибаться? Аннунциате сейчас девятнадцать лет; она прекрасна, как солнце, скромна и смиренна, не искушена в любви, ведь мужчин она почти не видела. Она будет предана тебе со всей силою детской любви и безоглядной доверчивостью.
– Хочу ее видеть, сейчас же и немедленно! – воскликнул дож, вновь живо вспомнив образ прекрасной Аннунциаты, описанный Бодоери.
Желание его было исполнено в тот же день, – не успел он после заседания Большого Совета возвратиться в свои покои, как хитрый Бодоери, который, казалось, преследовал особые цели, добиваясь возвышения племянницы, тайно привел к нему прелестную Аннунциату. И стоило лишь старому Фальери взглянуть на ангельское дитя, как он уже был в самое сердце поражен ее дивной красотой и тут же, путаясь в словах, срывающимся голосом предложил ей руку и сердце. Аннунциата, которой Бодоери заранее постарался внушить, как должно себя вести, вспыхнула и послушно склонилась перед царственным старцем. Она схватила его руку, прижала к губам и едва слышно пролепетала:
– О господин мой, неужели вы хотите удостоить меня великой чести взойти вместе с вами на высокий трон? Если так, то я буду почитать вас всей душой и буду служить вам верой и правдой до самого последнего вздоха.
Старый Фальери пришел в неописуемый восторг и восхищение. Как только Аннунциата дотронулась до его руки, трепет пробежал по его членам, голова у него закружилась, и все тело пронизала такая дрожь, что он принужден был поспешно опуститься в большое кресло. Казалось, Бодоери ошибся, говоря о полноте сил у восьмидесятилетнего старца. И, видя это, он не мог скрыть лукавой улыбки. Что касается чистой, неопытной Аннунциаты, то она ничего не заметила; а больше в комнате, по счастью, никого не было.
Вполне возможно, старик Фальери, представив себе, как он покажется народу женихом девятнадцатилетней девушки, почувствовал всю нелепость своего положения; он смутно понимал, что, пожалуй, и не стоит давать повод к насмешкам городским зубоскалам и было бы куда лучше вовсе обойти молчанием этот щекотливый момент, – короче говоря, с согласия Бодоери решено было, что венчание свершится в величайшей тайне, и тогда через несколько дней Фальери сможет представить свою супругу синьории и народу так, как будто они уже давно женаты, и она только что прибыла из Тревизо, где находилась все время, пока Фальери исполнял свою миссию в Авиньоне.








