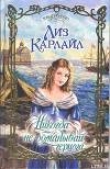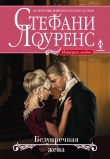Текст книги "Советник Креспель"
Автор книги: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Советник Креспель
– Тот, о ком я поведу речь, – начал Теодор, – не кто иной, как советник Креспель из Г***. Этот советник Креспель был действительно одним из оригинальнейших людей, которых я когда-либо видел. Когда я приехал в Г*** с намерением прожить там некоторое время, весь город говорил о его новой, только что совершенной проделке, превзошедшей глупостью все прежние. Креспель был известен как опытный, ученый юрист и изрядный дипломат. Один из довольно значительных немецких князей обратился к нему с просьбой составить для него очень важный меморандум с изложением его основательных прав на известную территорию, который он хотел представить на рассмотрение императора. Труд Креспеля увенчался полным успехом, и, когда он потом однажды пожаловался, что не может устроить себе достаточно удобного жилища, благодарный князь в награду за его услугу принял на себя издержки на постройку дома совершенно во вкусе Креспеля. Даже место для дома князь предлагал купить по его выбору. На это, впрочем, Креспель не согласился и просил выстроить ему дом в его собственном саду, расположенном в одной из красивейших местностей.
Немедленно стал Креспель заготавливать и свозить на место постройки все нужные материалы, а затем, одетый в оригинальнейший, им самим выдуманный и сшитый костюм, начал собственными руками размешивать известь, просеивать песок, складывать в правильные кучи камни и т. д. Ни архитектора, ни планов у него не было. Однажды отправился он к известному в Г*** подрядчику и просил его явиться завтра утром к нему в сад для постройки дома с нужным числом каменщиков, рабочих, носильщиков и прочих. Подрядчик, естественно, просил показать ему план и немало изумился, когда Креспель объявил, что никаких планов у него нет и не будет и что вся постройка будет произведена по его указаниям. Когда на другой день хозяин с рабочими явился на место постройки, они увидели правильно вырытый четырехугольный ров.
– Здесь, – сказал Креспель, – должен быть заложен фундамент моего дома, а затем я прошу вас начать кладку стен и поднимать их до тех пор, пока я не скажу «довольно!».
– Как! – возразил подрядчик, испугавшись, не рехнулся ли Креспель. – Без окон, без дверей, без поперечных стен?
– Совершенно так, как я вам говорю, любезный друг, – отвечал очень спокойно Креспель. – Все остальное придет в свое время.
Только обещание хорошего вознаграждения могло убедить подрядчика начать эту нелепую постройку, и должно сознаться, что никогда ни одна работа не шла так скоро и весело, благодаря тому, что кроме постоянного смеха, оживлявшего рабочих, их поили и кормили отличнейшим образом на месте их работы, так что они никогда ее не покидали. Скоро стены достигли значительной вышины, и однажды Креспель закричал: «Стой!». Лопаты и молот остановились, рабочие соскочили с мостков и, обступив Креспеля тесным кружком, казалось, спрашивали улыбающимися лицами: «Ну, а дальше что?».
– Раздвиньтесь, – крикнул Креспель и, добежав до конца сада, медленно зашагал оттуда прямо к одной из выведенных стен, пока не столкнулся с ней лбом. Покачав с неудовольствием головой, он побежал в другой конец, пошел оттуда к другой стене и повторил то же самое. Несколько раз проделывал он этот маневр, пока наконец не закричал, уткнув в стену нос:
– Эй вы, люди, пробивайте здесь живо дверь!
Он точнейшим образом дал размеры ширины и высоты, и дверь была пробита по его желанию. Креспель влез в отверстие и весело засмеялся на замечание подрядчика, что стены выведены на высоту здоровенного двухэтажного дома. Походив некоторое время в раздумье вдоль внутренней стороны стен с молотком и лопатой в руке, он вдруг закричал опять:
– Ломай здесь окно в шесть футов вышины и четыре ширины, а вон там – в три вышины и четыре ширины, а вон там – в три вышины, ширины – в два.
Все это было исполнено. Я сам был свидетелем этой операции, так как приехал в Г*** как раз около этого времени. Забавно было видеть сотню рабочих, толпившихся в саду и с громким смехом выламывавших в каменной стене окна на таких местах, где им бы совсем не следовало быть. Все прочие работы по устройству дома были произведены точно таким же образом – по указаниям и распоряжениям Креспеля. Забавная сторона этого предприятия и убеждение, что в конце концов постройка все-таки будет похожа на дом, а главное, Креспелева щедрость, которая, впрочем, ему ничего не стоила, поддерживали в рабочих бодрый и веселый дух. Затруднения, представлявшиеся при такой оригинальной манере строить, были побеждены, и дом, глупейший снаружи, так как в нем не было ни одного окна, похожего на другое, скоро был кончен. Внутренность, однако, не была так нелепа, в чем охотно признавались все посетители, в том числе и я сам, когда при более близком знакомстве с Креспелем был приглашен к нему в гости. До того времени мне не удавалось поговорить с оригиналом даже в двух словах. Он был так занят своей постройкой, что перестал даже ходить по вторникам обедать к профессору М***, как делал обыкновенно, велев сказать на особое приглашение, что он дал слово не переступать порога своей комнаты до празднования новоселья. Знакомые и друзья ожидали по этому случаю приглашения на торжественный обед, но Креспель позвал только рабочих, мастеров и подмастерьев, строивших дом, и угостил их в самом деле на славу. Каменщики объедались тончайшими паштетами, столяры глодали фазанов, голодные носильщики забирали на этот раз полными руками трюфельные фрикассе. Вечером пришли их жены с дочерьми и начался большой бал. Креспель сам протанцевал несколько туров вальса, а затем сел в оркестр, взял скрипку и дирижировал музыкой до утра.
В следующий вторник после этого праздника, на котором Креспель заявил себя таким другом народа, я с удовольствием встретил его у профессора М***. Странность его обращения невольно бросалась в глаза. Неловкость и натянутость его движений заставляла бояться каждую минуту, что он или на что-нибудь наткнется или что-нибудь разобьет, но, к моему удивлению, этого не случалось, так что хозяйка нимало не беспокоилась, видя, как он вдруг начинал раскачивать стол с дорогим сервизом или со всех ног бежал к большому зеркалу, стоявшему на полу, а то и хватал в руки и подбрасывал, как мяч, вазу для цветов из дорогого расписного фарфора. В кабинете Креспель перетрогал решительно все вещи на столе у хозяина, влезал с ногами на мягкий стул, снимал со стены картину и опять ее вешал на место. Говорил он чрезвычайно много и горячо, так что за обедом это даже бросалось в глаза; в разговоре он то беспрестанно перескакивал с предмета на предмет, то, наоборот, начав что-нибудь, никак не мог отвязаться от одной мысли; в разговоре нередко путался в собственных словах и тщетно старался найти потерянную нить, пока не увлекался чем-нибудь другим. Звук его голоса был то криклив и резок, то вдруг становился мягок и певуч, но никогда не соответствовал характеру высказываемых мыслей. Когда речь зашла о музыке и кто-то отозвался с похвалой о новом композиторе, Креспель вдруг засмеялся и сказал тихо нараспев:
– Пусть бы сам сатана спрятал этого музыкального кривляку в ад, на сто миллионов сажень под землю!
А потом вдруг дико закричал:
– Она ангел! Небесный ангел! Богиня нежных звуков и гармонии, свет и звезда искусства!
При этом слезы покатились у него из глаз. Необходимо объяснить, что ровно за час до того шел разговор об одной известной певице. За столом подавали жареного зайца, и я заметил, что Креспель с необыкновенной рачительностью складывал на своей тарелке обглоданные кости, потребовав потом, чтобы ему собрали все заячьи лапки, что и было с веселой готовностью исполнено пятилетней дочерью хозяйки. Дети, уже за обедом с любопытством смотревшие на Креспеля, теперь встали с мест и обступили его стул, впрочем не без некоторой почтительной робости, так что никто не решался подойти к нему ближе трех шагов. Я недоумевал, что из этого выйдет. Между тем подали десерт. Креспель вдруг вытащил из кармана небольшой ручной токарный станок, привинтил его к столу и с необыкновенным искусством в несколько минут выточил из заячьих костей множество разных безделушек, ящичков, шариков и прочего, которые были тут же с восторгом расхватаны детьми.
Когда вставали из-за стола, племянница профессора спросила:
– А что делает наша милая Антония, господин советник?
Креспель сделал такое лицо, как будто откусил кусок померанца, но вместе с тем хотел показать, что это ему очень приятно; выражение это, однако, тотчас исчезло и сменилось сердитым, потом злым, и наконец, как мне показалось, даже каким-то демонским.
– Наша? Наша милая Антония? – процедил он сквозь зубы неприятным голосом.
Профессор быстро подошел и строго взглянул на племянницу, из чего я понял, что она задела болезненно отзывающуюся в сердце Креспеля струну.
– Что поделывают ваши скрипки? – весело обратился профессор к Креспелю, схватив его дружески обеими руками.
Креспель мгновенно расцвел и ответил своим обыкновенным голосом:
– О, они в отличном положении, господин профессор! Еще сегодня я разломал великолепную скрипку Амати, которая, помните, по счастливому случаю досталась мне в руки. Надеюсь, Антония удачно разобрала в ней все прочее.
– Ваша Антония отличная девушка, – сказал профессор.
– О да, вы правы, – крикнул Креспель и, быстро схватив палку и шляпу, одним прыжком исчез за дверями.
Я успел заметить в зеркале, что светлые слезы катились по его щекам.
Едва Креспель ушел, я не отставал от профессора с просьбой объяснить мне, какое отношение имели скрипки к Антонии.
– Ах, – сказал профессор, – советник такой странный человек, что даже скрипки делает собственным нелепым способом!
– Делает скрипки? – переспросил я с удивлением.
– Да, – отвечал профессор, – Креспель делает, по мнению знатоков, лучшие в настоящее время скрипки, и в прежнее время он позволял играть на них посторонним, особенно, если какая-нибудь выходила замечательно удачной. Но нынче, сделав новую скрипку, Креспель обыкновенно поиграет на ней сам с удивительным жаром и увлечением в продолжение двух или трех часов и затем вешает ее на стену, рядом с прочими, не позволяя ни себе, ни кому-либо другому к ней более прикасаться. Если он узнает, что где-нибудь продается скрипка известного мастера, он немедленно ее покупает за первую, какую попросят цену, поиграет на ней несколько раз, разберет потом на части, чтобы изучить ее внутреннее строение и, не найдя того, что воображал найти, бросает с недовольным видом куски от нее в большой ящик, весь наполненный такими обломками.
– А кто такая Антония? – быстро спросил я.
– Это загадочная история, – отвечал профессор, – которая могла бы бросить в моих глазах очень дурную тень на Креспеля, если бы я не знал слишком хорошо его тихий, почти женственный характер и не подозревал в его поступках какой-нибудь тайной, не известной никому причины. Когда много лет тому назад Креспель поселился в Г***, он жил анахоретом в старом доме на улице N и держал при себе одну старую ключницу. Странности его скоро обратили на себя внимание соседей, и едва Креспель это заметил, как тотчас же стал искать и делать знакомства, причем в каждом новом доме делался непременно своим человеком, как это вы могли заметить сегодня и у меня. В особенности любили его дети, несмотря на его суровую, странную внешность, и надо заметить, что они никогда его не утомляли, потому что при всем своем дружелюбном с ними обращении он умел внушить к себе род боязливого уважения, защищавшего его от излишней детской навязчивости. Мы все считали его старым холостяком, и он нам в этом не противоречил. Прожив таким образом некоторое время, однажды он вдруг исчез, не сказав никому, куда едет, и вернулся только через несколько месяцев. На следующий вечер окна дома Креспеля были против обыкновения освещены, что одно уже возбудило любопытство соседей; но каково же было удивление присутствовавших, когда из дома раздались вдруг звуки чудного женского голоса под аккомпанемент фортепьяно. К этому присоединились огненные звуки скрипки, вступившие, казалось с ним в состязание. Все тотчас узнали, что это играл Креспель. Я сам вмешался в многолюдную толпу, слушавшую под окнами дома этот чудесный концерт, и должен вам сознаться, что пение лучших певиц, когда-либо мною слышанных, показалось мне бледным и ничтожным в сравнении с голосом и глубочайшей выразительностью, какими была одарена таинственная незнакомка. Никогда в жизни не слыхал я такой продолжительности тона, таких соловьиных трелей, такой захватывающей мятежности, таких переходов от могучих звуков органа до нежнейшего лепетания свирели. Сладкое очарование охватило присутствующих до такой степени, что когда певица умолкла, можно было слышать их затаенное дыхание.
Было уже около полуночи, когда из дома раздался знакомый крик советника, которому отвечал с явным, судя по тону, упреком другой мужской голос, и обоих перебивала горько жаловавшаяся на что-то девушка. Все сильнее и сильнее кричал Креспель, пока, наконец, не впал в знакомый вам протяжный, завывающий тон. Вдруг его прервал отчаянный вопль девушки; на минуту наступила мертвая тишина. Затем послышались быстрые шаги по лестнице; какой-то молодой человек, рыдая, сбежал с нее, и, бросившись в первый же наемный экипаж, умчался в одну минуту. На другой день Креспель явился к нам чрезвычайно веселый, но ни у кого не хватило мужества завести с ним разговор о происшествиях минувшей ночи. Ключница же его на расспросы любопытных объяснила, что он привез с собой прелестную девушку, которую зовет Антонией, и что именно она так очаровательно поет. С ними же приехал какой-то молодой человек, который, судя по его нежному обращению с Антонией, вероятно, был ее женихом. Впрочем, он по непреклонному желанию советника должен был скоро уехать. Кем приходится Антония Креспелю, никому до сих пор не известно, но можно подумать, что он обходится с ней самым отвратительным образом. Он бережет ее, как доктор Бартоло в «Севильском цирюльнике» берег свою воспитанницу. Она едва смеет выглянуть в окно. Если по настоятельным просьбам он выведет ее в гости, то смотрит за ней глазами аргуса и не выносит в этом случае ни малейшего музыкального звука, а тем более ни за что не допустит, чтобы Антония что-нибудь спела. Впрочем, она и дома уже больше никогда не поет. История пения Антонии в ту ночь, о которой я вам рассказал, сделалась в народе уже какой-то фантастической легендой, граничащей с рассказами о чудесах. Даже те, кто ее никогда не слыхал, говорят, критикуя пение какой-нибудь заезжей певицы: «Что это за жалкая пискотня? Петь может только одна Антония».
Вы знаете, как я падок до подобных фантастических вещей, и можете себе представить, до чего мне захотелось познакомиться с Антонией. Я много слышал рассказов о ее пении, но даже не предполагал, что сама очаровательница томилась во власти сумасшедшего Креспеля, как в оковах злого волшебника.
Само собой разумеется, что на следующую ночь мне уже грезилось чудное пение Антонии, причем она в выразительнейшем адажио (как мне казалось, мною самим сочиненном), трогательно умоляла меня спасти ее, а я, подобно новому Астольфу, проникал в дом Креспеля, как в зачарованный замок Альцина, и освобождал царицу пения от позорных, удерживавших ее уз!
Все, однако, случилось гораздо проще, чем я думал. Едва удалось мне увидеть Креспеля два или три раза и горячо поговорить с ним о конструкции скрипок, как он сам пригласил меня посещать его дом. При первом же визите он показал мне богатство своей коллекции скрипок. Не менее тридцати штук их висело на стенах кабинета, и из них особенно обращала на себя внимание одна, носившая на себе следы глубокой древности, с вырезанной львиной головой и всем прочим. Она висела выше остальных и была увенчана цветочным венком, как царица.
– Эта скрипка, – ответил Креспель на мой вопрос о ней, – замечательнейшее и удивительнейшее произведение неизвестного мастера, вероятно, времен Тартини. Я убежден, что во внутреннем ее строении скрыто что-то особенное, и если бы я разобрал ее на части, то, уверен, проник бы в эту тайну, узнать которую давно добиваюсь. Вы, может быть, будете надо мной смеяться, если я вам скажу, что эта мертвая вещь, в которую жизнь и звуки вливаю я, чудесным образом сама говорит со мною. Когда я заиграл на ней в первый раз, мне казалось, что я не более как магнетизер, старавшийся возбудить сомнамбулу для того, чтобы она высказала собственными словами свои внутренние чувства. Вы, конечно, не должны думать, что я и правда верю в такие фантастические сумасбродства, но верно, однако, то, что я никогда не мог решиться разломать эту глупую деревянную вещь. И теперь я сам этому радуюсь, потому что с тех пор, как у меня живет Антония, я иногда играю ей на этой скрипке. Антония слушает ее охотно, очень охотно!
Эти слова, произнесенные растроганным голосом, ободрили меня до того, что я решился сказать:
– О, любезный господин советник! Не сделаете ли вы это теперь в моем присутствии?
Лицо Креспеля мигом приняло кисло-сладкое выражение, и он сказал известным уже мне протяжным, певучим голосом:
– Нет, дражайший господин студиозус, нет!
Тем дело и кончилось. Впрочем, он еще долго показывал мне разные бессмысленные безделушки и, наконец, открыв небольшой ящичек, вынул оттуда что-то завернутое в клочок бумаги и, сунув его мне в руку, сказал торжественным голосом:
– Вы – друг искусства, примите же от меня этот подарок, который должен для вас навсегда остаться незабвенной памятью.
С этими словами он взял меня за плечи и, заставив дойти до дверей комнаты, обнял еще раз на пороге. Ясно, что этим символическим намеком он выпроваживал меня вон. Развернув бумажку, я нашел в ней маленький, величиной в осьмушку дюйма, кусочек квинты и при нем надпись: «Часть квинты, бывшей на скрипке покойного Стамица, когда он играл свой последний концерт».
Резкий отказ Креспеля, едва я заикнулся об Антонии, казалось, отнимал у меня всякую надежду когда-либо ее увидеть, но на деле вышло не так, и когда я пришел в нему во второй раз, Антония сидела в комнате, помогая ему собирать скрипку. Наружность ее не производила большого впечатления с первого взгляда, но, всмотревшись в нее пристальнее, трудно было оторваться от голубых глаз и розовых губок ее замечательно милого личика. Оно казалось бледным, но чуть разговор заходил о чем-то изящном, умном или хорошем, легкий румянец мгновенно вспыхивал на ее щеках, мало-помалу замирая опять в розоватой, матовой бледности. Я разговорился с ней без всякого стеснения и при этом ни разу не заметил в Креспеле того аргусова взгляда, о котором мне говорил профессор. Он был совершенно в своем обычном расположении духа и даже, казалось, остался очень доволен моим разговором с Антонией. Чем чаще я стал посещать их дом и чем более мы привыкали друг к другу, тем теснее сближался, к общей живейшей радости, наш маленький кружок. Советник много забавлял меня своими оригинальными выходками, но, конечно, главной чарующей приманкой была для меня Антония, заставлявшая меня часто переносить то, от чего, по моей тогдашней нетерпеливости, я иной раз готов был убежать.
Свойственная Креспелю оригинальность выражалась иногда довольно скучным, чтобы не сказать, глупым, образом; в особенности же бесило меня его поведение, когда я заводил речь о музыке или еще более о пении. Он кривил лицо на манер какой-то дьявольской улыбки и, отпустив своим завывающим противным голосом какую-нибудь самую обыкновенную пошлость, менял таким образом немедленно разговор. Глубокое огорчение, выражавшееся в подобных случаях на лице Антонии, ясно показывало, что эта выходка имела единственной целью воспрепятствовать мне когда-либо услышать ее пение. Но я не оставлял своих попыток. Препятствия, которые ставил мне советник, только разжигали мое желание их преодолеть; мне надо было услышать пение Антонии хотя бы для того, чтобы не сойти с ума, бредя им по ночам.
Однажды вечером Креспель был в особенно хорошем расположении духа. Он только что разломал старинную кремонскую скрипку и нашел, что душка была в ней на половину линии более скошена, чем обыкновенно. Важное, обогатившее практику открытие! Мне удалось возбудить в нем жар разговором об истинном искусстве скрипичной игры. Креспель заговорил о старинной манере пения великих певцов, чем, естественно, вызвал замечание, что нынче искусство это попало на ложную дорогу, гоняясь за одной виртуозностью, приличной только артистам-инструменталистам.
– Может ли быть что-нибудь глупее, – воскликнул я, вскочив со стула и подбежав к фортепьяно, которое тут же открыл, – может ли быть что-нибудь глупее этих нелепых пассажей, которые похожи более на рассыпанный по полу горох, чем на музыку!
Я спел несколько современных фермат, перекрученных и вертлявых, как кубарь, аккомпанируя одними пустыми аккордами. Креспель хохотал как сумасшедший.
– Так, так! – говорил он, задыхаясь. – Я так, кажется, и слышу наших немецких итальянцев или итальянских немцев, как они распинаются в какой-нибудь арии Пучитты, Портогалло, «Maestro di capella [1]1
Капельмейстер (итал.).
[Закрыть]», или, вернее, «Schiavo d'un primo uomo! [2]2
Первый среди рабов (итал.).
[Закрыть]».
Теперь, подумал я, настала минута.
– Не правда ли, – обратился я вдруг к Антонии, – такая манера петь не ваша?
И при этом заиграл чудную, полную жизни песню старика Леонардо Лео. Щеки Антонии вспыхнули, небесный огонь сверкнул в оживившихся глазах, она бросилась к фортепьяно, губы ее открылись – но вдруг в один миг Креспель вскочил со стула, крепко схватил меня за плечи и крикнул душераздирающим тенором:
– Сынок! Сынок! Сынок!
Вслед за тем он продолжил тихим певучим голосом, держа в самой учтивой позе мою руку:
– Было бы крайне невежливо и в высшей степени противно общепринятым правилам приличия, любезный господин студиозус, если бы я громко выразил желание, чтобы сам дьявол взял вас на этом месте своими калеными когтями за ворот и отправил таким образом куда следует! Но, несмотря на это, вы должны помнить, что на улице становится темно, а на лестнице нет света, и потому, если бы я даже вас с нее не сбросил, то вы все-таки рискуете переломать ноги, ежели станете спускаться в потемках! А потому убирайтесь домой подобру-поздорову и не поминайте лихом вашего покорнейшего слугу в случае, если вы более никогда – вы это слышите! – никогда не найдете его дома!
Затем он меня обнял, повернул и, по-прежнему крепко держа, довел до двери, так что я не мог даже взглянуть на Антонию. Вы понимаете, что при всем моем желании поколотить Креспеля палкой, я не мог этого сделать в том положении, в каком находился.
Профессор долго надо мной смеялся и уверял, что отношения мои с советником испорчены теперь навсегда. Я слишком уважал или, вернее сказать, боготворил Антонию, чтобы разыгрывать перед ней роль подоконного воздыхателя и искать любовных приключений. С растерзанным сердцем оставил я Г***, и хотя мало-помалу, как это всегда бывает, пламенные краски моей фантазии стали блекнуть, но память об Антонии и ее пении, которого я никогда не слыхал, часто озаряла мое сердце светом, похожим на тихое мерцание бледно-розовой вечерней зари.
Через два года, уже совершенно устроившись в Б***, предпринял я путешествие по южной Германии. На ясной вечерней заре предстали предо мной башни Г***, и чем ближе я к нему подъезжал, тем сильнее охватывало меня чувство какого-то мучительного страха. Грудь мою точно давила свинцовая тяжесть, я не мог дышать и вынужден был выйти из кареты на свежий воздух. Грусть овладела мной настолько, что я почти ощущал физическую боль, как вдруг я услышал аккорды торжественного хорала, пронесшиеся в воздухе. Звуки становились все явственнее, и я уже мог различить мужские голоса, певшие церковный гимн.
– Что это значит? – воскликнул я, почувствовав в то же время, будто раскаленный кинжал пронзил мне сердце.
– Разве вы не видите? – отвечал почтальон. – Кого-то хоронят.
Мы в самом деле ехали мимо кладбища, и я ясно видел группу одетых в траур людей, стоявших около гроба, который готовились закопать. Слезы брызнули у меня из глаз; мне казалось, что тут хоронили всю радость и счастье моей жизни. Лежавший на дороге холм скрыл кладбище из моих глаз, так что я не мог более видеть, что там происходило; хорал умолк, и скоро я увидел выходивших из ворот кладбища людей в траурных одеждах. Они возвращались с погребения. Профессор с племянницей под руку, оба в глубоком трауре, тихо прошли мимо, не заметив меня; племянница закрывала глаза платком и плакала навзрыд. Я чувствовал, что не в силах ехать в город, и, отправив своего слугу с каретой и вещами в гостиницу, сам бросился прогуляться по знакомым местам, думая разогнать то тяжелое настроение, которое, может быть, было следствием усталости, дорожной жары или чего-либо подобного.
Проходя по аллее, ведущей к загородному увеселительному заведению, я был поражен удивительным зрелищем. Два одетых в траур человека вели под руки советника Креспеля, старавшегося странными прыжками от них вырваться и убежать. Он был одет, как всегда, в свой оригинальный им самим сшитый сюртук, и только длинный черный креп развевался по воздуху на его маленькой треугольной надвинутой на одно ухо шляпе. На поясе была у него надета черная портупея, в которой вместо шпаги болтался длинный скрипичный смычок. Холод пробежал у меня по жилам. «Он сошел с ума», – подумал я, своротив с дороги, чтобы пойти за ним. Провожатые довели его до дома, где он обнял их, громко засмеявшись. Они ушли; он же тут только увидел меня рядом с собой. Тупо посмотрев на меня несколько минут, он наконец воскликнул глухим голосом:
– Здравствуйте, господин студиозус! Вы все хорошо поймете! – И, схватив за руку, он потащил меня по лестнице за собой в дом, в комнату, где висели его скрипки.
Все они были завешены черным крепом, но старинной скрипки уже не было, на ее месте висел кипарисовый венок.
– Понимаю! – воскликнул я с неизъяснимой горестью. – Антония! О Антония!
Креспель стоял передо мной, словно в удивлении, со сложенными на груди руками. Я указал на кипарисовый венок.
– В минуту ее смерти, – проговорил Креспель глухим, торжественным голосом, – душка скрипки разлетелась вдребезги, а дека раскололась во всю длину! Верная подруга могла жить только в ней и с ней! Она положена в ее гроб и похоронена с нею вместе.
Пораженный, я опустился на стул, а Креспель вдруг затянул хриплым голосом веселую песню и начал подпрыгивать при этом на одной ноге, так что на него становилось страшно смотреть; креп на шляпе, которую он не снял и в комнате, развевался во все стороны, задевал за висевшие скрипки, и вдруг, при одном диком прыжке Креспеля, длинный конец креповой ленты хлестнул меня по лицу. Я не мог удержать невольного крика; мне казалось, что какая-то страшная сила, схватив, тащит меня в бездну безвозвратного сумасшествия. Вдруг Креспель остановился и заговорил своим певучим голосом:
– Сынок, а сынок! Что ты кричишь? Или ты увидел ангела смерти? Это бывает в таких случаях! – И выйдя на средину комнаты, он выхватил из портупеи смычок, поднял его обеими руками над головой и разломал вдребезги.
– Ну вот, – закричал он с громким смехом, – вот и шпага переломлена надо мною! Значит, я осужден на смерть! Не так ли сынок? Нет, нет!.. Теперь я свободен, свободен!.. Тра-ла-ла!.. Больше я не буду делать скрипок! Не буду, не буду!.. Тра-ла-ла!
Все это пропел он на какой-то неистово веселый мотив, подпрыгивая на одной ноге. Полный ужаса, я бросился к двери, но Креспель меня удержал и сказал спокойным голосом:
– Останьтесь, господин студиозус! Не сочтите безумием это выражение горя, которое гложет меня хуже смертной пытки; все случилось только из-за того, что я недавно сшил себе новый шлафрок, в котором хотел блаженствовать, как Бог или сама судьба.
Тут он принялся болтать уже совершенную чепуху и вконец обессиленный опустился с подкошенными ногами. На мой зов явилась его старая хозяйка, а я с радостью вырвался наконец на свежий воздух.
Я не сомневался ни одной минуты, что Креспель сошел с ума, но профессор утверждал обратное.
– Есть люди, – говорил он, – у которых природа или немилосердный рок сорвали покров с таких сторон жизни, которые показались бы безумными в каждом из нас, не будь они обыкновенно скрыты от взгляда посторонних. Люди эти похожи на тех существ с прозрачной кожей, у которых можно наблюдать движение их мускулов, что, конечно, отвратительно на вид, но тем не менее совершенно правильно; что у нас остается мыслью, то у Креспеля сейчас же переходит в действие. Желчь, накипевшую под влиянием заключенного в земные оковы духа, Креспель выражает в странных ужимках и диких кривляньях, но это именно и служит для него громоотводом. Он воздает земле земное – но божественную искру хранит свято. Потому я думаю, что рассудок его в совершенном порядке, несмотря на внешние резко бросающиеся в глаза безумные выходки. Внезапная смерть Антонии, конечно, сильно его поразила, но я бьюсь об заклад, что с завтрашнего дня жизнь его поплетется обыкновенным, привычным ходом.
Слова профессора оправдались. На другой день советник смотрел совершенно по-прежнему и только объявил, что он уже никогда не будет более делать скрипок и даже ни на одной не попробует играть. Слово это, как я узнал впоследствии, он хранил свято.
Намеки профессора укрепили меня еще более в мысли, что странные, так тщательно скрываемые отношения Креспеля к Антонии, а, может быть, даже ее смерть должны лежать на его душе тяжелым, неискупимым грехом. Я не хотел оставлять Г***, не обнаружив подозреваемого мною преступления. Я думал, что, если мне удастся внезапно потрясти Креспеля до глубины души, то вынужденное признание ужасного поступка сорвется с его языка. Чем более обдумывал я это дело, тем более, казалось мне, убеждался в злодействе Креспеля и тем с большим жаром готовил красноречивую, огненную речь, которая будто сама собой выливалась у меня в великолепные риторические формы. Так настроенный и разгоряченный донельзя, отправился я к нему. Креспель сидел со спокойным улыбающимся лицом и точил игрушки.
– И вы можете, – вдруг накинулся я на него, – чувствовать хоть на минуту душевный покой, не терзаясь ужасными угрызениями совести при мысли о вашем страшном злодействе!
Советник уставил на меня изумленный взгляд и отложил резец в сторону.
– Что вы сказали, мой дражайший? – спросил он. – Садитесь пожалуйста, вот вам стул.
Я с жаром продолжил свою речь и, разгорячаясь все более и более, перешел уже прямо к обвинению его в убийстве Антонии, угрожая ему карой Всевышней власти. Получив недавно юридическую степень и потому полный рвения к своему призванию, я зашел так далеко, что стал даже грозить ему доносом, возбуждением следствия и отдачей его еще здесь в руки светского правосудия. Я, кажется, в самом деле немного заврался, потому что, по окончании моей высокопарной речи, Креспель, не возражая ни единым словом, взглянул на меня очень спокойно, как бы ожидая, не стану ли я продолжать. И точно, я чуть было не начал снова, но тут стало у меня уже все выходить так глупо и нескладно, что пришлось замолчать. Креспель с явным удовольствием заметил мое замешательство; злая ироническая улыбка скользнула по его губам, но потом лицо его вдруг приняло важное выражение, и он заговорил торжественным тоном: