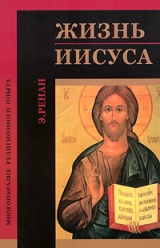
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Эрнест Жозеф Ренан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Сверх того, есть еще одно обстоятельство, прекрасно свидетельствующее, что поучения, передаваемые четвертым Евангелием, не могут считаться исторически верными, но что на них следует смотреть как на сочинение, предназначенное для того, чтобы покрыть авторитетом Иисуса некоторые учения, дорогие для редактора; это полнейшая их гармония с умственным состоянием Малой Азии в тот момент, когда они были написаны. В то время Малая Азия была театром странного движения синкретической философии; в ней уже существовали все зародыши гностицизма. Церинт, современник Иоанна, проповедовал, что эон по имени Христос путем крещения соединился с человеком по имени Иисус и покинул его на кресте[78]. По-видимому, некоторые из учеников Иоанна успели уже отведать из этого чуждого им до тех пор источника. Можно ли утверждать, что и сам апостол не подвергся подобному же влиянию[79], что и в нем не произошло переворота, аналогичного обращению Св. Павла, главным свидетельством которого является послание к Колоссянам?[80] Конечно, нет. Могло случиться, что после катастроф 68 г. (дата Апокалипсиса) и 70 г. (разрушение Иерусалима) престарелый апостол, одаренный пылкой и подвижной душой, разочаровавшийся в веровании в скорое пришествие Сына Человеческого в облаках, склонился к идеям, циркулировавшим вокруг него, тем более, что многие из них прекрасно сливались с некоторыми христианскими доктринами. Приписывая эти новые идеи Иисусу, он только следовал бы весьма естественной склонности. Наши воспоминания изменяются вместе со всем нашим существом; идеалы личности, которую мы знали, изменяются вместе с нами. Принимая Иисуса за воплощение истины, Иоанн мог приписывать ему и то, что для него самого сделалось истиной.
Впрочем, гораздо вероятнее, что сам Иоанн не принимал в этом никакого участия, что указанный переворот произошел вокруг него, без сомнения, даже после его смерти, а не в нем самом. Глубокая старость апостола могла закончиться состоянием слабости, которое отдало его во власть окружающих[81]. Какой-нибудь секретарь мог воспользоваться этим состоянием и заставить выражаться своим стилем того, кого весь мир называл по преимуществу "Старцем", ho presbyteros. Некоторые части четвертого Евангелия могли быть прибавлены впоследствии, такова целиком XXI глава[82], в которой автор как бы задается мыслью воздать честь апостолу Петру после его смерти и ответить на возражения, которые могли бы возникнуть и уже возникали по поводу смерти самого Иоанна (ст. 21 – 23). Многие другие места носят следы помарок и исправлений[83]. Книга эта, конечно, могла оставаться лет пятьдесят в неизвестности, раз все считали, что ее писал не Иоанн. Но понемногу к ней стали привыкать и, наконец, признали ее. И даже раньше, чем она была признана канонической, многие могли ею пользоваться как книгой хотя и не особенно авторитетной, но весьма поучительной[84]. С другой стороны, разноречия, встречавшиеся в ней с синоптиками, которые пользовались гораздо большим распространением, долго не позволяли руководствоваться ею при составлении описания жизни Иисуса в том виде, как ее себе воображали.
Таким толкованием объясняется странное противоречие между творениями Иустина и псевдоклиментовыми "Проповедями", в которых встречаются следы четвертого Евангелия, но в которых при этом оно не ставится на одну доску с синоптиками. Отсюда происходят и те ссылки, которые делаются на него приблизительно до 180 г. и которые нельзя назвать прямыми цитатами. Отсюда, наконец, происходит та особенность четвертого Евангелия, что оно как бы понемногу и медленно всплывает среди движений в церквах Азии во II веке и сперва получает признание со стороны гностиков[85], но пользуется еще лишь весьма частичным кредитом в ортодоксальной церкви, как об этом можно судить по спору относительно Пасхи, впоследствии получившей всеобщее признание. Иногда я склонен думать, что Папий имел в виду именно четвертое Евангелие, когда противопоставлял точным указаниям относительно жизни Иисуса длинные речи и странные поучения, которые влагаются в его уста иными авторами[86]. Папий и старая иудео-христианская партия должны были считать эти последние новшества весьма предосудительными. Тот факт, что книга, сперва признаваемая еретической, в конце концов прокладывает себе путь в ортодоксальную церковь и становится в ней символом веры, нельзя, конечно, считать единичным.
Я считаю по меньшей мере весьма вероятным, что книга была написана до 100 г., то есть в эпоху, когда синоптики были еще не вполне канонизированы. После этой даты было бы непостижимо, чтобы автор до такой степени мог эмансипироваться от "Апостольских Воспоминаний". Для Иустина и, по-видимому, также для Папия синоптики представляют единственный истинный источник жизнеописания Иисуса. Если бы подделка Евангелия была написана около 129 или 130 г., то она ограничилась бы обработкой по собственному усмотрению принятой уже версии, как это мы и видим в апокрифических Евангелиях, но не стала бы переиначивать сверху донизу уже авторитетно установленные существенные черты жизни Иисуса. Это так верно, что со второй половины II века такие противоречия становятся серьезным аргументом в руках алогов и вынуждают защитников четвертого Евангелия изобретать довольно тяжеловесные объяснения[87]. Нет никаких доказательств тому, чтобы редактор четвертого Евангелия, работая над ним, не имел бы перед собой синоптических Евангелий[88]. Поразительное сходство его повествования с тремя прочими Евангелиями во всем том, что относится к Страстям, дает основание предполагать, что уже с той поры для Страстей, как и для Тайной вечери[89], существовал почти установленный текст рассказа, который заучивался наизусть.
На расстоянии веков было бы невозможно найти ключ для решения всех этих странных загадок и, конечно, мы встретились бы со многими неожиданностями, если бы нам дано было проникнуть во все секреты таинственной ефесской школы, по-видимому, не раз отклонявшейся на весьма темные пути. Но вот к какому капитальному выводу приводит исследование. Всякий автор, который взялся бы написать жизнь Иисуса без предвзятой теории относительно сравнительной ценности Евангелий, руководствуясь единственно чувствами, вызванными самим предметом, во многих случаях будет вынужден предпочесть повествование четвертого Евангелия синоптическим Евангелиям. В особенности последние месяцы жизни Иисуса находят себе объяснение только в этом Евангелии; многие подробности Страстей, непонятные у синоптиков[90], в повествовании четвертого Евангелия получают характер правдоподобного и возможного. И, наоборот, пусть кто бы то ни было попробует составить осмысленное жизнеописание Иисуса, принимая в соображение поучения, которые мнимый Иоанн влагает в уста Иисуса. Этот прием беспрестанно проповедовать о себе и выставлять себя, эта вечная аргументация, эта неловкая рисовка, эти длинные рассуждения после каждого чуда, эти прямолинейные и неуклюжие речи, тон которых часто бывает и неровен, и ненатурален[91], всего этого человек со вкусом не потерпел бы наряду с восхитительными сентенциями, которые, по синоптикам, составляли душу поучений Христа. Очевидно, это искусственные[92] вставки для того, чтобы изобразить нам проповедь Иисуса наподобие диалогов Платона, в которых переданы нам беседы Сократа. Это в некотором роде вариации, которые музыкант импровизирует на заданную тему. Самая тема, о которой идет речь, может быть, и не лишена известной подлинности, но в исполнении ее фантазия артиста дает себе полную волю. Чувствуется деланность, риторика, отделка[93]. Прибавим еще, что мы не находим и словаря Иисуса в тех отрывках, о которых идет речь. Выражение "Царство Божие", столь обычное для учителя[94], встречается здесь лишь один раз[95]. Зато стиль поучений, приписываемых четвертым Евангелием Иисусу, представляет полнейшую аналогию со стилем повествовательных частей того же Евангелия и со стилем автора посланий Иоанна. Видно, что автор четвертого Евангелия, когда писал эти поучения, руководствовался не своими воспоминаниями, но довольно однообразным течением собственной мысли. В них перед нами раскрывается целый новый мистический язык, который характеризуется частым употреблением слов "мир", "истина", "жизнь", "свет", "тьма" и который принадлежит не столько синоптикам, сколько книге Премудрости, Филону, валентинианцам. Если Иисус когда-либо говорил в таком стиле, в котором нет ничего еврейского, нет ничего иудейского, то как могло случиться, что из его слушателей лишь один так хорошо сохранил секрет употребления этого стиля?
В истории литературы мы знаем, впрочем, пример, представляющий некоторую
аналогию с историческим явлением, изложенным здесь, и до известной степени объясняющий его. Сократ, не писавший ничего, как и Иисус, известен нам по двум своим ученикам, Ксенофонту и Платону; первый по своей ясной, прозрачной, безличной редакции отвечает синоптикам; второй своей мощной индивидуальностью напоминает автора четвертого Евангелия. Следует ли, излагая учение Сократа, держаться "Диалогов" Платона или "Бесед" Ксенофонта? В этом отношении нет никаких сомнений: весь мир придерживается "Бесед", а не "Диалогов". А между тем разве Платон не сообщает ничего о Сократе? Разве может добросовестная критика, составляя биографию Сократа, пренебречь "Диалогами"? Кто осмелился бы утверждать это?
Не высказываясь относительно фактической стороны вопроса о том, кто писал четвертое Евангелие, и даже разделяя убеждение, что его писал никак не сын Зеведеев, можно все-таки допустить, что это творение имеет некоторое право носить название "Евангелие от Иоанна". Исторической канвой четвертого Евангелия, по моему мнению, является жизнь Иисуса в том виде, как она была известна среде, непосредственно окружавшей Иоанна. Я прибавлю, что, по моему мнению, эта школа знала различные внешние обстоятельства жизни ее основателя лучше, нежели группа, из воспоминаний которой сложились синоптические Евангелия. Например, относительно пребывания Иисуса в Иерусалиме у нее были данные, которыми не обладали другие церкви. Пресвитер Иоанн, который, по всей вероятности, был не кто иной, как сам апостол Иоанн, считал, как говорят, рассказ Марка неполным и беспорядочным; у него была даже целая система объяснений пробелов этого повествования[96]. Сверх того, некоторые места у Луки, в которых звучит как бы отголосок Иоанновых преданий[97], доказывающих, что предания, сохранившиеся в четвертом Евангелии, не были чем-то совершено неведомым для остальной христианской семьи.
Мне кажется, этих объяснений достаточно для того, чтобы при дальнейшем изложении были ясны мотивы, которые побудили меня отдавать предпочтение тому или другому из четырех источников для жизнеописания Иисуса. В общей сложности я причисляю четыре канонические Евангелия к достоверным документам. Все они принадлежат столетию, следовавшему непосредственно за смертью Иисуса, но историческая ценность их весьма различна. В отношении поучений, очевидно, заслуживает особого доверия Евангелие Матфея; в нем заключаются Logia, подлинные записи живых и непосредственных воспоминаний об учении Иисуса. Кроткое и вместе с тем грозное сияние, божественная сила, если можно так выразиться, подчеркивают эти слова, выделяют их из контекста и дают критике возможность легко распознать их. Автор, задающийся мыслью создать себе на основании евангельской истории верное представление, обладает в этом отношении превосходным пробным камнем. Истинные слова Иисуса обнаруживаются, так сказать, сами собой; стоит лишь столкнуться с ними в этом хаосе преданий различной подлинности, как уже чувствуешь их звучность; они сами выдают себя, сами занимают свое место в повествовании и сохраняют в нем свою несравненную рельефность.
Повествовательные части, группирующиеся в первом Евангелии вокруг этого первоначального ядра, обладают различной степенью достоверности. Здесь встречается много легенд, довольно смутно очертанных, порожденных благочестием второго христианского поколения[98]. Повествования, общие у Матфея и Марка, носят на себе следы ошибок переписчика, свидетельствующие о недостаточном его знакомстве с Палестиной[99]. Многие эпизоды повторяются два раза, некоторые из лиц также раздваиваются; это доказывает, что авторы пользовались различными источниками, грубо сличая их между собой[100]. Евангелие от Марка более положительно, более определенно, менее обременено эпизодами, вставленными впоследствии. Из всех трех синоптиков он наиболее сохранил древний, оригинальный характер[101], в него меньше всего вкралось позднейших элементов. Фактические подробности у Марка отличаются чистотой, которой тщетно было бы искать у других евангелистов. Он любит приводить известные слова Иисуса на сирийско-халдейском языке[102]. Он полон мелочных наблюдений, которые, без сомнения, принадлежат свидетелю-очевидцу. Ничто не противоречит предположению, что этот свидетель-очевидец, видимо, следовавший всюду за Иисусом, любивший его и сохранивший в своей душе его живой образ, был никто иной, как сам апостол Петр, как это и утверждает Папий.
Что касается Евангелия Луки, то его историческая ценность значительно ниже. Это документ второго разбора. Повествование носит здесь более зрелый характер. Слова Иисуса более обдуманны, более сочинены. Некоторые сентенции доведены до крайности и извращены[103]. Составляя Евангелие вне Палестины и, конечно, после осады Иерусалима[104], автор его указывает местности менее точно, нежели оба другие синоптика; он имеет ложное представление о храме как о здании, в которое ходят молиться[105]; он не упоминает об иродианах; он опускает подробности с тем, чтобы согласовать между собой различные повествования[106]; смягчает некоторые части, повторять которые в это время было уже неудобно ввиду того, что вокруг него идея о божественности Иисуса[107] получала все более экзальтированный характер; преувеличивает чудесное[108]; совершает ошибки хронологические[109] и топографические[110]; опускает еврейские слова[111] и, по-видимому, плохо знает еврейский язык[112], не цитирует ни одного слова, сказанного Иисусом на этом языке, все местности называет их греческими именами, иногда весьма неискусно исправляет слова Иисуса[113]. Чувствуется во всем этом компилятор, человек, не видавший непосредственно свидетелей, работающий над письменными источниками и позволяющий себе изрядно их насиловать для того, чтобы согласовать между собой. По всей вероятности. Лука имел перед собой первоначальное повествование Марка и Logia Матфея. Но он обращается с ними весьма свободно; то он сливает между собой воедино два эпизода или две притчи[114]; то из одного делает два[115]. Он перетолковывает документы по собственному разумению; у него нет абсолютной объективности Матфея и Марка. Можно составить себе известное понятие об его вкусах и особенностях: он отъявленный ханжа[116]; он настаивает на том, что Иисус исполнял все иудейские обряды[117]; он демократ и экзальтированный евионит, то есть большой противник собственности, и убежден, что наступит для бедных возмездие[118]; он любит больше всего анекдоты, на которых рельефно изображается обращение грешников, возвеличение униженных[119], и нередко изменяет древние предания, чтобы придать им именно такую окраску[120]. На первых же своих страницах он приводит легенды о детстве Иисуса, рассказанные с теми длинными дополнениями, с теми песнопениями и условными приемами, которые составляют существеннейшие черты апокрифических Евангелии. Наконец, повествование о последних днях Иисуса он дополняет некоторыми сентиментальными подробностями и приводит некоторые слова Иисуса редкой красоты[121], не встречающиеся в более подлинных повествованиях, и в которых чувствуется влияние легенды. Лука заимствовал их, вероятно, из какого-нибудь более позднего сборника, рассчитанного главным образом на то, чтобы возбудить благочестивые чувства.
Естественно, что по отношению к документу такого рода требуется большая осторожность. Но было бы так же неблагоразумно пренебрегать им, как и пользоваться им без разбора. Лука имел перед глазами оригиналы, которых у нас нет. Он не столько евангелист, сколько биограф Иисуса, "гармонист", корректор наподобие Марсиона и Татиена. Но это биограф первого века, дивный художник, который независимо от разъяснений, почерпнутых им в самых древних источниках, изображает характер основателя необыкновенно удачными штрихами, с воодушевлением, рельефностью, которых нет у других синоптиков. В чтении его Евангелие наиболее обаятельно, ибо к несравненной красоте общего фона он прибавляет художественность, чрезвычайно оригинально усиливающую впечатление от всего портрета, без малейшего ущерба его правдивости.
В общем можно сказать, что редакция синоптиков прошла три стадии: 1) состояние оригинального документа (logia Матфея, lekthenta е prakthenia Марка), – первая, ныне не существующая редакция; 2) состояние простой смеси, где оригинальные документы без всякого предумышления слились в одно целое, причем нигде нельзя подметить никаких личных взглядов авторов (Евангелия Матфея и Марка в их нынешнем виде); и 3) состояние комбинирования, обдуманного и намеренного редактирования, в которых ощущаются усилия примирить между собой различные версии (Евангелие Луки, Евангелия Марсиона, Татиена и пр.). Евангелие от Иоанна, как уже было сказано, представляет собой творение совсем другого порядка и стоит совершенно особняком.
Можно заметить, что я совсем не пользовался апокрифическими Евангелиями. Эти сочинения ни в каком отношении не могут быть поставлены в уровень с каноническими Евангелиями. Это плоские и ребяческие разглагольствования; большею частью в основе их лежат канонические Евангелия, и к ним они не прибавляют никогда ничего ценного. Напротив, я с большим вниманием занимался собиранием отрывков, сохранившихся у Отцов Церкви, старинных Евангелий, существовавших некогда параллельно с каноническими и ныне затерянных, каковы Евангелие от Иудеев, Евангелие от Египтян, Евангелия Иустина, Марсиона, Татиена[122]. Два первые особенно важны, потому что они редактированы на арамейском языке, как Logia Матфея, потому что они, по-видимому, представляют собой вариант Евангелия, приписываемый этому же апостолу, и потому что они служат Евангелием у евионитов, то есть у тех мелких христианских общин Вифании, которые сохранили употребление сирийско-халдейского языка и которые, по-видимому, в некоторых отношениях продолжали род Иисуса. Но следует сознаться, что в том виде, в каком они дошли до нас, эти Евангелия в смысле авторитетности уступают редакции Евангелия от Матфея, которое мы имеем.
Теперь, я полагаю, станет ясно, какую именно историческую цену я придаю Евангелиям. Это не биография вроде Светония и не легендарные вымыслы вроде Филострата; это легендарные биографии. Я охотно сопоставил бы их с легендами святых, с жизнеописаниями Плотина, Прокла, Исидора и другими творениями этого же рода, в которых историческая правда и стремление дать образцы добродетелей комбинируются в различных пропорциях. В них особенно чувствуется неточность, составляющая одну из основных черт всякого народного творчества. Представим себе, что лет пятнадцать-двадцать тому назад, три или четыре старых солдата Империи взялись бы каждый по-своему написать жизнь Наполеона по своим воспоминаниям. Ясно, что в их повествованиях оказались бы многочисленные ошибки, сильные противоречия. Один из них поставил бы Баграм раньше Маренго; другой, не колеблясь, описал бы, как Наполеон изгнал из Тюльери правительство Робеспьера; третий пропустил бы экспедиции самой высокой важности. Но, конечно, из таких наивных рассказов в результате получилась бы одна в высокой степени правдивая вещь, это характер героя, то впечатление, которое он производил на окружающих. И в этом смысле подобные народные истории имели бы большее значение, нежели претенциозная официальная история. То же самое можно сказать об Евангелиях. Обратив все свое внимание исключительно на то, чтобы выставить превосходство своего учителя, его чудеса, его проповеди, евангелисты обнаруживают полнейшее равнодушие ко всему, что не относится к самому духу учения Иисуса. Разноречию относительно времени, места, лиц они не придавали никакого значения; ибо насколько каждому слову Иисуса они приписывали высшую степень вдохновения, настолько же они были далеки от признания подобного вдохновения у редакторов. Эти последние и сами смотрели на себя лишь как на простых переписчиков и заботились только об одном: не пропустить ничего,
что им было известно[123].
Бесспорно, что к таким воспоминаниям должны были примешиваться отчасти предвзятые идеи. Многие рассказы, у Луки в особенности, вымышлены, чтобы резче выделить известные черты физиономии Иисуса. Самый его облик ежедневно претерпевал изменения. Иисус был бы единственным в своем роде явлением в истории, если бы при той роли, которую он играл, он не преобразился бы в самое короткое время. Легенда Александра возникла прежде, чем пресеклось поколение его полководцев, товарищей по оружию; легенда Св. Франциска Ассизского возникла еще при его жизни. Быстрая метаморфоза сама собой произошла в течение двадцати или тридцати лет, последовавших за смертью Иисуса, и внесла в его биографию все признаки идеализированной легенды. Смерть делает еще совершеннее самого совершенного человека; она уничтожает все его недостатки в глазах тех, кто его любил. Сверх того, одновременно с желанием изобразить его, хотели и возвеличить его. Много анекдотов было придумано, только чтобы доказать, что в нем осуществились пророчества, которые считались мессианскими. Но не отрицая важного значения этого приема, не все им можно объяснить. Ни одно из иудейских сочинений той эпохи не дает серии точно формулированных пророчеств, которые предстояло осуществить Мессии. Многие из мессианских ссылок, открытых евангелистами, так недоказательны, извращены, что нет основания думать, чтобы все это соответствовало общепринятому учению. То рассуждали таким образом: "Мессия должен совершить такое-то дело; так как Иисус есть Мессия, то Иисус, следовательно, и совершил это дело". Или наоборот: "С Иисусом произошло то-то; так как Иисус есть Мессия, то это же должно произойти с Мессией"[124]. Слишком простые объяснения всегда бывают неверны, если речь идет об анализе основ тех глубоких созданий народного чувства, которые ставят в тупик все системы своим богатством и бесконечным разнообразием.
Едва ли существует необходимость упоминать о том, что, пользуясь подобными документами и желая брать из них только несомненно установленные факты, приходится ограничиваться общим очерком. Почти во всех историях древности, даже и в тех, которые гораздо менее легендарны, нежели эта, подробности дают повод для бесконечных сомнений. Если перед нами два рассказа об одном и том же факте, то весьма редко бывает, чтобы они оба совпадали. Но при наличии одного лишь рассказа тем более причин для затруднений. Можно утверждать, что из числа анекдотов, изречений, знаменитых речей, передаваемых историками, нет ни одного достоверного. Разве существовали стенографы для записи этих крылатых слов? Разве был всегда наготове летописец, который бы записывал жесты, приемы, чувства исторических лиц? Сколько бы мы ни старались выяснить истину насчет того, как именно произошел тот или другой современный факт, мы этого не достигнем. Два рассказа свидетелей-очевидцев об одном и том же событии существенно разнятся один от другого. Следует ли поэтому отказываться от всяких красок в повествовании и ограничиваться изложением одних условных фактов? Это значило бы уничтожить историю. Разумеется,
я уверен, что за исключением некоторых кратких афоризмов, особенно запечатлевшихся в памяти, ни одно из изречений, передаваемых Матфеем, не может считаться буквальным; таким качеством едва могут похвалиться наши стенографические отчеты. Я охотно признаю, что превосходный рассказ о Страстях во многих отношениях только приблизительно верен. Но, однако, возможно ли составить историю Иисуса, выпустив из нее эти проповеди, благодаря которым физиономия его бесед передана нам с такой живостью, и ограничиться в ней, подобно Иосифу и Тациту, одним сообщением, что "он был предан смертной казни по распоряжению Пилата, подстрекаемого первосвященниками"? По-моему, это было бы еще большей неточностью, нежели та, которою мы рискуем, допуская подробности, почерпнутые нами из текстов. Подробности эти не буквально верны, но в них заключается высшая правда; они более истинны, нежели голая истина, в том смысле, что они представляют собой истину, которая получила выразительный, красноречивый характер, которая возведена на высоту идеи.
Я прошу тех читателей, которые найдут, что я дал преувеличенную веру повествованиям, большей частью легендарным, принять в расчет высказанное здесь мною соображение. К чему сведется жизнь Александра, если мы ограничимся лишь фактами, точно известными о ней? Даже традиции, неверные в известной своей части, заключают в себе долю истины, которою история не может пренебрегать. Никто не упрекал Шпренгера за то, что, составляя жизнеописание Магомета, он слишком считался с Хадифом или устными преданиями о пророке и нередко приписывал своему герою буквальные выражения, известные лишь из этого источника. Между тем, предания о Магомете в историческом отношении ничуть не выше изречений и повествований, составляющих Евангелия. Они были написаны в промежутке времени от 50 до 140 года геджиры. Составляя историю иудейских школ в эпохи, предшествовавшую и непосредственно следовавшую за возникновением христианства, никто не затруднится приписать Гиллелю, Шанмаи, Гамалиилу принципы, которые им приписывают Мишча и Гемара, несмотря на то, что эти обширные компиляции были редактированы много сот лет спустя после этих учителей.
Что же касается тех читателей, которые, наоборот, думают, что история заключается в воспроизведении без всяких толкований дошедших до нас документов, я прошу их заметить, что в данном случае это непозволительно. Четыре главные документа явно противоречат друг другу; сверх того, иногда их исправляет Иосиф. Приходится выбирать. Если мы утверждаем, что известное событие не могло произойти в одно и то же время двояким способом или способом невозможным, то это не значит, что мы вносим в историю априорную философию. Если историк обладает многими различными вариантами одного и того же факта, если легковерие приплело ко всем этим вариантам баснословные подробности, то из этого он не должен заключать, что самый факт ложен; в подобном случае он должен быть осторожным, обсуждать тексты, прибегать к наведению. Есть категория рассказов, по отношению к которым соблюдение этого принципа особенно необходимо; это рассказы о сверхъестественном. Если мы стараемся объяснить такие рассказы или свести их к легендам, это не значит, что мы искажаем факты во имя теории; это значит исходить именно из соблюдения фактов. Ни одно из чудес, которыми переполнены старые истории, не происходило с научной обстановке. Ни разу еще не изменявший нам опыт учит нас, что чудеса происходят только в эпохи и странах, где в них верят, при людях, склонных в них верить. Никогда ни одного чуда не происходило в собрании людей, умственно способных констатировать чудесный характер факта. Но ни люди из народа, ни вообще публика в этом не компетентны. Для этого потребуются большие предосторожности и долговременная привычка к научным исследованиям. Разве мы не видели в наши дни, как публика становилась жертвой грубых фокусов или ребяческих иллюзий? Чудесные факты, засвидетельствованные целым населением небольших городов, благодаря строгому следствию оказывались уголовным преступлением[125]. Но так как доказано, что никакое чудо в наше время не выдерживает серьезного расследования, то не остается ли заключить, что, вероятно, и чудеса прошлых времен, происходившие на глазах толпы, точно так же оказались бы иллюзией, если бы возможно было подробно разобрать их.
Следовательно, мы изгоняем чудо из истории не во имя той или другой философии, а во имя постоянного опыта. Мы не говорим, что "чудо невозможно"; мы говорим, что "до сих пор не было констатировано ни одного чуда". Что мы сделаем, если завтра выступит чудотворец с гарантиями, достаточно серьезными для того, чтобы им заняться, и, предположим, заявит, что он может воскресить мертвого? Мы составим комиссию из физиологов, физиков, химиков, из людей опытных в исторической критике. Эта комиссия выберет труп, убедится в том, что он действительно мертв, назначит зал, где будет произведен опыт, установит все необходимые предосторожности, чтобы не оставалось никаких сомнений. Если при таких условиях произойдет воскресение, то будет установлена вероятность его, почти равная несомненности. Но так как необходимое свойство опыта заключается в том, что он может быть повторяем, так как мы должны иметь возможность повторить то, что нами раз сделано, и так как в понятие о чуде не входит вопрос о том, что трудно и что легко, то чудотворца пригласят повторить его чудесное деяние при других условиях, над другими трупами, в другой обстановке. Если чудо будет каждый раз удаваться, то будут доказаны две вещи: во-первых, что в мире случаются сверхъестественные факты и, во-вторых, что способность совершать их принадлежит или может быть передаваема известным лицам. Но кто же не знает, что при таких условиях никогда не происходило чудес, что до сих пор всякий раз чудотворец сам выбирал предмет для опыта, обстановку, публику, что, кроме того, чаще всего сам народ, вследствие присущей ему непреодолимой потребности видеть в великих событиях, в великих деяниях нечто божественное, создает легенды о чудесах задним числом? Итак, пока состояние наших знаний не изменится, мы будем придерживаться того принципа исторической критики, что рассказ о сверхъестественном не может быть принят как таковой, что он всегда указывает на легковерие или обман, что обязанность историка истолковать его и открыть, какова в нем доля правды и какова доля заблуждения.
Таковы правила, которым я следовал при составлении настоящего труда. К чтению текстов я имел возможность присоединить важный источник для освещения фактов – личное посещение тех мест, где происходили события. Научная миссия, имевшая задачей исследование древней Финикии и находившаяся в 1860 и 1861 гг. под моим руководством, дала мне случай поселиться на границах Галилеи и часто по ней путешествовать. Я изъездил всю евангельскую область вдоль и поперек; побывал в Иерусалиме, на Хевроне, в Самарии; я не пропустил ни одной местности, сколько-нибудь имевшей значение для истории Иисуса. Таким образом вся эта история, которая на пространстве веков как бы висит в облаках невещественного мира, получила в моих глазах плоть, такую реальность, что это меня изумило. Поразительная согласованность текстов с местностью, чудесная гармония евангельского идеала с пейзажем, послужившим для него рамкой, были для меня истинным откровением. У меня перед глазами явилось пятое Евангелие, отрывочное, но все же доступное для чтения, и с той поры сквозь повествования Матфея и Марка мне представлялось уже не отвлеченное существо, о котором можно сказать, что такого никогда не было на свете, а дивный образ человека, который живет, движется. Летом, будучи вынужден переселиться в Газир, в Ливанских горах, чтобы немного отдохнуть, я беглыми чертами запечатлел образ, который предстал передо мной, и результатом этого явился мой труд. Когда жестокое испытание ускорило мой отъезд отсюда, мне оставалось лишь проредактировать несколько страниц. Таким образом, эта книга была написана очень близко от тех мест, где родился Иисус. Со времени моего возвращения оттуда[126] я беспрестанно пополнял и проверял в подробностях те наброски, которые спешно писал в маронитской хижине, имея при себе лишь пять-шесть книг для справок.








