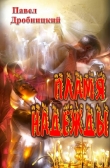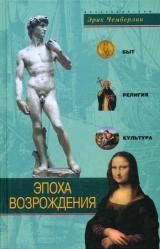
Текст книги "Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура"
Автор книги: Эрик Чемберлин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Домашняя жизнь
Дома, придающие сегодня старинным городам Европы средневековый колорит, почти всегда принадлежат купцам. Это солидные здания, вид которых должен был демонстрировать богатство и надежность своих владельцев, а потому пережить их. Исчезают в веках хижины бедняков, дворец богача становится музеем или муниципалитетом, а дом купца часто остается просто домом. Владелец им гордился: это было наглядное свидетельство его успеха. Художники, писавшие его портрет в роскошной одежде, изображали на заднем плане детали обстановки с той же тщательностью, что и черты его лица. И вовсе не случайно, что большинство интерьеров принадлежат домам северных купцов. Даже итальянцы, привыкшие к расточительной роскоши дворов своих государей, признавали, что их собратья по профессии жили как принцы, богатея на доходах портов вдоль побережья Атлантики и Балтики. И точно так же, как, покровительствуя художникам, искали себе славы и бессмертия принцы, жаждали этого купцы… даже если по иронии судьбы дома переживали забытые имена хозяев.
Здания обычно строили двухэтажными. Хотя в больших городах или там, где земля слишком дорого стоила, они могли вознестись на три или более этажа. Главная дверь – мощный заслон, окованный железом, снабженный массивным замком и засовами с цепями.
Такая дверь способна была выдержать и выдерживала при необходимости прямую атаку. Каждый человек старался защитить себя и свое имущество. Дверь открывалась сразу в главную комнату, а внутренность дома – видно с первого взгляда – представляла собой единый зал, разделенный на более мелкие помещения деревянными перегородками. Тут не было никакой возможности, да и нужды в личном уединении, какой-то частной жизни. Комнаты примыкали непосредственно друг к другу, – съедающий пространство коридор можно было использовать лишь в очень больших зданиях. Спальня одновременно служила гостиной, это было общепринято, а члены семьи или даже гости небрежно ходили вокруг постели, пустой или занятой. В богатых домах кровать была массивным сооружением, почти маленькой комнатой. Вошедшее в общее употребление в XVI веке ложе с балдахином стало существенным шагом вперед по сравнению с громоздкими и высокими, открытыми со всех сторон кроватями прежних дней (см. рис. 35).

Рис. 35. Комната первого этажа с кроватью под балдахином
Ложе со всех сторон скрывали занавески, не только защищавшие людей от сквозняков, но и дававшие им некоторую долю уединения. Под ним обычно держали кровать меньшего размера, которую выдвигали на ночь для ребенка или слуги.
Другие комнаты первого этажа также играли двойную роль. Отдельная столовая появилась много позже и лишь в домах богачей. И готовили, и подавали еду в одной и той же комнате (см. рис. 36).

Рис. 36. Часть главной комнаты в доме семьи среднего достатка. С гравюры Альбрехта Дюрера. 1503 г.

Рис. 37. Столовая. Гравюра по дереву Ганса Сакса
Простота трапезы сохранялась до конца XVI столетия. В день ели дважды: обедали в 10 часов утра и ужинали в 5 часов вечера. Количество столовой посуды и приборов было ограниченно. Одни и те же тарелка, нож и ложка использовались для всех перемен блюд. Стекло было редкостью, обычно пили из кружек и кубков из металла. В середине XVI века появился питьевой шоколад, а чуть позже кофе и чай, но прошло много времени, прежде чем они проникли в нижние слои общества. Общепринятыми напитками для женщин и мужчин всех возрастов и классов были эль и легкое вино. Галлон в день считался разумным количеством выпитого, и пили их скорее по необходимости, чем по желанию. В городах, как и на кораблях, найти хорошую чистую воду было почти невозможно.

Рис. 38. Кухня с закрытой кухонной плитой
Главным источником тепла был открытый огонь, на нем же стряпали. В очаге мог встать в полный рост мужчина. Горящие поленья лежали на железных подставах, форма которых не менялась на протяжении двух столетий. Изобретение дымохода где-то к концу XIII века стало, наверное, самым большим достижением домашнего прогресса в Европе, так как позволило даже бедным семьям готовить еду дома, не прибегая к услугам общих булочных. Особым вкладом эпохи Возрождения в домашнее хозяйство было создание закрытой кухонной плиты (см. рис. 38). Ее придумали в Германии, а затем она распространилась по всему континенту, принеся в дома средство сохранения тепла, то есть экономного расходования топлива. Внутри домов было темновато. Стекло для окон стали использовать уже с начала XIII века, но даже в XVI стеклодувы не шли дальше производства небольших мутноватых пластин. Чтобы застеклить ими большие оконные проемы, их требовалось вставить в свинцовые полосы, что создавало красивые узоры, но уменьшало поток проходящего света. Однако даже при таком ограничении север Европы обгонял юг. В Италии долгие месяцы прекрасной погоды делали ненужными дорогие большие и плоские стекла. Оконные проемы закрывали ставнями, часто затягивали богатыми тканями. Зимой в дом проникало очень мало света, потому что надо было либо терпеть холод, либо запирать ставни. На севере полы обычно покрывали раскиданным тростником. Это делалось на протяжении столетий. Он был дешев, хорошо впитывал влагу, служил грубой теплоизоляцией, и… в нем отлично разводились всякие паразиты. Несмотря на всеобщее пренебрежение гигиеной, большинство домов могло похвастаться баней, точнее, лоханью для мытья (см. фото 9), которую обычно ставили в спальне. Часто ею пользовались два человека одновременно, чтобы сберечь горячую воду. Единственным доступным топливом в большинстве городов были дрова. Средневековая привычка мыться в общественных банях совершенно вышла из обихода, видимо из-за боязни заразы. Домовладелец поэтому должен был сам заботиться о своей бане и дровах для ее нагрева, что в большинстве городов оказывалось дорогим удовольствием.

Рис. 39. Жилая комната богатой семьи. Деталь картины Ван Эйка «Святая Варвара»

Рис. 40. Резной «кассон» из Флоренции, XV в.
По современным понятиям домашняя обстановка кажется очень скудной, однако в отличие от предыдущих веков появилась специализированная изысканная мебель. Вместо простых столов типа «доски на козлах» и скамеек стали делать тяжелые вычурные резные столы и раздельные стулья, часто обитые кожей. Простой сундук стал главным предметом меблировки. В отсутствие объемистых чуланов или стенных шкафов, понадобились стоячие, свободно перемещаемые шкафы-контейнеры для одежды, белья и даже посуды. Они занимали много места в комнатах, и естественно, что их внешнему виду придавали большое значение. Эти шкафы украшали богатой резьбой, особенно в Германии и Англии, в Италии их расписывали. Замечательными произведениями эпохи Возрождения являются «кассоны»-сундуки, которые брала с собой невеста в качестве приданого (см. рис. 40).
Вычурно украшенные необходимые предметы и гордо выставляемые напоказ бесполезные были показателем нового богатства, захлестнувшего общество. После обеспечения жизни самым необходимым оставалось достаточно денег для баловства, расточительного потребления, ставшего знамением народившегося торгашеского общества. Средневековый домовладелец поневоле довольствовался ракой в качестве единственного украшения дома. Его потомок разбрасывал по комнатам множество разнообразных привлекательных дорогих безделушек. Покрывавшие стены гобелены были не просто дороги, но имели практическую ценность. Однако кувшины и вазы из драгоценных металлов, парочка зеркал, стенные тарелки и медальоны, тяжелые, роскошно переплетенные книги на резных столах… все это должно было демонстрировать миру, что хозяину дома удалось направить в свой карман часть европейского золотого потока.
Глава 4
Простолюдины
Годы, завершившие Средневековье и положившие начало эпохе Возрождения, были отмечены яростными, хоть и безнадежными восстаниями низших сословий, выбросами из стоячих гнилых глубин, замаскированных блеском высшего общества. По всей Европе старый порядок разваливался под натиском нового. Тот же самый дух, что открывал Новый Свет, бросал вызов папству, разоблачал прошлое, тянулся во вселенную, чтобы приблизить звезды, пробудился и бурлил в низших слоях общества. Однако там он превращался в горечь и мятеж. Слишком маленький ручеек золота находил дорогу вниз. Богатый купец от души наслаждался новыми деликатесами (клубникой, абрикосами, смородиной), а бедняку приходилось вдвое дороже платить за пшеницу, которая оставалась его главной пищей. Духовную и политическую власть папства можно было разрушить, но при этом также гибли бесчисленные благотворительные учреждения, облегчавшие жизнь беднякам, то есть тем членам общества, которым закон вовсе не спешил помогать. По мере того как ломалась старая социальная иерархия, зависть овладевала умами: раньше бедняк лишь издали любовался жизнью своих духовных и земных властителей, а нынче его сосед мог в одночасье стать богачом. Мир вдруг переполнился людьми, которые щеголяли в шелках и атласе, приобретенных за счет бедных.
Узнать имена этих великих и могущественных было проще простого, потому что о них трубили повсеместно. У них были свои биографы, портретисты, их великолепные одежды можно было видеть на их изображениях, всюду высились их дворцы, их имена входили в историю. А простой человек оставался лишь частичкой фона, на котором двигались эти сверкающие фигуры. Он – солдат армии победителей или побежденных, один из мятежников голодной толпы, один из тысяч жертв чумы. Он тот, кого мельком упомянут в связи с победой или смертью какого-нибудь великого человека. Лишь горстка писателей пыталась вытащить его на передний план. Чосер в Англии, Саккетти в Италии относились к немногим авторам, понимавшим важность его роли и давшим свинопасу, моряку, коробейнику литературное бессмертие, обычно приберегаемое для принцев. За исключением этих немногих, простолюдина можно увидеть лишь глазами тех, кто поставлен над ним, то есть как единичку в записях сборщиков королевских налогов или в списке получающих плату у хозяина. О нем пишут гражданские власти, пытающиеся контролировать, как ему одеваться, наказывающие его за провинности и преступления, а иногда дающие ему пищу и одежду. Он косноязычен и, по сути, беззащитен, кроме тех кратких вспышек корпоративной ярости, когда он и тысячи его сотоварищей вдребезги разносят свой собственный город. Его жалкие пожитки гибнут вместе с ним. Дешевая одежда, напоминающая мешок, скоро преет, жалкий дом рушится, или его сносят, и никто не берет на себя труд оставить запись о том, что однокомнатная хибара на грязной окраине исчезла с лица земли. Таким образом, чтобы обнаружить простолюдина, необходимо выследить его через организацию общества вокруг него.
Городской работник
Самая низшая социальная организация, в которой можно обнаружить какой-то разумный порядок, – это гильдия, система, возросшая на прямодушии старого общества, которое начал медленно разъедать новый индустриализм. Каждый мастер когда-то был подмастерьем. Каждый подмастерье мог надеяться стать мастером. Каждая гильдия была эксклюзивной, то есть существовала для работников определенного рода занятий – пекарей, кожевенников, скорняков, золотых дел мастеров, – защищая их от нападок и вмешательства со стороны и поддерживая строгий порядок внутри гильдии. Эта система была столь могущественной, что члена гильдии, нарушившего закон, призывали держать ответ перед мэром в Собрание гильдий, а не ко двору монарха. Гильдии долго и упорно боролись за свои права. Они не поддерживали нелепых идей насчет свободы торговли и ремесел, но самым своим существованием создавали и утверждали монополии, ревниво оберегая для своих право на производство и продажу конкретных товаров. Прием подмастерьев тщательно контролировали. Ведь если число членов любой гильдии перерастало возможности местности их прокормить, то падали доходы всех членов гильдии. Сын полноправного горожанина всегда мог рассчитывать на прием в гильдию, иногда даже без платы за обучение, а дети неполноправных горожан должны были заплатить за обучение и принимались в гильдию, только когда появлялась вакансия.
Ограничение числа подмастерьев требовалось не только для того, чтобы обеспечить стабильный, пусть ограниченный приток мастеров, но и ради гарантии того, что мастер не возьмет больше учеников, чем сумеет проконтролировать. Гильдии прекрасно сознавали, что ценой за их монополию была обязанность соблюдать высочайшее качество изделий. Таким образом, институт подмастерьев был средством тщательного обучения человека всем секретам ремесла (см. рис. 41).

Рис. 41. Подмастерье изготовителя упряжи за работой
Для пылкого юноши ученичество было периодом нудным и тяжким. Контракт не имел права разорвать ни он, ни мастер. Во время обучения он не получал никакой платы, а длиться оно могло до двенадцати лет. Он находился всецело под властью мастера. Со своей стороны мастер принимал юношу в дом, обеспечивал всем необходимым, наказывал, когда требовалось, и в конце срока выплачивал ему оговоренную сумму. По завершении обучения юноша становился наемником, то есть ремесленником, работающим по найму. Он волен был работать на тех, кому нравились его изделия. Формально наемник был поденщиком, то есть его нанимали на день, откуда и пошло это прозвание. Некоторые ремесла требовали долгого процесса работы (например, ткачество) (см. рис. 45). Тогда его нанимали на нужный срок – будь то неделя или год. Обычно поденщики, ищущие работу, собирались в каком-то публичном месте в определенное время. Такая практика больше напоминала рынок рабов, чем найм свободных людей, но она же защищала работников. Соглашение между хозяином и работником заключалось под зорким оком других ремесленников, и это гарантировало, что никому не заплатят жалованье меньше минимума. Мастера также одобряли эту практику, потому что она предотвращала найм по дешевке, что позволило бы такому мастеру-хитрецу продавать изделия по цене более низкой, чем у соперников. Рабочий день длился буквально день (с 5 утра и до 8 вечера) в период с марта по сентябрь и с восхода до заката зимой. Около 9 часов утра людям обычно давали полчаса на завтрак и полтора часа на обед после полудня. Поденщик мог всю жизнь оставаться таким «почасовиком» и часто так и поступал. Однако ему была открыта дорога и в мастера. Для этого он должен был выдержать экзамен и представить свой «шедевр», то есть изготовленное им изделие, которое удовлетворяло бы суровым требованиям экзаменаторов (см. рис. 42).

Рис. 42. Каменщик-поденщик и плотник держат экзамен для вступления в гильдию перед гильдейским старшиной
Сегодня слово «шедевр» обозначает высокохудожественную работу, но этому определению отвечают и безукоризненно исполненное в соответствии с требованиями ремесла изделие кожевенника, и четкая правильная разделка туши мясником. Удовлетворив экзаменаторов, поденщик мог открыть собственную лавку и завести своих подмастерьев и поденщиков. Иногда он продолжал работать бок о бок с нанятыми работниками. Однако известно, что многие богатые мастера удалялись от дел, оставаясь просто главными ремесленниками, маленькими независимыми хозяевами, с двумя-тремя наемниками. Они-то и производили большую часть нужных для цивилизации товаров.
Эта система начала разрушаться в XVI веке. Ее ослабляло изнутри близорукое себялюбие ремесленников-мастеров. Вступление поденщиков в гильдию зависело от них, поэтому было очень просто порадеть любимому племяннику, сыну или родичу друга. Для него экзамен был пустой формальностью, в то время как для других он становился все более и более суровым испытанием. Число людей, принужденных оставаться поденщиками, возрастало, формируя и предвосхищая рабочий класс XIX и ХХ веков. Французское правительство, больше других стремившееся держать под контролем все детали жизни работников, предпринимало некоторые усилия, чтобы остановить этот процесс. Было предписано, чтобы изготовление образцового изделия занимало не более трех месяцев и поденщик мог апеллировать к жюри, назначаемому судьей. Однако по мере того как процесс изготовления товаров усложнялся, а производства разрастались, простому человеку становилось все труднее находить начальный капитал для открытия своего дела. Сами гильдии теряли независимость, так что мастера-драпировщики становились служащими ткачей, а печатники оказывались зависимы от книгопродавцев. Маленькие гильдии боролись, упрямо сопротивляясь разделению труда, являющемуся основой современной промышленности. Некоторые сознавали необходимость объединения взаимосвязанных ремесел и позволяли своим членам быть одновременно и членами других гильдий. Однако изготовление шедевра по-прежнему оставалось финальным испытанием, и претендент на звание мастера должен был осуществить все стадии работы. «Будущему шляпнику предоставляли фунт шерсти и другое сырье, и он должен был предъявить в конце законченную шляпу, окрашенную и отделанную бархатом. Он должен был все сделать сам: от валяния сукна до прикрепления перьев к готовому изделию».

Рис. 43. Первая стадия производства шерсти: стрижка овец

Рис. 44. Следующая стадия производства шерсти: прядение. Осуществлялось в домашних условиях
Становилось очевидным, что такой метод работы – лишняя трата времени и материалов, а конечный товар получается гораздо дороже, чем нужно. В огромном шерстяном производстве давно это поняли и подали пример, за которым последовали другие. Шерсть была общепринятым материалом. Во всех странах, у всех сословий шерстяные вещи составляли большую часть гардероба. Это давало стабильную занятость тысячам людей, от пастуха, ухаживающего за овцами, до портного, который шил одежду. Но природа этого материала была такова, что невозможно было одному человеку лично контролировать все процессы от начала и до конца. Портной зависел от ткача, ткач от прядильщика (см. рис. 44), прядильщик от стригаля (см. рис. 43), и на каждой стадии были еще вспомогательные процессы, из которых самым важным было крашение.
В конце Средних веков одним из крупнейших центров производства шерстяных тканей была Флоренция, там эту отрасль делили между собой две гильдии: Арте-делла-Лана и Калимала. Первая производила ткань, а вторая делала завершающую обработку перед продажей. С течением времени Арте-делла-Лана преобразилась в гильдию маклеров, прочесывающих весь континент в поисках сырья и нанимавших сотни работников для производства ткани-сырца, причем большинство из них работало на дому. Калимала красила шерсть – дорогая и тонкая операция, в которой флорентийцы достигли необычайного искусства. Потребность в их продукции не иссякала до конца XV столетия, когда в игру вступила окрепшая шерстоткацкая промышленность Англии. А до тех пор именно на работе Калималы строились великие флорентийские состояния.

Рис. 45. Производство шерстяных тканей: ткачество. Эта стадия производства сформировала одну из трех главных гильдий шерстяной промышленности
Три основные элемента производства шерсти – ткачество (см. рис. 45), сукноваляние и крашение – были организованы в гильдии ремесленников, но такие простые подготовительные операции с сырцовой шерстью, как, например, чесание и прядение, можно было делать на дому, на временной основе. Да и трудно было бы организовать их иначе. Сырцовая шерсть после стрижки, естественно, попадала в руки жены крестьянина. Первоначально она пряла шерсть для своих нужд, но потребность росла, увеличивалось соответственно поступление шерсти, и подготовка шерсти к ткачеству стала своеобразным домашним промыслом. Это устраивало крестьянина, потому что позволяло немного заработать, и было удобно богачам, державшим в кулаке производство шерсти. Их накладные расходы становились ниже, и, в отсутствие организованной рабочей силы, они могли платить за это сколько хотят. Однако такое положение дел совершенно не удовлетворяло городских рабочих, видевших, что их тщательно продуманная устоявшаяся система соглашений, соотносившая цену товара с платой за труд, подрывается, не говоря уже о том, что они лишаются работы. Их протесты часто принимали форму физического насилия, когда отряды городских работников совершали набеги на окружающие деревни, разбивали чаны для краски, рвали ткани и пытались всячески запугать своих соперников. Но крестьянам были нужны деньги, портным ткани, и некогда гордые гильдии вынуждены были склониться перед неизбежным. Некоторые сохраняли независимость, но главным образом за счет своих коллег. Большинство работников превратилось в поденщиков, которых стало слишком много, чтобы торговаться с хозяевами, так что им тоже пришлось принять те расценки, которые платили богатые мастера.
У системы гильдий было множество недостатков. Более богатые гильдии властвовали над более бедными и даже норовили не допускать их в органы муниципального управления. В итальянских городах трения между гильдиями длились постоянно, перерастая из простого соперничества в кровавые схватки, причем более крупные прилагали все усилия, чтобы их положение оставалось неизменным. В целом гильдии процветали в городах богатых, а города бедные и сельские местности ими игнорировались. Они как само собой разумеющееся осуществляли контроль над своими членами, причем в таких формах, к которым нынешние, даже самые тиранические, профсоюзы не рискнули бы прибегнуть и в чрезвычайных ситуациях. И все же, со всеми своими недостатками, они поддерживали сплоченность общества, а когда они исчезли, разверзлась пропасть между немногими и многими, между нанимателем и нанимаемым. В Европе появился новый класс: бездомные, безземельные, безработные бродяги (см. рис. 46), «крепкие нищие», которые при иных обстоятельствах были бы крепкими работниками.

Рис. 46. Бродяги. Из «Корабля дураков» Баркли. 1509 г.
Они объявились в большом количестве на севере, особенно в Англии. Причин было несколько. Истребление монастырей не только разрушило прибежища истинных бедняков (а также лентяев), но и отняло источник дохода у громадного числа людей. Эти огромные структуры были крупнее многих примыкающих и работающих на них деревень, и ведение хозяйства в них поглощало существенную часть имеющейся рабочей силы. Но самую большую долю составляли жертвы новых с размахом проводившихся в жизнь способов производства, что в сельской местности выражалось в «огораживании», то есть отъеме, общественных земель. Крестьяне, согнанные с места, принужденные стать поденщиками (если для них вообще находилась какая-то работа), повторяли судьбу униженных, опустившихся городских ремесленников. Власти, то ли игнорируя истинные причины, то ли не понимая их, обращались с крепкими нищими словно с преступниками. Некоторую заботу о них проявляли, но делали это, из принципа, таким отвратительным образом, что человек предпочитал бродяжить и голодать, а то и превращался в настоящего преступника.
Сам интеллектуальный дух Ренессанса стал трагической причиной деградации простого работника. Раньше образование, пусть не слишком обширное, было доступным для всех классов. То есть существовало, по крайней мере, равенство в невежестве. Новые методы образования потребовали специализации: в основе ее лежали греческий и латынь, а целью стало глубокое изучение давно умершей цивилизации. Ни один рабочий не мог и надеяться прикоснуться даже к краешку этого прекрасного нового мира воспарившего разума.
«Лишь люди благородного происхождения могут обрести совершенство. Бедняки, те, кто работает руками и не имеет времени развивать свой ум, не способны на это». Так объявил Лоренцо ди Медичи, великий покровитель искусств. Утверждение грубое и точное, выражающее отношение верхов к низам. Впрочем, бывали исключения. Люди выдающегося таланта, будь то художники или купцы, могли подняться в верхние слои общества, но, перейдя черту, они полностью отделялись от своих корней и тем лишь поддерживали социальный разрыв. Художник становился выше ремесленника, хотя ранее они находились в одном ранге. Прославившиеся во всей Европе живописцы, скульпторы и архитекторы вышли из тех же скромных мастерских, где учились ремеслу маляры и каменщики. Но если одних привечали принцы, то другие уходили глубже во мрак безвестности, их умения и знания становились все уже, а жизнь скуднее. Платой за красоту памятников эпохи Возрождения оказалось тоскливое убожество промышленных городов XIX века. Художнику по-прежнему приходилось быть и хорошим ремесленником, но ремесленнику не было нужды оставаться художником, а ведь именно он в конечном итоге построил эти каменные трущобы промышленных городов и произвел всю их обстановку.