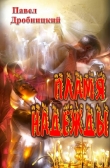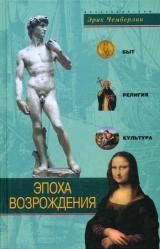
Текст книги "Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура"
Автор книги: Эрик Чемберлин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Корабли
Человек, побудивший мореходов к первым великим путешествиям современной истории, был, по сути дела, последним крестоносцем. Принц Португальский, Генрих, прозванный Мореплавателем, родился в 1394 году и умер в 1460-м. Когда ему исполнился 21 год, он был назначен губернатором Сеуты, крепости напротив Гибралтара, которую португальцы отбили у мавров в 1415 году. До него дошли слухи, что великие богатства можно добыть в дебрях Африки, а также вдоль ее западного побережья… золото, слоновую кость и рабов. Хватило бы отваги и решимости. Кроме того, дух его воспламеняла мысль превзойти мавров, величайших врагов христианского мира. А еще он мечтал о сближении и союзе с пресвитером Иоанном, легендарным (или мифическим) христианским правителем Востока. Этот Иоанн был королем, настолько великим, что презрел обычный титул короля и называл себя просто «священником» – пресвитером Иоанном. В подданных своих он насчитывал семьдесят два монарха, на войну мог выставить более миллиона человек, а в мирное время во владениях его царили покой и благоденствие. Перед роскошным его дворцом висело чудесное зеркало, в котором он мог наблюдать все, что происходит на просторах его огромного королевства. Легенды о его существовании будоражили умы европейцев с того момента, когда на пороге Европы появились и постучали в ворота мусульмане. Когда-нибудь, обещала легенда, этот великий христианский правитель восстанет в тылу магометанских орд и сметет их в море. О расположении его державы толковали разное, но большинство сходилось во мнении, что она находится в Эфиопии, удивительной стране черных христиан, более древней, чем Рим. Ни Генриху Мореплавателю, ни кому другому не посчастливилось найти пресвитера Иоанна, однако поиски его породили мощную волну исследовательских путешествий. Генрих даже основал специальный колледж в своем замке Сагрес в Португалии, где гостеприимно принимали всех, кто мог пролить свет на вопрос о возможности кругосветных путешествий. Моряки и астрономы, купцы и математики, а также кораблестроители – словом, каждый, кто был способен внести какой-то вклад в решение этой проблемы, находил приют в этом доме мореходных знаний.
Однако, хотя именно португальские корабли первыми прошли на юг вдоль африканского побережья и, обогнув Африку, открыли новый мир, жажда новых земель не ограничивалась одной нацией. Знания, добытые немногими, становились достоянием всех, и то, что разведали португальцы, быстро стало известно всей Европе. Несмотря на побуждавшее их национальное соперничество, открытия морских путешественников стали использоваться в международной практике: генуэзец Колумб, тщетно пытавшийся увлечь своими мечтаниями королей Англии и Португалии, стал в конце концов испанским вице-королем. К тому времени, как испанские монархи щедро позволили ему командовать тремя кораблями, мореплаватели уже обошли африканский материк и проникли далеко в Атлантику. (В 1415 году были вновь открыты Канарские острова, а в 1445-м – Азоры.) Существует большая вероятность того, что по крайней мере один корабль ненамеренно пересек Атлантику и вернулся в Европу: судя по планам Колумба, ему было известно о существовании земли, расположенной между 3 и 4 тысячами миль к западу от Европы (см. рис. 6). Да, где-то на западе лежал Восток, и, чтобы его достичь, нужно было лишь отважное сердце и крепкий корабль. Отваги у Колумба хватало, да и корабли были под рукой.

Рис. 6. Колумб высаживается на Багамах

Рис. 7. Корабль полной оснастки
Удивительная особенность Возрождения – как вовремя совершались открытия. Они возникали именно в тот момент, когда в них возникала необходимость. Возможно, викинги открыли Америку на несколько столетий раньше, но это открытие не имело практического значения, так как нельзя было поддерживать регулярное сообщение между континентами. Даже в XIV веке самые умелые и энергичные мореходы могли лишь мечтать о возможностях, которые давало пересечение Атлантики, потому что их корабли мало годились для этой цели. Создание корабля полной оснастки между 1400-м и 1450 годами стало событием революционным, почти таким же, как изобретение парового двигателя в XIX столетии. Корабль полной оснастки представлял собой дитя двух традиций. Говоря обобщенно, Средиземноморье подарило ему корпус, а оснастку – Атлантика (см. рис. 7). Средиземноморские традиции кораблестроения были почти на 3 тысячи лет старше традиций, пришедших с Атлантического побережья Европы, и на протяжении большей части этого периода упор делался на продвижение корабля с помощью весел. Римляне использовали огромную и вольную силу ветра для своих торговых кораблей, но военным судном оставалась галера. Ее маневренность и независимость от ветра, наряду с возможностью развивать на коротких дистанциях большую скорость, привела к тому, что галеры использовали очень долго, даже после изобретения корабля полной оснастки.
Битва при Лепанто (1571 г.) стала последним настоящим боем между галерами, однако этот высокоспециализированный военный корабль находился во многих флотах вплоть до конца XVI столетия, а кое-где задержался даже до XVIII. Галеры также использовали для транспортировки драгоценных грузов малого объема, но это обходилось очень дорого: по самой приблизительной оценке, на одного человека приходилась тонна перевозимого груза. Соображения экономии были несущественны для военных, но имели первостепенную важность для путешественников-исследователей. Количество провизии, необходимое, скажем, для питания двухсот человек на протяжении многих недель, делало галеру непрактичным судном для атлантических плаваний, более долгих, чем те, что предпринимали викинги на своих «длинных ладьях».
Судам, создаваемым на севере, не хватало элегантной чистоты линий южных кораблей, ведь их предназначение заключалось главным образом в том, чтобы противостоять бурям и холодным ветрам северных морей. Они были приземистыми и крепкими, с квадратным парусом, укрепленным на единственной мачте. А на Средиземном море сохранял свои позиции треугольный («латинский») парус. Огромный треугольный кусок холста позволял держать курс судна круто к ветру, но, чтобы манипулировать им, требовалось много матросов. Латинский парус продолжали использовать на более быстрых кораблях, но для тяжелых судов моряки юга стали применять северный квадратный парус. Незадолго до 1400 года повсеместно был принят и освоен руль. Он заменил единственное огромное длинное весло, почти неуправляемое в тяжелых соленых водах. Руль, подвешенный на петлях с рукояткой (румпель), требовал квадратной кормы, и только тогда на кораблях стали отличаться по форме нос и корма, что сохранилось и по сей день. Постепенно усовершенствования, пришедшие с севера и юга, слились в единый базовый тип судна: корабль с тремя или четырьмя мачтами и пятью или восемью парусами. Такая громадная площадь парусины обеспечивала невероятную мощь, но одновременно возникла проблема. Необходимо было, чтобы парус встречал ветер под нужным углом и раздувался до нужного объема. Для обеспечения этого простого требования нужна была сложная система управления и огромное разнообразие непонятных терминов: ванты, лини, реи, брам-стеньги, бизань и им подобные, характеризующие импровизационную природу развития парусного дела. Какой-нибудь моряк приспосабливал кусок веревки или парусины для одной конкретной цели. Приспособление работало удачно. Его использовали и дальше и давали ему название. Известны даты, когда различные названия переходили в общее употребление: они отмечают этапы создания корабельной оснастки. «Бизанью» называлась сначала ближайшая к корме мачта трехмачтового судна 1420 года, а в 1465 году этот термин уже относят к парусу. Термин «брам-стеньга» вошел в употребление в 1514 году. Точный перевод этого термина с английского языка (по-английски топ-галант) означает «отважный верхний», «потому что он отлично показал себя в сравнении с нижними верхними» (лоу топами). Термин «ванты» обозначает канаты, которые раскрепляли мачту к бортам, ослабляя ее напряжение. Его использовали со времени возникновения парусов. А вот термин «линь» (или «лини») для названия тросов, соединяющих эти канаты на кораблях полной оснастки и служащих лестницами, вошел в употребление только в 1481 году. Позднее, когда корабельная оснастка стала более точной наукой, корабли стали называть в соответствии с их оснащением. Однако в XV и XVI веках классификацию осуществляли по размеру и корпусу. Для оценки грузоподъемности судна использовалась единица веса «тонна», обычно в терминах вина, зерна, соли или нефти. Однако размер этой самой тонны менялся в зависимости от страны, так что моряки Испании, Венеции или Англии могли приписывать одному и тому же судну различный тоннаж.

Рис. 8. Каравелла. С предполагаемой модели каравеллы Колумба «Санта Мария»
По сути, то была эпоха экспериментов. Корабельщик мог изменить и усовершенствовать свой корабль. Если он был удачлив, другие следовали его примеру, и появлялся новый тип корабля. Поэтому, по всей вероятности, в то время существовало много классов судов всего по нескольку кораблей в каждом. Но к концу XV столетия из этой массы выделились два главных типа: каравелла и просто парусник. Каравелла (см. рис. 8) была вкладом португальцев в мореплавание, прямым потомком средиземноморских судов с латинским парусом.

Рис. 9. Галеон
В отличие от ранних северных кораблей полной оснастки, ширина которых достигала чуть ли не половины их длины, ширина каравеллы редко бывала больше ее четверти. У нее была лишь одна палуба или даже полпалубы, но, несмотря на относительную хрупкость каравелл, именно на них совершались самые длинные путешествия. На них исследовали побережья Африки. Два из трех кораблей первой экспедиции Колумба были каравеллами. Появившийся позднее корабль, нао, отличался высокой кормой и наличием носового кубрика, или «бака». Во времена Средневековья на кораблях практиковали постройку деревянных укреплений в носовой и кормовой частях, где размещали лучников. Поначалу их делали временными и потом разбирали, но позже они стали неотъемлемой частью корабля, и на караке, большом торговом судне грузоподъемностью тысяча тонн и выше, бак достигал очень больших размеров, семь или восемь палуб в высоту. Примерно в то же время, что и карака, появился военный корабль галеон. В первое время пушки на нем размещались в надстройках, но между 1500-м и 1514 годами их стали размещать ниже палубы, а стрельбу вели через специальные амбразуры. Так и оставалось до тех пор, пока военные парусники не ушли в историю. Галеон был меньше по размеру и более управляем, чем башнеобразная карака. У него исчезли всякие палубные надстройки, и корабль приобрел изящную смелую чистоту обводов (см. рис. 9).
Мореходы
Даже сегодня, несмотря на радиосвязь, находящийся в море корабль – это особый отдельный мир. А в дни великих морских путешествий его изолированность и ощущение общности усиливались малыми размерами судна и ограниченной величиной команды. Ранние корабли редко бывали больше 100 футов [4]4
Около 30,5 м.
[Закрыть]в длину, а численность команды колебалась от сорока до пятидесяти человек. Капитан тогда вовсе не был той богоподобной фигурой, наделенной абсолютной властью и авторитетом, какой стал позднее. Члены команды собирались вместе ради наживы, и капитан точно так же не знал, какие встретятся на пути опасности, как любой из них. Дисциплина на таком корабле, месяцами или даже годами бороздившем неизвестные воды в неизученных краях вдали от родных берегов, поддерживалась лишь общим согласием. Когда шторм настиг судно Колумба всего за несколько дней до окончания его первого триумфального плавания и грозил его потопить, адмирал приказал тянуть жребий. Вытянувший его обязан был при благополучном завершении плавания совершить паломничество к святым местам. Колумб и сам принял участие в жеребьевке, и помеченный боб достался ему. Он принес обет и доверился милости Божьей, но, действуя как осторожный мореход, поместил отчет о путешествии в деревянную бочку и бросил ее в море, чтобы она сохранила данные экспедиции, если они погибнут.
Выживание корабля напрямую зависело от согласия в команде, от чувства единения. Каждый член команды мог выполнить практически любую корабельную работу: починить паруса, соорудить руль, приготовить пищу, срастить канаты, даже спаять металлические детали. Постепенно, однако, появились узкие специалисты в морском деле, а именно: боцман, бондарь, конопатчик, стюард (эконом), плотник. Работа конопатчика была жизненно важна, она обеспечивала плотное соединение деревянных частей корабля и препятствовала проникновению воды внутрь. Для водонепроницаемости швов использовали паклю, то есть куски старых распущенных канатов. Их забивали в швы, где они разбухали от воды. Позднее изготовление пакли стало вменяться в обязанность обитателям тюрем и работных домов, но первоначально эту работу выполняли на борту корабля матросы в немногие свободные часы. На боцмане лежала ответственность за управление множеством канатов и парусов, потому что лавирование корабля требовало одновременной и слаженной работы многих рук, так что в конце концов боцман превратился в лицо, отвечающее за дисциплину. Бондарь занимался изготовлением бесчисленных бочек для хранения съестных припасов и воды, а стюард, кроме выполнения обязанностей буфетчика, стал отвечать за обучение молодых матросов-новичков и контроль над ними. У этих мальчиков (юнг) была одна очень важная обязанность: они каждые полчаса переворачивали песочные часы, сопровождая это действие ритуальными возгласами. От внимательности юнги многое зависело, потому что после того, как песочные часы переворачивали, нельзя было понять, вовремя ли это было сделано. Ленивый юнга мог пропустить несколько минут. Но даже очень ответственный мог перевернуть часы позже или раньше, и эта ошибка во времени постоянно накапливалась на протяжении всего плавания.

Рис. 10. Повседневные обязанности на корабле в море
Условия жизни на корабле были нестерпимыми даже в хорошую погоду. Первым условием комфорта, горячей пищей, приходилось жертвовать, едва погода портилась. Еду готовили на неглубоком металлическом подносе-жаровне. Его наполняли песком и укрепляли двумя или тремя кирпичами, чтобы не ездил, а затем разжигали на нем уголья. В плохую погоду готовить таким способом было невозможно, ведь прежние корабли не резали волны, как нынешние, а скользили по ним, повторяя все колыхания моря. Ни один капитан в здравом уме не позволит разводить открытый огонь на переваливающемся с боку на бок деревянном судне. Еда состояла из продуктов, которые можно было засолить или засушить: говядины или свинины, вымоченных в крепком рассоле (солонины), вяленой или соленой рыбы, сухих гороха и бобов. Основным блюдом было некое подобие тушенки из вышеперечисленных припасов, то есть трапеза, которую можно приготовить быстро и без отходов, притом заглушая дурной привкус старой воды. Вода оставалась постоянной проблемой, потому что ее хранили в дубовых бочках, и через несколько недель пить ее можно было лишь в случае крайней необходимости. Вдобавок приходилось везти большое количество вина или уксуса. Хлеб заменяли оладьи или пресные лепешки, испеченные в золе описанного самодельного очага. Фрукты и овощи кончались спустя несколько дней после выхода в море, неудивительно, что спутником долгих путешествий стала цинга, дававшая самую большую смертность. Неустанный тяжелый труд моряков делал их особенно уязвимыми. Многие часы или даже дни они пребывали на своем посту – высоко на снастях, в борьбе с мокрыми, хлопающими на ветру парусами, откачивая воду, удерживая руль… и все это под аккомпанемент буйной качки. Когда же они сменялись с вахты, не находилось никаких приспособлений для сушки одежды, кроме ветра. Спали они где придется. До начала XVI столетия на кораблях не было иллюминаторов, и поэтому большую часть времени команда проводила на верхней палубе. На некоторых судах были устроены койки, но большинство матросов спали на тюфяках, набитых соломой, и укрывались своей дневной одеждой. Наверное, величайшим подарком, который принесло простым морякам открытие Америки, стал гамак, подвесная кровать, изобретенная бразильскими индейцами. Гамак подвешивали в ограниченных пространствах, где нельзя было устроить постель, и бурное движение корабля он преображал в ритмичное покачивание. Для того чтобы выдерживать такие тяжелые условия, требовалось хорошее питание, и отсутствие его говорит о необычайной выносливости моряков, совершавших удивительные путешествия, открывшие нам мир. Однако какими бы железными они ни были, цинга косила их ужасающе. В экспедиции Магеллана от этой болезни погибли все, за исключением пятнадцати человек. «Корабль мертвецов» – не плод богатого воображения, а реальный ужас, с которым морякам приходилось сталкиваться не столь уж редко. Прошло более двухсот лет, прежде чем научились побеждать этот недуг.
Впрочем, несмотря на подобные условия, корабельщику никогда не приходилось мучиться с набором команды, если речь шла о путешествии в Новый Свет. Моряки встречали старых своих друзей и соседей, которые возвращались домой, бахвалясь богатым платьем, звеня кошельками золота, и рассказывали о лежащем за морями Эльдорадо. Там золотые самородки валяются на земле, как галька, там в достатке рабов, так что европейцу не нужно работать самому. Эта точка зрения настолько закрепилась в мозгах, что первые поселенцы на Карибах предпочитали жить впроголодь, дожидаясь кораблей с провизией из Испании, но не обрабатывать плодородную почву под ногами. Подобные настроения преобладали в течение всех фантастических лет завоевания и ограбления Центральной Америки, когда золото ацтеков и инков лилось, казалось, неиссякаемым потоком. Алчному человеку оставалось лишь записаться в какое-нибудь неудобоваримое путешествие, сойти с корабля на берег, где он наверняка станет принцем из принцев. Какая соблазнительная, кружащая голову приманка для нищего, голодного, но энергичного европейца!
Глава 2
Двор властителя
Государь
На самой вершине общества эпохи Возрождения стоял князь (принц), человек, который благодаря политической ловкости и праву престолонаследия управлял своими владениями единолично и абсолютно. Одним из любопытнейших противоречий эпохи, ставившей превыше всего свободу личности, было то, что все легко воспринимали идею единоличного правителя. Однако на то существовали веские основания. В Италии, где эта идея достигла самой отточенной и блестящей формы, такой правитель рождался в яростных и нескончаемых схватках между группировками горожан. Отчаявшись добиться мира иначе как под властью одного человека, города отбрасывали республиканские идеалы и добровольно передавали власть в руки какого-нибудь выдающегося гражданина. Теоретически эту власть давали как бы взаймы, а не насовсем, но, насладившись ею однажды, люди не спешили возвращать ее назад. Такое происходило в Европе повсюду, где не было сильной наследственной монархии, и по тем же причинам. Германия больше остальных напоминала Италию путаной и беспорядочной мозаикой мелких государств. Парадоксально, но Германия – родина императора, провозгласившего свою власть над всеми монархами, – не имела собственного короля. В Англии монарх и подданные существовали в некоем грубом равновесии, но не было никаких сомнений, кто подлинный властитель. Французская монархия была абсолютной, однако в правление злосчастного безумца, короля Карла VI, первый герцог Бургундии сумел в 1360 году провозгласить собственное государство, которое он и его потомки практически превратили в монархию, чуть не разрушив этим Францию. Жизнь герцогства Бургундского оказалась краткой, потому что после смерти самого сильного и яркого герцога, Карла Смелого, в 1477 году его вновь поглотила Франция, однако на протяжении почти сотни лет она была столь блистательной, что ее не могли затмить даже дворы итальянских принцев. Испанская нация формировалась крайне медленно, и в ту эпоху в стране сохранялись следы средневековой структуры отдельных королевств.
Теоретически «князем» или «принцем» можно было назвать любого правителя, властвуй он над тысячами или миллионами подданных, и именно в таком смысле используют в своих трудах этот титул Макиавелли и другие политические писатели [5]5
В переводах часто встречается слово «государь». (Примеч. пер.)
[Закрыть]. Однако принцы, внесшие наибольший вклад в развитие нового общества, были государями скорее малых, чем больших владений, и их общественное влияние далеко превышало их истинную власть. В конце концов их дворы оказались вытеснены с европейской сцены в процессе развития больших современных наций. Федериго да Монтефельтро, чей двор в Урбино служил образцом цивилизованного поведения на протяжении последующих трехсот лет, правил примерно ста пятьюдесятью душами. А число подданных, над которыми осуществляли прямой контроль Медичи, едва достигало четверти миллиона. Даже могущественные бургундские герцоги сохраняли свою независимость лишь благодаря царившему во Франции беспорядку. В предыдущие столетия большую часть энергии этих властителей забирала война, потому что ратные победы приносили не только славу – они означали выживание. Принц эпохи Возрождения должен был обладать не только и не столько мужеством и военным талантом, но замечательной ловкостью и тонким пониманием политики и финансов, так как война к тому времени перешла в руки профессионалов. Слава правителя больше, чем на воинских подвигах, зиждилась на культуре его двора, на покровительстве искусствам, на его способности беседовать с учеными людьми.
Наиболее выдающимися принцами Возрождения были ранние представители дома Медичи, правившие Флоренцией почти триста лет. Редко когда в истории один род оказывал такое влияние на целый континент. Это стало возможно благодаря их неимоверной щедрости и вкусу, позволившим им собрать в конце XV – начале XVI столетия в маленьком городке, Флоренции, группу людей, собственно и создавших Ренессанс – знаменитое Возрождение. Правление Медичи во Флоренции было неспокойным: трижды их изгоняли из города, трижды они возвращались, еще крепче хватая за глотку конституцию. Они много брали, но отдавали еще больше. Древняя республиканская история города при них закончилась, но под их властью город стал движущей силой Возрождения. Свое огромное богатство они расходовали на покровительство искусствам и наукам. За полвека они потратили более четырех миллионов фунтов не только украшая свои дворцы предметами искусства, но и развивая науку. Козимо ди Медичи, которому благодарный город присвоил имя «Отец отечества», проявил неслыханную щедрость в 1439 году, когда в городе собрался Совет Флоренции. Он принимал гостей города, множество приехавших важных сановников, папу римского, императора Византийской империи, патриарха Константинопольского. Конференция была призвана достичь действенного рабочего союза между Западной и Восточной церквями. Попытка оказалась тщетной, но за протекшие в работе пять месяцев для Европы было сделано, возможно, даже больше. В марте – июле 1439 года во Флоренции собрались ученейшие люди мира, и, кроме дебатов Совета, обнаружили там большую аудиторию горожан, жаждущих новых знаний и готовых впитывать новые идеи. Среди приезжих ученых преобладали греки, а греческий язык был ключом к утраченным в Европе наукам. Благодаря их влиянию Козимо основал Платоновскую академию, которую его потомки продолжали опекать и лелеять.
В 1444 году Козимо начал строительство первого из дворцов Медичи. Его сограждане флорентийцы протестовали, считая неподобающим и опасным, чтобы частное лицо возводило здание такого размаха. Они попытались лишить его власти, но Козимо устоял, хотя это оказалась не последняя буря, выпавшая на его долю. Позднее, когда Медичи стали законными, а не только фактическими правителями и приняли герцогский титул, они построили грандиозный дворец на другой стороне реки Арно, раскинувшееся на большой территории надменное строение, всем своим видом подчеркивающее высокий статус его хозяев. Но дворец Козимо, здание, где, можно сказать, родился Ренессанс, все же производит впечатление частного дома, потому что он встроен в ряд составляющих улицу домов (см. рис. 11).

Рис. 11. Дворец Медичи, Флоренция. Его строительство заняло 20 лет
Это был первый из дворцов Ренессанса, послуживший образцом для многих последующих. Власть Медичи далеко нельзя было назвать абсолютной, и дворец должен был исполнять еще обязанности замка-крепости, где семейство могло укрываться от гнева сограждан. Поэтому первый этаж очень массивен. Он выглядит грозно, а вот верхние этажи весьма элегантны. Большая входная дверь открывается во внутренний дворик, изящный, полный воздуха. В нем были поставлены статуи «Давид» и «Юдифь», заказанные Донателло еще во время постройки дворца. «Давид» стал работой такого уровня, какого в Европе не видели на протяжении последней тысячи лет, потому что был выполнен для обзора со всех сторон, «вкруговую». Эта статуя, так же как и дворец, создала прецедент, которому стали следовать в дальнейшем. «Юдифь, убивающая Олоферна» – любимый сюжет итальянских городов-государств, так как его можно было отнести к любому своему противнику. Спустя пятьдесят лет после постройки дворец Медичи был разграблен, а семейство изгнано из города. Статую эту перенесли в публичное место и снабдили надписью, предупреждающей «всех, кто посмеет установить тиранию над Флоренцией». Тем не менее Медичи вернулись.
В 1469 году Лоренцо ди Медичи стал главой семьи и государства. В то время ему было всего двадцать лет, и, хотя он был воспитан в ожидании ответственности, отчетливо понимал, какой груз предстояло ему нести. «На второй день после смерти моего отца главные люди города и государства пришли в наш дом, чтобы соболезновать нашей утрате и побудить меня взять на себя заботу о городе и государстве, как делали это мои отец и дед. Предложение их шло вразрез с инстинктами моего незрелого возраста, так что, считая тяготы и опасности чрезмерными, согласился я на него неохотно». Причиной согласия были резоны здравые и практичные, а именно финансовые, которые Медичи никогда не упускали из виду. «Сделал я это ради защиты наших друзей и имущества, потому что плохо приходится во Флоренции тому, кто обладает богатством, не участвуя в правительстве». Таким образом флорентийцы получили правителя, сочетавшего в себе лучшие качества того роскошного и разностороннего периода. Финансист и поэт, государственный деятель и ученый, экономист и стратег – казалось, не было такого рода деятельности, в котором он не смог бы преуспеть при желании. Непревзойденные дипломатические и военные таланты, с которыми он вел Флоренцию сквозь опаснейшие бури итальянской политики, в конечном итоге не оставили заметного следа, потому что Флоренция, как и вся Италия, оказалась под властью иностранцев. Но то, как он лелеял, опекал и направлял возрожденные искусства и науки, оказало длительное и заметное влияние на всю Европу. Его покровительство существенно облегчило огромное состояние семейства Медичи, но он смотрел на себя скорее как на хранителя богатства, а не его владельца. «Возможно, некоторые подумают, что более заманчиво держать хотя бы часть его в своем кошельке, но я предпочитаю потратить его к вящей пользе общества, и потому я вполне удовлетворен».

Рис. 12. Дипломатия в действии. Деталь картины Карпаччо «Святая Урсула»
Огромная библиотека, которую он собрал, стала первой настоящей публичной библиотекой в Европе, потому что была доступна всем. Он нанимал агентов, действовавших не только в Европе, но и на Востоке, с особой целью: разыскивать древние манускрипты. Один из таких ученых привез ему 200 греческих трудов, восемьдесят из которых ранее были совершенно неизвестны в Европе. Имена бесчисленных художников и скульпторов, которых он побуждал к работе, составляют почти полный каталог творцов Возрождения. Боттичелли, будучи на пять лет его старше, делил с ним детские годы в его доме, а потом на него работал. Леонардо да Винчи получил место при миланском дворе благодаря ему. Он предоставил пятнадцатилетнему Микеланджело жилье в своем дворце и дал ему ежемесячное содержание. Вероккио, Гирландайо, Филиппино Липпи – этот список можно было бы продолжать, пока он не включил бы в себя всех талантливых людей, работавших во Флоренции в краткий период жизни Лоренцо. Он умер в возрасте сорока трех лет, и другие Медичи продолжили его труды, но никто из них так и не сумел сравняться с разносторонностью Лоренцо Великолепного. Один из его потомков стал папой под именем Льва Х и внедрил заветные идеи Лоренцо в жизнь самого могущественного двора Европы.
Общество эпохи Возрождения, приняв поневоле единовластного государя, вовсе не воспринимало его как природное явление, которое следует терпеливо сносить или даже любить. Его правление и службы подвергали тщательному анализу, как никогда раньше, пытаясь объяснить их различие и функции и подготовить образцовую структуру политической машины, которой суждено было двигать Европой почти три сотни лет. В полном смысле этого слова машины, потому что она управляла всеми сторонами жизни людей, собранных в сообщества, определяя, как их будут судить, как станут они зарабатывать себе на хлеб, укреплять свои душу и тело, защищаться от внутренних и внешних врагов государства.

Рис. 13. Николо Макиавелли. С портрета работы Санти ди Тито
В первые годы XVI столетия свет увидели две книги, в которых принцев вместе с их дворами буквально поместили под микроскоп. Речь идет о сочинении «Государь» Николо Макиавелли (см. рис. 13) и «Придворный» Бальдассарре Кастильоне. Они появились с интервалом в четыре года, в 1528-м и 1532 годах соответственно, но оба были написаны за много лет до этого, причем совершенно независимо друг от друга, и стали свидетельством того, что явление «государя» привлекло внимание европейцев.
Намерением Макиавелли было рассмотреть подробно механизм государственного управления с точки зрения его эффективности. Мораль в расчет не принималась: если стратегия работала – очень хорошо, если она терпела поражение – плохо. Мало на свете авторов, о которых судили так резко и так неверно, как об этом флорентийском республиканце, создавшем классическое руководство по практической тирании. Между тем это все равно что обвинять врача, установившего и описавшего болезнь, в том, что он ее и придумал. Макиавелли прекрасно понимал, как можно истолковать его сочинение, и постарался изо всех сил подчеркнуть, что им представлена реальная картина, что, если государь является необходимой принадлежностью гражданской жизни, будет лучше, если он научится, как следует ему себя вести на этой самой опасной должности в мире. Он должен быть мудрым и добродетельным, но «поведение людей нынче настолько отличается от того, каким оно должно быть, что тот, кто отклоняется от общепринятого и старается вести себя так, как предписывает долг, непременно идет к собственной погибели». У каждого человека есть своя цена, можно доказать, что в корне любого, даже вроде бы бескорыстного поступка лежит личная заинтересованность. Государь должен держать свое слово, но в действительности лишь немногие удачливые люди так поступают. Что лучше для принца? Чтобы его любили или боялись? Это зависит от разных причин, отвечает Макиавелли. Обстоятельства влияют на положение дел, но в целом для правителя безопаснее, чтобы его боялись, потому что большинство людей переменчивы и робки и в час нужды покинут тех, кто оказывал им милости и не имеет другого основания на них рассчитывать, кроме благодарности за прошлое. Принц, как главнокомандующий, всегда должен внушать страх, ему нечего бояться упреков в жестокости, потому что это единственный способ держать в подчинении жестоких людей. Конечно, это желчный взгляд на мир. Макиавелли прекрасно знал, что люди способны умереть и действительно умирают из любви к отечеству. Но такая любовь предполагает свободу, а там, где свободы больше нет, побудительными причинами остается материальный интерес или страх.