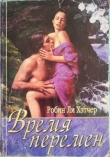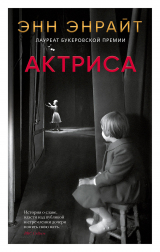
Текст книги "Актриса"
Автор книги: Энн Энрайт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Откуда ни возьмись рядом возникли две женщины. Одна накинулась на мужчину: «Отстань от ребенка!» – а вторая выдернула из-под нее карт: «А ну вылазь, да поживей!» Это были ее мать и мать мальчика. Зловещий спаситель страшно оскорбился, отцепил зонтик и зашагал дальше по улице. Владелец карта, мелкий гаденыш, отвесил ей пинка тяжеленным башмаком, подбитым стальными пластинами. Мать схватила ее под руку и потащила домой, приговаривая: «Никогда не разговаривай с незнакомцами, слышишь? Никогда!» Я так и не могла понять, о ком та история – о плохом мужчине или о плохой маленькой девочке. Уж не знаю, сколько раз я ее выслушала, прежде чем до меня дошло.
– Они не так говорили.
Она уставилась на меня. К этому времени для меня, уже подростка, должно быть, наступил период сомнений.
– Не с ирландским акцентом.
Она на миг задумалась. В глазах что-то мелькнуло, возможно, гнев. И изумление, как бывает с людьми, которых подводит память.
– Боже, а ведь верно.
Они говорили с лондонским акцентом. Она переписала свое детство и потеряла черновик.
Ее фальшивый ирландский акцент превратился в символ, а постепенно стал звучать почти обыденно. Мне трудно вспомнить, как именно она говорила, в смысле, к какой социальной группе и к какой точке на карте принадлежала. Даже дома – особенно дома – ее голос поражал роскошью. Как изысканное лакомство.
Когда я выросла, она, как мне кажется, говорила со стандартным для южного Дублина акцентом – как дикторы и врачи, – порой не брезгуя крепким словцом. Я помню, что, застигнутая врасплох (если падал стул или убегало молоко), она восклицала: «Твою ж!..» с явной примесью лондонского кокни.
Так что я в какой-то степени собралась вернуть это ее английское детство, которое она то ли потеряла, то ли отвергла. Я шла по обычной улице в Херн-Хилл и впитывала в себя все: красный почтовый ящик, поджидающий почтальона и его красный фургон, круглые янтарные фонари, пешеходную зебру и угловой магазин сладостей под вывеской «Мороженое Уолл». Все это она выбросила и меблировала свое детство заново: небольшой ирландский городок, полыхающее закатное небо, лоскут ткани, чтобы запеленать малую, и возглас соседки с крупными, шершавыми от вечной стирки руками: «Боже святый, Боже святый» (как иначе?) – и вот моя мать вваливается в этот мир. Вдыхает его воздух.
«Сцена сама выбрала меня».
Так она заработала свои первые аплодисменты.
* * *
Ее отец, Ментон Фицморис, родился в 1899 году. Он был сыном ирландского капитана Британской армии, служившего в городке Фермой, графство Корк, и местной жительницы по фамилии О’Брайен. Возможно, они не были женаты; впрочем, если это обстоятельство и имело значение, то недолго – капитан Джон Фицморис погиб во Второй англо-бурской войне, когда его сыну было два года.
Должно быть, что-то ему передалось от отца-военного. После учебы в небольших частных школах в Ирландии и Англии мальчик всю свою жизнь продолжал играть в солдатики.
В Ирландии он чувствовал себя аристократом, а вот в Англии ему было неуютно. Мой дед не вышел ростом, но в военной форме казался выше. Он мог с моноклем в глазу вести светские беседы со сливками общества, но в случае надобности мог и сыграть ирландца, особенно когда бывал в Лондоне. Ходил вихляющей походкой. Засовывал пальцы за лацканы жилета, выставлял локти и насвистывал: «Оп-ля-ля».
Фиц, как и многие актеры, был полукровкой, но сохранил материнскую веру и никогда от нее не отступал. Мой дед был католиком и относился к этому невероятно серьезно. Куда бы его ни занесло, в какой угодно город – Лондон, Нью-Йорк или Каслбар, – в воскресенье он непременно шел в церковь. Свою религиозность он лелеял, как сирота тайно лелеет свое дворянское происхождение.
Эта искренняя набожность играла всем на руку, когда Фиц колесил по Ирландии с передвижным театром, чем он занимался и на протяжении обеих мировых войн. Театральные труппы везли в глубинку Шекспира и мелодрамы, заставляя сердца простых ирландцев трепетать и преисполняться восторгом. Приехав в очередной город – впереди ведущие актеры в «королевской машине», за ними остальные в бибикающем грузовике, – они спешно собирали мало-мальски пригодный реквизит и мчались ставить декорации к вечернему спектаклю. Они играли по две пьесы в день и никогда не повторялись. «Отелло», «Трильби»[4]4
«Трильби» – роман английского писателя и художника Джорджа Дюморье (1894), по мотивам которого создано множество театральных постановок и кинофильмов. – Прим. ред.
[Закрыть], «Эдип»: ревность, инцест, кровь и страсть. Местное духовенство не жаловало бродячих артистов, тогда как они в основном рассчитывали на школы и приходские залы, а потому, едва разместившись, отправляли Фица на церковную службу. Снаряжали на молитву.
И он молился, комар носу не подточит. Тихо входил и со смиренным достоинством преклонял колени. На него, скромного на вид, в хорошо пошитом пальто, никто не обращал – или делал вид, что не обращает – внимания, ровно до той минуты, когда прихожане начинали петь. Тут уж он брал свое.
«Ве-е-ера на-ших отцо-о-ов, ве-ра свята-а-ая!» Редкой чистоты голос Фица был способен смутить и воодушевить каждого присутствующего, подпевающего невпопад. Послушав его, женщины лезли за шестипенсовиком, припрятанным на дне корзинки с вязанием, а то и за заветным шиллингом, дремавшим где-нибудь на комоде, чтобы купить билет на вечернее представление.
Его жена, Маргарет Оделл, была ему под стать – невысокая и хорошенькая, хотя ее красота казалась менее убедительной. По рассказам моей матери, она отличалась кротким нравом и говорила негромко, с едва заметным йоркширским акцентом. Я совсем ее не помню, хотя какое-то время она жила с нами, и впоследствии я часто спрашивала, какой она была. Моя мать отвечала: «Чудной», а на мою просьбу уточнить, чем конкретно, добавляла: «Просто чудной. Сама понимаешь».
На одной фотографии она держит меня, грудную, на руках. На ней блузка в мелкий темно-фиолетовый цветочек на темно-зеленом фоне; я вся в кудряшках и улыбаюсь патентованной улыбкой моей матери, говорящей: «Заберите меня отсюда».
Если не считать характерной для нее манеры наклонять, глядя в объектив, голову – примерно вот так, – я в принципе понятия не имею, каким человеком была моя бабушка. По какой-то причине память о ней у меня не сохранилась.
– Она была доброй?
– Разумеется.
Но как проявлялась ее доброта? Может, она кормила ее пирожными?
– Она любила шутить?
– Еще бы, – отвечала моя мать, обладавшая таким ядовитым чувством юмора, что лучше бы его и вовсе не было. – Она бывала весьма…
– Неприятной?
– Нет, что ты.
– Забавной?
– О да. Она умела… – Она слегка пожимала плечами – неопределенным беспечно-скорбным движением, означавшим «ну, в любом случае…» Судя по этой жестикуляции, моя бабушка походила на доброго по натуре и немного печального ребенка. Но я так и не разобралась, то ли это относилось к внешнему стилю ее поведения, то ли отражало суть ее характера. Вертящийся в руках зонтик от солнца, легкая походка. Томный вздох.
«Ну что ты, дурачок, нет».
Она играла доярок и брошенных возлюбленных. Критик писал, что ее Офелия «выглядит так, будто забыла снять ужин с плиты». На карточке из фотоателье, которую я обнаружила в сети, она стоит в кимоно и шляпе с кисточками, похожей на абажур из шанхайского борделя; губы застыли в нежной улыбке, обнажающей мелкие зубы.
Так и чудится, что в широком рукаве у нее спрятан нож и она просто старается делать вид, что все прекрасно. И в реальной жизни она, конечно, поддерживала эту видимость. Позже она в усыпанных блестками туфлях с загнутыми вверх носами пела в мюзиклах Гилберта и Салливана – пышногрудая женщина, одетая мальчиком-китайцем. Я бы должна была помнить ее молочно-белую грудь в низком декольте. Она умерла, когда мне было пять.
И все же я спрашивала: «Какой она была?» Какой она была, ныла и ныла я. Какой она была?
– Чудной, – с печалью в голосе отвечала мать. И не факт, что мне удастся доказать обратное.
Правда, никаких пирожных я не помню.
Зато помню деда. Помню, как забиралась к нему на колени и через две минуты, ерзая, сползала на пол; помню, что он меня обожал. Я понимала это по тому, как дрожала у него рука, когда он лез в кармашек для часов за монеткой или вставал на четвереньки и бодал меня своей стариковской головой. Есть маленькая акварель Тисдалла, который приятельствовал с моей матерью. Несколько лет назад она появилась на выставке в Дублине, в Национальной галерее на Меррион-сквер. Непринужденный изящный набросок: мой дед сидит с закрытыми глазами на солнце, а я использую его как кресло – превосходное место для чтения.
Я по-прежнему натыкаюсь на него в телевизоре – днем в воскресенье или, если ночую в гостинице, поздно ночью, когда щелкаю пультом, чтобы убежать от «магазинов на диване». Ошалевшая от смены часовых поясов или от усталости, я нахожу британский фильм 1950-х и жду, что на экране вот-вот появится Фиц – обычно в военной форме. Он играет грубовато-добродушного старика-генерала или полковника Королевских военно-воздушных сил, дымящего трубкой и вычеркивающего на грифельной доске подбитые противником самолеты. Трус и лжец, он принимает неверное решение и с довольным видом исчезает из кадра. Возможно, во всем был виноват его рот. Фиц говорил как обманщик, и создавалось впечатление, что этого требует роль, но он точно так же говорит во всех своих фильмах.
Даже тогда, в расцвете лет, он преподносил миру свою красоту, словно непрошеный дар, но все никак не решался с ним расстаться.
Некоторые актеры из тех фильмов по-настоящему сражались за Британию. Но не Фиц. Сентябрьский день 1939 года, когда объявили о начале войны, застал его в Туаме, на сцене. К концу октября мебель из их лондонского дома отправилась на склад, а жена и дочь перебрались к нему, в мирную Ирландию. Кэтрин записали в ирландскую школу в аббатстве Кайлмор, в графстве Голуэй, где она и провела следующие пять лет.
Образование Кэтрин получила, мягко говоря, беспорядочное. Череда начальных школ в Хаммерсмите и Ноттинг-Хилле. Один год она училась в школе святой Терезы – католическом пансионе в Суррее, еще какое-то время посещала театральную школу Де-Леон в Гринвиче. А в одиннадцать лет ее вдруг привезли в замок у озера, на западной окраине Ирландии. Школа в Кайлморе словно сошла с коробки печенья. С горы позади школы открывался вид на дикие просторы Коннемары, раскинувшиеся под бескрайним, овеваемом всеми ветрами ирландским небом. Укрытый стенами монастыря, внизу зеленел оазис; здесь, между зарослями папоротников и душистых трав, по расчерченным на квадраты аллеям муравьями ползали, бормоча молитвы, монахини. В этой суровой школе дочь бродячих актеров, юная Кэтрин Энн, обрела тихую гавань, и к шестнадцати годам стала любимицей монашек.
Каждое лето она ездила с театром на гастроли.
В одной из наиболее часто повторяющихся историй она приезжала в безымянный городишко в ирландской глубинке, где ее никто даже не встретил. Куда идти, она понятия не имела. Ей было тогда двенадцать лет. Именно в этом образе я неизменно представляю себе ее в детстве: девочка на перроне с коричневым чемоданом, как у детей-беженцев, из которого впоследствии, если верить кино, появятся бесчисленные цветастые платьица, кардиганы, плащи, соломенные шляпки и галоши. Она держит чемодан обеими руками, а вагоны постепенно пустеют. Выходят женщина с кудахчущей курицей под мышкой, старик с белой глиняной трубкой в зубах, влюбленная пара… И вот – никого.
По лязгающим железным ступенькам девочка поднимается на пешеходный мост, останавливается и окидывает взглядом округу. С одной стороны железнодорожных путей раскинулось лоскутное одеяло небольших полей, окаймляемое рекой, дальше, за мерцанием воды, простираются бескрайние топи. Земля скудна, но выглядит щедрой: на фоне шоколадных пашен золотится дрок, расползается по невысоким холмам бурый, отсвечивающий пурпуром терновник.
По другую сторону моста виднеются крыши ирландского провинциального городка: солома, гофрированное железо и черный шифер, под дождем превращающийся в синий. Она поворачивает к крышам и спускается по металлическим ступенькам. Проходит сквозь вокзальную арку и замирает, провожая взглядом запряженную лошадью громыхающую повозку. Никто ее так и не встретил. В канаве копошится пес. Слышится пыхтение мотора, ее обгоняет фургон бакалейщика. И вновь тишина.
Девочка озирается и замечает на вокзальной стене афишу. Она подходит поближе, поднимает честное юное личико и читает:
Только сегодня
Величайший ирландский актер
Энью Макмастер
в роли Отелло
со своей великолепной труппой:
Ментон Фицморис в роли Яго
очаровательная Плезанс Макмастер
Лилиан Маквей и другие.
Обещаем незабываемое зрелище.
В зале Содружества
в 8 вечера
Соль истории не в том, что она потерялась в Ирландии, а в том, что в Ирландии потеряться невозможно. Потому что вот они, ее родители, на первой попавшейся стене. Их всегда было легко найти.
Энью Макмастер, труппу которого представляла афиша, был английским актером и администратором в классическом понимании этого слова. Он верил в магию темных бархатных штор, расшитых стеклярусом. Музыка, трепет, поэзия, слезы. Мак отдавался этому целиком, или почти целиком (актеров, которым приходилось мучительно зубрить роль, он не жаловал), и собирал вокруг себя сильных партнеров, особенно ценя тех, кто был заметно ниже его. Сам Мак был внушительного роста.
Фиц ростом как раз не вышел, так что они идеально подошли друг другу. Показав себя умелым актером и приятным компаньоном, он на много сезонов стал второй скрипкой в труппе и закадычным другом Мака. Мой дед относился к числу артистов, влюбленных в дорогу, поскольку и в жизни предпочитал плыть по воле волн. Его глаза, глядевшие мягко, но чуть насмешливо, одни называли «водянистыми», другие «прозрачными», а кто-то и вовсе удостоил их эпитета «молящие». Порой он вел себя глуповато. Сатирическая колонка некого Ликурга, опубликованная в «Даблин Опинион» в 1945 году, сообщает, что «Фицборис» настолько бахвалится собственной внешностью, что «постоянно лезет к самому краю рампы», что в Бойле, графство Роскоммон, обернулось катастрофой: он «по-крабьи пробирался вперед, пока не свалился в оркестровую яму».
В той же заметке набросан портрет Макмастера (выведенного под именем «Макнамары») в расцвете сил.
Макнамара играет Мавра: черное лоснящееся лицо, обнаженный торс, мощное предплечье, украшенное золотым браслетом, стареющие чресла, стянутые поясом из позолоченной жести, в ухе – серьга, глаза мечут яростные молнии. Когда он швыряет юную Дездемону на пол с грозным: «Молилась ли ты на ночь?», от его руки у бедняжки на белой коже остается черная отметина, похожая на кровоподтек. Какой-то впечатлительный болван пытается прорваться на сцену, но взбудораженная толпа его оттаскивает; возле рампы шумят горлопаны, в задних рядах дрожат от избытка чувств матроны и старые девы. «Позор!» – кричит кто-то, и этот крик эхом подхватывают остальные: «Позор, позор!» Вдруг наступает тишина. Ее разрывает одинокий вопль, когда тело бедняжки обмякает под подушкой, которой изверг зажимает ее несчастное милое личико. «Помилуй нас, Боже и пресвятая Богородица».
В ролях Отелло, Шейлока и Свенгали партнершей Макмастера – Дездемоной, Порцией и Трильби – была родная дочь. Не выдающаяся актриса, Плезанс вполне годилась на эти роли: светлокожая блондинка с красиво очерченными скулами, она принадлежала к числу тех девушек, которые на первый взгляд кажутся заурядными, а в следующее мгновение ослепляют красотой. Мак называл ее своей «маленькой саксонкой». Она нравилась ему с распущенными волосами, в зеленом средневековом наряде, когда играла с гирляндой из цветов или натягивала лук. На самом деле она была славной девушкой. В лучшей своей ипостаси – добрая и обидчивая, в худшей – плаксивая и бесхарактерная.
Моя мать очень любила Плезанс, которая была на год старше ее и очень тепло к ней относилась. Иногда девушки жили вместе в доме, который Мак снимал в пригороде Дублина, на полуострове Хоут-Хед, и более чем вероятно, что в той пресловутой сцене на вокзале ее сопровождала Плезанс. Удивительно, что они вообще приехали в нужный город. В 1940 году, к примеру, труппа давала представления в Баллине, Слайго, Туаме, Баллишанноне, Дандолке, Маллингаре, Атлоне, Клонмеле, Клохджордане, Лимерике, Бандоне, Шарлевиле, в оперном театре Корка и Королевском театре в Уотерфорде и Дублине. Они играли три шекспировские пьесы («Гамлета», «Отелло» и «Венецианского купца») и три мелодрамы («Маленького лорда Фаунтлероя», «Ракитовую аллею» и «Трильби»).
Пьесу «Трильби», действие которой происходит в Париже, поставили вскоре после того, как этот город заняли нацисты, что звучало актуально, но не в лучшем смысле. В веселом сюжете, возможно, нашел отражение некоторый хитрый ход Ирландии, объявившей о своем нейтралитете. Мак играл Свенгали. Накладная борода, фальшивый горбатый нос, сверкающие глаза – персонаж вышел еще более антисемитским, чем его же Шейлок. Конечно, в то время никто не знал, кто победит в чертовой войне. Не исключено, что артисты прикидывали разные варианты, в любой момент готовые переметнуться на другую сторону.
Тем не менее, пока шла война, в Ирландии жилось совсем не плохо. В деревне можно было купить свежие продукты, хотя из-за дефицита бензина Маку с женой пришлось отказаться от королевского автомобиля и вместе с актрисами передвигаться в кузове грузовика. Доски, с которыми было неимоверно трудно, доставали через городского гробовщика и по окончании гастролей продавали ему же (как это поэтично, говорил Фиц, быть закопанным в столь живописном гробу). Нормальное жалованье не платили, все жили на паях. Фиц с женой, Маргарет Оделл, получали меньше четырех фунтов в неделю каждый, и считалось большой удачей, если их дочери перепадало два фунта.
Она продавала билеты, помогала с реквизитом и даже выходила на сцену: играла служанок, гонцов, разнообразных мальчишек. Кэтрин Оделл приносила пользу – другого выбора у нее не было. Актеру нужен реквизит – она приносит реквизит. Нужно подать реплику – она подает реплику. В «Царе Эдипе» она в роли его дочери, с несчастным видом шаркая ногами, шла смотреть, как отец, которого играл Мак, шатается и утирает кровь из пронзенного глаза. Она рано научилась искусству «остолбенело таращиться», потому что ничего иного от актеров-детей или служанок на сцене не требовалось: знай себе роняй поднос.
Давай. Как будто видишь что-то ужасное.
– Не ДЕРГАЙ ЛИЦОМ! – приказывал Мак. – Роняй поднос.
– Но у меня нет никакого подноса, мистер Макмастер.
– Вот именно, дорогуша. О чем я и толкую.
Иногда посреди представления Мак выходил из роли и поправлял покосившиеся декорации или в конце длинной сцены («Только в провинции, милочка») отвешивал поклон, позволяя публике выразить свое восхищение. Он любил оголять торс, демонстрируя пульсацию диафрагмы, заключенной в массивную грудную клетку и работающей во всю мощь легких. Мак считал, что ирландцы особенно чувствительны к устному слову и не столько произносил каждую реплику, сколько вибрировал вместе с ней, переходя на выдохе с баса-профундо на баритон. Он прекрасно владел этой техникой и умел использовать ее в быстром темпе. Выдавались недели, когда у Мака ничего не получалось, и он сам недоумевал, что идет не так, но потом наступал триумфальный вечер, когда вся труппа толпилась в кулисах, чтобы посмотреть на его блистательную игру. Фица, выходившего на сцену с ним вместе, он «изумлял», актеров «поражал», публику «покорял». По рассказам моей матери, происходило взаимопроникновение актера и персонажа. И оба сгорали дотла.
– Это было незабываемо.
Вздохнув, она добавляла:
– Теперь так давно не играют.
Эти летние каникулы были самым счастливым временем в жизни Кэтрин. Она никогда не уставала о нем говорить. Прелесть новых дорог, переезд с одной убогой квартирки на другую. Выйдешь ночью по нужде и увидишь быка, привязанного к кольцу в стене. В графстве Голуэй они спали втроем в одной большой кровати, с одной стороны от нее – мать, с другой – Лилиан Маквей, все в длинных хлопковых ночных сорочках. Потом она узнала, что когда-то Лилиан потеряла новорожденную дочь – выживи та, была бы ее ровесницей. Именно это она и чувствовала, просыпаясь наутро в теплой постели, – утраченную недостижимую любовь.
Маку нравились зрители в провинции, потому что они понятия не имели, чем заканчивается пьеса («Тряхни-ка ее хорошенько!» – крикнула одна женщина в Баллишанноне, когда Ромео нашел в гробнице бездыханное тело Джульетты). Но моей матери и в голову не приходило потешаться над простодушием публики где-нибудь в Сент-Джонс-холле в Трали или в ангаре лодочной станции в Каппокуине – она самозабвенно верила в благородство зрителя. С годами она начала даже завидовать им, потому что они видели эти великие произведения впервые. Ирландская публика похожа на море, говорила она, ее внимание засасывает тебя, как водоворотом. Эти люди принимают все.
Они уезжали из Слайго и уже сидели в кабине грузовика, когда им передали записку. Посланец вынырнул из-за стены ливня с листком бумаги в руках. Записку прислала приютившая их хозяйка. Развернув ее, мать Кэтрин прочитала: «Погода ужасная. Ради бога, берегите себя». Вот что значило играть в ирландской глубинке.
Кэтрин было всего тринадцать, когда дочь Мака Плезанс однажды заболела скарлатиной, и Кэтрин пришлось за три часа выучить роль Трильби О’Ферралл, ирландской гризетки, натурщицы, которая под гипнозом Свенгали превращается в великую певицу (хотя, пробудившись от транса, она не в состоянии спеть ни ноты).
Выучить текст было нетрудно – она много раз видела пьесу. Так же легко было изобразить транс, но играть очнувшуюся Трильби оказалось непросто. Матери никак не давалась бесхитростная сердечность, заложенная в характере героини.
– Просто упри руки в боки и немного покрути задом, – посоветовал Мак.
Помог костюм. Она нарисовала себе брови, наложила на веки голубые тени, собрала волосы в два пучка, нарумянила щеки и похлопала по ним пальцами. Посмотрела на себя в зеркало и совсем пала духом. Играть простушек – не для нее.
И вот час настал. Кэтрин тряслась за кулисами, зал понемногу заполнялся зрителями. В занавесе была специально проделана дырочка, малая прореха в темном полотнище, позволяющая взглянуть на публику, но Кэтрин и не подумала приподняться на цыпочки, чтобы узнать, много ли народу. И без того было ясно, что много – по сгустившейся духоте, по тому, как глохли звуки. Пахло телами, привыкшими к крестьянскому труду. То тут, то там кто-то покашливал, шуршали бумажные пакеты, в которых люди передавали друг другу леденцы. И как минимум одна любительница комментировать происходящее на сцене сообщала своей соседке:
– Сейчас ей достанется!
В зале всегда находится такой зритель.
И в первом ряду всегда сидит какой-нибудь странный тип, потому что странным типам нравится сидеть поближе, где лучше видно. Собственно, почему бы и нет? Таких называют «помоги нам, боже», но вреда от них никакого. Просто надо привыкнуть к тому, что на сцене тебе ничего не грозит. Публика тебя не тронет, никогда в жизни. Зрителям нравится сидеть в темноте, позабыв, кто они такие. Все дело в интриге: они не столько смотрят, сколько ждут, что будет дальше. Именно это имел в виду Мак, говоря, что «главное – это пьеса». От провала убережет представляемая история.
Что случилось после спектакля?
Много чего.
Хотя на самом деле ничего. Какой-то мужчина помахал ей шляпой, а какая-то восхищенная женщина от избытка чувств пожала ей руку. Еще кто-то узнал ее на улице.
Она стояла за кулисами в городской ратуше Баллинасло и чувствовала всех этих людей, рассевшихся на обшарпанных стульях: в третьем ряду пьяный, в глубине зала священник, вот молодая влюбленная девица, вот старик, вспоминающий о любви, а вот мать, во власти внезапно пробудившихся сожалений забывшая о своих детях.
Пьеса, если смотреть со стороны, вроде бы не имела с ней ничего общего. Она смотрела ее, как смотришь на приближающийся поезд, гадая, остановится ли он на дальнем перроне, пока вдруг не поймешь, что он мчится прямо на тебя. От него никуда не деться. Придется в него вскочить – столкновение запрограммировано и неизбежно. Пьеса оживала. Ее ткали из воздуха, но по железным законам. Это было чудо. И когда оно свершалось, она тоже становилась Чудом и Дорогушей.
Ведь даже если она забывала реплику, стоило открыть рот, и та сама слетала с губ. Словно у нее в мозгу возникала, открываясь и закрываясь в нужное время, некая брешь, заполняемая произносимыми ею словами. И каждый раз выяснялось, что следовало произнести именно эти слова. В будущем все должно было происходить, как было отрепетировано в прошлом, только лучше. По-настоящему.
Но пока собственные руки казались ей несоразмерно большими, и она не знала, держать их перед собой или оставить висеть вдоль бедер. Она то подбирала подол юбки, то вновь отпускала, остро ощущая в тесноте кулис границы своего тела – кончик носа, выступающие губы. Они пересохли, пришлось их облизать. Она чувствовала в зале, всего в нескольких шагах от себя, пока невидимое темное предвкушение. Услышала сигнальную реплику, подхватила юбки.
И вышла на сцену.
Она не понимала, как это получилось. Как она переставляла ноги, одну за другой, как повернулась и заговорила, что сказала и что ответили другие актеры. Дело могло обернуться чем угодно. Но обернулось успехом. Каким-никаким, но успехом. Она не помнила, что делала, но, судя по всему, играла превосходно. Это и правда было чудо.
После этого ее подруга Плезанс попыталась окончательно передать эту роль Кэтрин. Плезанс было четырнадцать, и она была сыта по горло неловкими сценами с отцом. Но Мак отказался менять свою Трильби на другую и терять трогательную белокурую Дездемону. Вместо этого он попробовал Кэтрин в роли Порции и научил ее декламировать шекспировские строки.
Он закрывал глаза и, пока она говорила, с трепетом впускал их в себя. Затем открывал глаза и улыбался.
Ей приходилось переодеваться в мальчика, одной рукой держаться за лацкан, а другой жестикулировать, говорить, размахивать листом бумаги, прятать под широкополую шляпу длинные каштановые волосы. Грудь у нее еще не оформилась, так что скрывать было нечего.
Неужели ей не было страшно?
Я часто задавала ей этот вопрос.
Меня все это ужасало. Даже выражения, которые она употребляла, рассказывая, как кто-то «помер» на сцене или превратился в «хладный труп». Множество историй о накладках: актер вышел без меча и сражался ботинком. Актер забыл слова. Или штаны. Актер упал в яму. Выпил чай с мыльной водой. И он играл дальше, этот актер без штанов, или без парика, или без реплики, или без меча, как герой, как дурак, ни на мгновение не умолкая, знай шпарил свою роль.
Актера по-настоящему ранили в ненастоящей драке, и публика взревела и взорвалась аплодисментами. Или актер – хуже не придумаешь – вышел на сцену пьяным. В Боррайсокене один актер умер на сцене, правда умер; закатил глаза и прошептал, что умирает, а остальные продолжили играть, пока не потеряли веру в себя: бормотали свои реплики, но никто не двинулся с места. Наконец, они бросились к умирающему, чтобы заслонить от зрителей реальную смерть.
Но в основном ничего подобного не случалось. В основном все шло хорошо.
Как бы часто она ни выходила на сцену, привыкнуть к мгновению, когда оказывалась в свете рампы, не могла – прямо за этой линией ее ждал спектакль. С жестикуляцией и декламацией, с потоком слов. Здесь проявлялась ее истинная личность, ее судьба – пространство, в которое она вступала или позволяла ему проникнуть в себя. И так каждый раз. Или почти каждый.
– Тебе не было страшно?
– Ужасно страшно.
– Правда?
Но она никогда не раскрывала своих секретов.
Быть милой хорошо, говорила она, но надо еще быть умной. И тихой. Как театральная мышка. Ты же слышала про мышку? Она питается гримом. На ночь сворачивается клубочком и спит в пышном парике, грызет трос, которым поднимают занавес, знает слова всех пьес. Мышку звали Джозефина, и в более поздних версиях истории она умела петь. Поющая мышка Джозефина составляла моей матери компанию во всех холодных гримерках всех городков, которые она объездила девочкой. Джозефина сидела на репетициях, как я сейчас, и иногда пищала из-под сцены, подсказывая слова. Когда спектакль кончался и публика расходилась, Джозефина пела свою песенку. Надо сказать, остальные мыши считали, что она малость зазналась, но восхищались ее талантом, поразительным для мыши.
Кэтрин Энн Фицморис знала, что ничего лучше этого нет и быть не может. Великие пьесы, великие постановки, порой оборачивавшиеся провалом. Все держалось только на вере (Баллина, Слайго, Туам, Баллишаннон, Дандолк, Маллингар, Клонмел и Атлон), скрепленной картоном, гримом и паникой. Плохая акустика, плохие корсеты и туфли не по размеру. И колымага, на которой они ночь за ночью колесили под деревенской ирландской луной.
* * *
На второе лето к труппе Макмастера присоединился молодой Бойд О’Нилл, тот самый, в которого спустя сорок лет она выстрелит. Не то чтобы они обратили друг на друга особое внимание. Ей было четырнадцать, и она по-прежнему играла гонцов и служанок. Он в свои двадцать пять только-только основал актерскую труппу «Клундара», позднее ставшую инициатором проведения одного из крупнейших в стране фестивалей любительских театров. Еще в те далекие годы он работал школьным учителем, иногда писал стихи, охотно говорил на гэльском языке и носил значок общества трезвости «Пионер».
Очевидно, Мак взял его без жалованья – он любил так делать – и, наверное, это вызвало недовольство остальных актеров. Они гордились своей работой: пели, декламировали, падали на задницу с такой самоотдачей, будто от этого зависела их жизнь, и все максимум за четыре фунта в неделю. После лета Бойда ждала работа, поэтому в финансовом, а возможно и в творческом отношении он напоминал хорошо одетого человека в комнате, заполненной голыми людьми. Трудно сказать, кто в подобных обстоятельствах чувствует себя глупее.
Когда я думала о Бойде – а после выстрела я без конца о нем думала, – то вспоминала, что долгие годы многие друзья моей матери отзывались о нем с пренебрежением. По словам Снелла, в нем было что-то «линялое». Лилиан Маквейл говорила, что он стеснительный.
Он не брал в рот ни капли спиртного.
И он не умел играть. Из всех упреков этот всегда казался мне самым смехотворным. Да среди этих актеров было полно тех, кто не умел играть, и никого это не останавливало. Полагаю, подразумевалось, что ему не удавалось раскрепоститься.