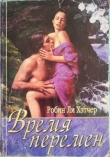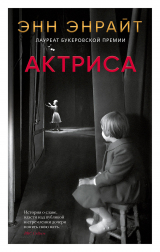
Текст книги "Актриса"
Автор книги: Энн Энрайт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
В утро ее приезда я осмотрелась и сочла, что живу вполне сносно. Поправила фотографии на стенах, протерла плинтуса. Подготовилась к обвинениям, которые мне, вероятнее всего, будут предъявлены. Или не будут. Иногда тебя ни в чем не обвиняют. Ничего из тебя не вытягивают, не пытаются выковырять тебя из скорлупы твоего самодовольства. Не подвергают твои слова сомнению (зачем тратить лишнюю энергию), ведут вроде бы обычный разговор, что-то записывают и уходят. А потом публикуют чудовищный бред. Как будто дают тебе понять: в следующий раз не расслабляйся.
Но, знаете ли. Не всегда.
Холли Девейн появилась у меня на пороге ветреным и холодным весенним днем. Машину она не поставила, а скорее бросила возле соседнего дома. Совсем ребенок, подумалось мне: темное двубортное пальто, вязаная шапочка, шарф, облачко светлых волос. Двадцать минут спустя она уже рассказывала мне, что мужчины ее «не то чтобы интересуют». «Не то чтобы да, но и не сказать, что нет». По ее словам, она их (мужчин) любила и иногда ходила с ними (с мужчинами) на свидания, но это не вписывалось в узкие рамки привычного гетеросексуального поведения.
Понятия не имею, каким образом разговор о моей матери свернул в это русло, да еще так быстро. В камине горели дрова, во френч-прессе настаивался кофе, поднос с овсяным печеньем, по виду и не догадаешься, что покупным, ждал наготове. Холли подвинула табуретку и положила на нее маленькую плоскую видеокамеру (или это был ее телефон?), направленную на меня под наименее выигрышным углом, чтобы записать все, что она намеревалась из меня вытянуть. Камера включилась не с первой попытки. Но сама Холли произвела на меня прекрасное впечатление: добрая, умная, пышущая энтузиазмом. Из нее получилась бы превосходная учительница английского. Она много чего знала. Работала над диссертацией, посвященной моей матери. Сердце у меня чуть дрогнуло – появилась надежда, что о Кэтрин О’Делл в кои-то веки напишут что-то стоящее. Я, стараясь не подавать виду, внимательно разглядывала эту девочку: ладная, энергичная, интеллектуалка – из тех, чей блестящий ум порой граничит с глупостью. Молодая.
Ученой степени Холли пока не получила, но рассчитывала со временем превратить свою диссертацию в книгу. Услышав слово «книга», я подвинула к ней блюдо с печеньем, но она отказалась и задала первый вопрос. Потом второй. Я ответила: «А, вы про это. Знаете, это было просто…» Минут через двадцать или около того (после ее реплики о гетеронормативности) я догадалась, что «Кэтрин О’Делл», как это обычно и происходило, занимает ее прежде всего в связи с ней самой, «Холли Девейн», главным образом в связи с ее неприятием гетеронормативности, что бы это ни означало: Адам и Ева, Эдем и сорок тысяч лет последовавших затем мерзостей.
– Какой она была матерью?
– Ну какой, – сказала я. – Она была моей матерью.
Как многие другие до нее, девчонка старательно вынюхивала, не было ли со стороны матери намека на жестокое обращение, нарциссизм, отсутствие заботы; разочаровать ее не составило мне труда. Годы практики, как-никак, и не только общение с журналистами – за моей матерью закрепилась репутация человека, тесно дружившего с геями особого ирландского разлива. Но Холли подошла к делу по-новому. Ее интересовало, как моя мать понимала собственную женственность, подразумевая под этим стиль сексуального поведения, то есть то, на чем я меньше всего хотела бы останавливаться.
– Она спала с мужчинами, – сказала я.
Внезапно я задумалась, зачем вообще впустила в свой дом эту девчонку. Я вновь оказалась в ловушке чужого любопытства, куда меня заманило одиночество, – свое или матери – чувство, которое рождается в тебе, когда стоишь на краю могилы. Мать давно умерла. А я даже сейчас бы все отдала, лишь бы вернуть ее назад из могильного холода.
Эти рвущие сердце мысли отвлекли меня от Холли Девейн, которая теперь рассказывала, что моя мать интересует ее не как зеркальное отражение ее самой, а как деятель (она многозначительно подчеркнула это слово интонацией). Она хотела создать ее в высшей степени субъективный портрет, подразумевая под этим стремление лишить Кэтрин О’Делл ореола иконы и показать ее как живого человека. Совершающего поступки.
– Стреляющего в людей, – уточнила я.
– Да. И это тоже. – Она на мгновение умокла.
Я подумала, что теперь Холли спросит о политике. В середине семидесятых моей матери нравилось тусоваться с членами ИРА в Нью-Йорке и Бостоне, но в основном (я так и порывалась сообщить об этом Холли Девейн) в гетеронормативном смысле. Ее волновали не перестрелки или терроризм, хотя именно они вызвали в Дублине скандал. Точнее говоря, не скандал, а «недовольство». Одно дело петь для ностальгирующих американских ирландцев песни протеста, и совсем другое – попасть в травматологию в Белфасте с простреленным коленом или осколочным ранением – тут уж не до ностальгии. У большинства романтика быстро выветривается, но моя мать, несмотря ни на что, продолжала верить в Объединенную Ирландию.
Я набрала в грудь воздуха, чтобы объяснить все это Холли Девейн, но объяснять пришлось бы слишком многое.
– Думаю, они просто пользовались ее известностью в своих целях, – сказала я.
Холли непонимающе моргнула. Она была слишком молода, чтобы помнить Смуту, и не интересовалась Северной Ирландией. Ее не занимала даже проблема ИРА. Вместо этого, немного помявшись, она задала-таки вопрос, который сегодня стал почти обязательным.
– Простите, что спрашиваю, но мне кажется… Возможно, это важно. Вы никогда не думали, что в детстве она подвергалась насилию?
– Нет, никогда, – ответила я. – Правда, никогда. Хорошо, что вы об этом спросили.
В конце концов я от нее отвязалась. Теплые слова у порога. Обещания, которых я не собиралась выполнять. Желание толкнуть ее в спину на пути к калитке и, в самый последний момент, желание крикнуть что-то вдогонку. А потом, четыре часа спустя – борьба с собой, после того как ты сказал, что эту чертову книгу должна написать я сама.
После ужина мы сидели на кухне. Солнце клонилось к закату, пробиваясь внутрь сквозь растения на подоконнике возле раковины; у меня росли перец чили в желтой жестяной банке и кориандр из супермаркета. В какой-то момент окно за ними вспыхнуло серебристой пеленой пыли и въевшейся грязи, так что стало не видно улицы.
Настроение у меня было паршивое.
– Почему бы тебе самой не написать эту книгу? – спросил ты.
Довольно противным, позволю себе уточнить, тоном. Не голосом терпеливого многострадального мужа писательницы. Нет. В твоих словах звучало безграничное раздражение, словно ты приравнивал мою неспособность написать эту книгу к моей же неспособности загрузить посудомоечную машину, чем ты вместо меня как раз и занимался.
Я доедала последнее овсяное печенье, рассуждая об удивительной молодости Холли Девейн, заставившей нас обоих почувствовать себя стариками. Я не сунула тарелки в машину потому, что скорбь по матери на некоторое время лишила меня возможности заниматься домашними делами, а ты в очередной раз стал жертвой моей никчемности. Кроме того, эту долбаную кастрюлю пришлось замачивать, что в сложившихся обстоятельствах (приближение старости и необходимость в одиночестве расставлять посуду) окончательно тебя добило.
– Почему бы тебе самой не написать эту книгу? – спросил ты.
– Что?
– Я просто предложил.
– И о чем же, по-твоему, мне написать?
Ты примирительно поднял руки вверх.
Ночью я проснулась. Ты тоже не спал. Я услышала в темноте тихий предательский звук – ты сглотнул.
Так мы и лежали.
Было часа четыре. За окном темень, в комнате густые тени; отгораживаясь от них, я закрыла глаза в надежде снова уснуть. Ты лежал на спине, лицом в потолок. Немного погодя опять сглотнул.
В былые времена это свидетельствовало о желании. Когда нам было по девятнадцать-двадцать и все только-только начиналось, мы сидели рядышком на диване и болтали, а когда темы для разговора иссякали, просто задумчиво смотрели перед собой. Мы могли просидеть так довольно долго, глядя то вверх, то в стороны, как будто и вправду изучали рисунок на шторе, пока ты, устав притворяться, не сглатывал, дернув кадыком. Почти незаметно, но громко. Я прекрасно понимала, что это означает. Что не успеешь опомниться, а мы оба уже без одежды; именно об этом ты и раздумывал, прикидывая, как бы к этому подвести. И я невольно сглатывала вслед за тобой.
Но в Брее, графство Уиклоу, было четыре часа ночи, а нам давно уже не по двадцать лет. Ты думал не о сексе, маясь без сна посреди ночи. И вовсе не мой образ волновал тебя в темноте.
Тебя волновало нечто другое.
Ты как-то сказал, что хорошо бы придумать отдельное слово для попытки продолжать спать, когда тебе позарез надо в туалет. Потребность вставать по ночам появилась у тебя не так давно, служа признаком наступления среднего возраста, если не чего похуже, и ты цеплялся за крепкий сон как за доказательство молодости. Даже проснувшись, ты не желал просыпаться. И верил, что если останешься лежать, то никогда не умрешь.
– Не спишь? – спросила я.
– О господи…
Ты с усилием поднялся и вылез из постели. Нетвердым шагом прошел мимо спальни нашего здоровенного сына-подростка, который спит без просыпу по десять часов, мимо пустующей в будни комнаты его сестры. Спустил воду и открыл кран. Зашумела вода в трубах и шумела до тех пор, пока ты не заполз обратно под одеяло, в тепло. Повернулся, чтобы я тебя чмокнула, и заснул. И все. А я лежала без сна и думала о том, во что мы превратили свою жизнь. О том, какой она была простой и непредсказуемой. И о том, что теперь возникало из темноты.
О моей книге.
* * *
На следующее утро я забронировала через интернет дешевый билет до Лондона, аэропорт Гатвик. Выбирая дату, я на миг задумалась. Двадцать третье апреля. Вылет в день рождения матери (если покойники могут отмечать дни рождения), а я лечу в Лондон. Потому что – как бы бестактно это ни звучало – именно там она родилась. Да. Кэтрин О’Делл – для всего мира самая что ни есть ирландская актриса – на деле родом из Великобритании.
Она появилась на свет в Лондоне и провела там детство. Забудьте о рыжих волосах, клетчатой шали и поэзии. Забудьте о песнях протеста:
Пару недель спустя я смотрела из иллюминатора на рябую поверхность Ирландского моря, которую далеко внизу разрезала носом то одна, то другая малюсенькая лодка.
«Хвала небесам – вокруг воды»[2]2
Строка из стихотворения американского поэта ирландского происхождения Тома Кахилла. – Прим. ред.
[Закрыть].
Где она родилась, не знал никто, и нипочем не узнал бы – это была тайна за семью печатями. Глядя сверху на голубую водную полосу, я недоумевала, чего ради она шла на такие ухищрения.
Разумеется, она никогда не раскрывала свой точный возраст, о котором оставалось лишь гадать. Если неизвестно, где человек родился, бесполезно искать свидетельство о рождении. Чего-чего, а напустить туману она умела, не зря же была актрисой.
Леди так и не выдала свой секрет, но сейчас его раскрою я. Смерть разбила часы, ход которых моя мать все время пыталась повернуть вспять. Так не хочется ее изобличать. Серьезно, сердце сжимается, словно я предаю ее, объявляя на весь мир, что она родилась в апреле 1928 года в лондонском пригороде Херн-Хилл. Крестили ее в поместной церкви святых Филиппа и Иакова и нарекли Кэтрин Энн Фицморис.
Позднее она возьмет для сценического псевдонима фамилию матери – Оделл, а в двадцать лет, в Америке, изменит имя на ирландский манер – О’Делл. Тогда же от тоски по старушке-родине у нее порыжеют волосы.
Мать моя была той еще притворщицей. Артистка, бунтарка, романтичная натура – кто угодно, но только не англичанка. Назвать ее так было бы страшным оскорблением. И, к сожалению, чистой правдой.
Самолет приземлился в Гатвике. На поезде я добралась до вокзала Виктория, где пересела на электричку до Херн-Хилла. Англия показалась мне приятным местом. Тук-тук, тук-тук – ровно стучали по рельсам колеса прекрасного английского общественного транспорта. Более чем приятным. Ухоженные дворики, аккуратные ряды домов, толпы людей, едущие из предместий на работу, все чистые, опрятные и вежливые. Если моя мать бежала от этого, то мне ее не понять.
Дом я нашла легко. Он стоял в пяти минутах ходьбы от станции, на Милквуд-роуд, застроенной скромными домиками из желтого кирпича. Сегодня улицу отделяют от железнодорожных путей склады промышленной компании имени Махатмы Ганди, но в 1928 году отсюда наверняка открывался вид на проходящие мимо поезда. Дом, где родилась Кэтрин Оделл, располагался на пересечении с Поплар-роуд. Я дошла до перекрестка и завернула за выступ стены. Никакого садика – ни перед домиком, ни на заднем дворе. Мать родилась в апреле. Всю жизнь она обожала магнолию, каждую весну с нетерпением ждала, когда на Дартмут-сквер наконец расцветут глицинии, но я так и не поняла, настоящая то была любовь или показная. Но и во время своего внезапного паломничества в Херн-Хилл, глядя на два задних окна с грязными тюлевыми шторами, я была вынуждена констатировать, что нисколько не приблизилась к разгадке.
Ее родители, странствующие актеры, переезжали с квартиры на квартиру. Этот дом они сняли в 1928 году, и, судя по виду, он и теперь сдавался. Я вернулась к фасаду, вдохнула поглубже, шагнула в проем в низкой ограде и постучала в дверь. Вернее, приложила к ней ладонь. Дерево было теплым, и от этого тепла меня будто стукнуло током.
Здесь она родилась.
Вечером двадцать третьего апреля ее отец, Ментон Фицморис, выступал на сцене «Дейли», театра на Лейстер-сквер. Днем его жену пару раз прихватило, но потом отпустило. По дороге на станцию Фиц сказал об этом соседке, но особых причин для беспокойства не видел. Соседка решила-таки проведать мою бабушку и застала ее стоящей на лестнице. Так мне всегда рассказывали: входная дверь нараспашку, внизу толпа ребятишек, а моя бабушка, пузом вперед, цепляется за прутья перил, издавая утробный звериный вой. Такой она мне и представляется – иллюстрация к жизни той эпохи. На ней ботинки на каблуках и шляпа (с нелепым пером) набекрень. На этой картинке юбки у нее в полном беспорядке и скрывают следы крови или отошедших вод, если они и были. Настырной головы моей матери тоже не видно, но сжатый конус ее черепа уже проталкивается через разверзающуюся плоть, пока моя бабушка топчется на ступеньках, пытаясь нащупать спиной хоть какую-нибудь опору, а соседские дети глазеют на нее, догадываясь о серьезности момента
Тем временем мой дед играет графа Беловара в прелестной пьесе «Леди с эглантериями». На нем гусарский мундир и рейтузы с высокой талией, он принимает позы и декламирует, а бабушка тужится и стонет. Бесспорно, Фиц был шикарным мужчиной, когда-то это придется признать, так почему не сейчас? Его жена нашарила ногой опору, но оступилась на нижней ступеньке, и из нее выскочила моя мать. Она появилась на свет на лестнице, спиной вперед. Бабушка запустила руки под юбку, и вот Кэтрин Энн – уже лицом кверху, дрыгая ручками-ножками, – летит прямо к соседке, стоящей наготове внизу. Вот она. Описывает в воздухе дугу. Шлепается в руки соседки. Та кричит: «О боже святый! Держись! Погоди, не тужься!» – но бабушка тужится, и на ступеньку падает плацента, обозначая окончательную принадлежность младенца к этому миру. Соседка поднимает ребенка выше, поворачивается и показывает его повивальной бабке, проталкивающейся сквозь толпу детишек:
– Смотри-ка, девочка!
«Дама с эглантериями» – это оперетта: костюмы в пастельных тонах, солдаты, похожие на оловянных солдатиков, женщины в летних платьях с кринолинами. По сюжету это оптимистичная версия библейской истории о Юдифи и Олоферне. После поцелуя с красавцем-захватчиком (которого играет мой дед) Юдифь не отрубает ему голову, а роняет кинжал, потому что влюбилась во врага. Он в нее тоже. Чем не прекрасный способ завершить войну? Не знаю, что они потом делают с кинжалом. Может, вешают над брачным ложем?
Критик из «Спектейтор», которому в постановке понравилось все, кроме моего деда – его он вообще не упоминает, – полагал, что «музыкальная комедия адресована среднему британцу и являет собой яркий пример буржуазного искусства». И хотя критик кажется слишком умным, а пьеса слишком глупой, в ее по-современному беспечной тональности есть нечто ободряющее. Разумеется, Юдифь никому не отрезает голову. На дворе 1928 год. Эти люди уже более или менее похожи на нас: они все знают про классовое общество и войны и способны хором спеть «Дама отвечает отказом» или «Думаю, мечтаю о тебе».
В том же году постановка отправилась в Нью-Йорк, где прошла под названием «Дама с цветами»; мой дед выступал во втором составе. Мать была слишком мала, чтобы запомнить эту первую поездку в Америку. Есть фотография, на которой она сидит в новехонькой американской коляске перед подъездом типичного нью-йоркского дома из бурого песчаника. Она насуплена, как и положено ребенку; на ней чепчик с кружевной розочкой сбоку.
В то время Нью-Йорк переживал последние лихорадочные дни экономического бума. Сухой закон еще не отменили, но спиртное в городе лилось рекой. Увиденное так потрясло бабушку, что она отказалась от звания актрисы и предпочла сидеть дома. Позже она вспоминала, что там было жутко холодно, но и по наступлении жары лучше не стало. Зато ее мужа Америка захватила и привела в восторг. Вроде бы ему собирались предложить роль в фильме, съемки которого проходили в Калифорнии, но что-то этому помешало. Спустя четыре месяца, в июле, когда пьесу сняли с репертуара, семья вернулась в Англию.
Вскоре после этого случился крах фондовой биржи. Этот факт мой дед проигнорировал и продолжал сожалеть о великолепной возможности, упущенной в Америке. В результате он превратился в актера-неудачника, у которого славу увели из-под носа. Моя мать, мало склонная вникать в разочарования своего отца, описывала его как поденщика: в любой пьесе он учил только свою роль. Ей-то удалось обрести известность на Бродвее, и она всегда глубоко погружалась в содержание пьесы, а не только в образ своей героини. Моя мать искала в искусстве защиты, и в этом отношении она была современнее своего отца, при этом унаследовав его красоту; обладатели «драматической внешности», они оба выделялись на общем фоне, просто появляясь на сцене.
Она явно умела привлечь к себе внимание.
Смотри-ка, девочка!
Возможно, из-за этого эпизода на лестнице в Херн-Хилл мать всегда боялась высоты. Ее страшил переход из темноты кулис под свет софитов. Будто летишь вниз, говорила она. В бездну забвения. Ей было десять лет, когда она дебютировала в лондонском театре «Роялтон» под именем Кэтрин Оделл. Играла крокус в хоре весенних цветов. Юбка с лепестками, чулки шафранного цвета и зеленая шапочка с прелестным стебельком на макушке, которой она страшно гордилась. Только костюм она и запомнила. Все остальное – сюжет, название, интрига – так и осталось тайной до конца ее дней. Она говорила, что среди персонажей был Поэт, во всяком случае, так его называли. И женщина с яркой помадой – Ночная бабочка, что насмешило мою мать дважды; первый раз тогда, а второй – десять лет спустя, когда она поняла, что прозвище не имеет никакого отношения к насекомым. Но роль крокуса так ее захватила, что она не видела и не слышала ничего вокруг себя. В самый ответственный момент, когда надо было произнести: «Придет весна, и твой утихнет звон» или еще какую-то глупость в этом духе, а затем упасть, словно от порыва ветра, у нее пропал дар речи. Она забыла, какие слова в итоге слетели с ее губ, зато помнила чувство невероятной реальности происходящего.
Я делала уроки за кухонным столом на Дартмут-сквер, а она рассказывала приукрашенные истории своей юности. Я старалась делать вид, что не слушаю. В пластиковом конверте у меня были аккуратно разложены разноцветные фломастеры, и я заполняла контурные карты Ирландии. Или рисовала водоемы: система озер, исчезающие озера, каровые озера. Надевая колпачки на фломастеры и раскладывая их по цветам, я чувствовала себя слегка оскорбленной, – к чему все это актерство? В этой комнате единственное подлинное создание – это я. Я-то здесь.
И всегда была здесь.
Ведь еще когда она только ворвалась в этот мир, внутри нее было крохотное яйцо – я. Это еще одна история, которую она рассказывала мне, пока я ярко-голубым цветом закрашивала реку Шаннон. Она рассказывала, что с момента ее рождения я хранилась внутри нее, словно крохотная матрешка в матрешке побольше.
Двадцать четыре года спустя, в бруклинском родильном доме после долгих и мучительных схваток, которые она мужественно перенесла, из нее достали меня. Дело было поздней ночью, и мать, накачанная каким-то препаратом, плохо соображала, но ясно помнила акушера, мужчину в костюме, который даже не расстегнул запонки на манжетах, прежде чем взяться за какую-то штуковину – «точь-в-точь вантуз» – и начать вытягивать меня из ее тела. Вытягивание оставило круглый рубец у меня на черепе. Я появилась на свет пришибленной, говорила она, и абсолютной инопланетянкой. А потом открыла глаза, словно готовая к следующему раунду, и она поняла, что все будет в порядке.
«В полном порядке».
Мне не надо было объяснять, что это значит.
«И жалость, как младенец обнаженный[3]3
Уильям Шекспир. Макбет. Пер. М. Лозинского.
[Закрыть]», – продекламировала она, приняв соответствующую позу. Она стояла на кухне, закатив глаза, надув щеки и приложив к губам воображаемую трубу – вылитый херувим; на дне кастрюли варились, постукивая одно о другое, яйца.
Браво!
Моя мать умела прямо на глазах входить в роль и выходить из нее. Приподнимала плечо, поджимала губы, по-другому смотрела. И какую-то глубинную дочернюю часть меня захлестывала несказанная радость.
Еще, мам! Покажи еще раз!
Летними вечерами мы брали плед, плетеную корзину и шли в наш маленький парк. «Пойдем в сквер», – говорила она. Обогнув ограду, мы заходили в ворота и валялись на траве. Местные жители гордились парком, но не часто им пользовались, возможно, потому, что все там было слишком на виду. Но Кэтрин это не волновало. Ей нравилось быть женщиной из парка с клетчатым пледом «Фоксфорд», корзинкой для пикника и чудесной дочкой, наливающей своим куклам невидимый чай. Ее постоянное стремление все превращать в спектакль меня смущало, как и безликие фасады зданий, для которых мы устраивали представление. Ей было ни к чему притворяться моей матерью. Она и была моя мать. Во всем этом чувствовался перебор.
Гораздо больше мне нравилась наша зимняя штаб-квартира в кухонном подвале, где нам никто не мешал. Возле огромной старой печи стояло большое кресло, над ним – полка со старыми газетами и забытыми безделушками, среди которых были фарфоровая собачка и снежный шар с Нью-Йорком, покрытый кухонной копотью. Пол был выложен черной и красной плиткой. Красные квадраты, чуть более пористые, истерлись больше черных, из-за чего венские стулья вечно шатались. Я любила забираться на эти стулья: вставать, вновь садиться, устраиваться поудобнее.
Вторая половина подвала принадлежала Китти, и оттуда постоянно слышалось шарканье ее кожаных тапок. Китти передвигалась медленно, но почти никогда не останавливалась. В ее комнате всегда царил полумрак и там противно воняло – подозреваю, она держала под кроватью ночной горшок.
Когда наступали настоящие холода, кухня становилась единственным во всем доме теплым местом, поэтому Китти занималась сортировкой запасов и нас не дергала; мать сидела с книгой или болтала и курила одну сигарету за другой; на самой прохладной части огромной плиты у нее стоял бокал вина. Кажется, она сидела со спущенными колготками. Звучит ужасно, но думаю, что она иногда так отдыхала: «колготочки», как она ласково их называла, собирались вокруг ее щиколоток облачками поблескивающего бежевого тумана. По какой-то причине она не снимала колготки полностью. Возможно потому, что истинные леди никогда не сидят с босыми ногами.
В основном она читала дорогие издания в твердом переплете: мемуары, биографии, иногда что-то смешное. Мне нравились книги с картинками: серия газетных комиксов Джона Шеридана «Шляпа улетела», «Яйцо и я» Бетти Макдональд. Или «Хоть убей» – про что там было, я уже не помню (хоть убей). Еще она любила нон-фикшн с заголовками типа «Самые коварные женщины мира». Елизавета Батори, Екатерина Великая, Лиззи Борден с топором… Ее привлекали истории злодеек, особенно ирландок. В книге «Изумруд с изъяном» были главы, посвященные проститутке-убийце Доркас Келли, известной подпольной акушерке Мейми Кадден и парочке разорительниц могил – Хиггинс и Флэннаган.
Много лет спустя я задумалась, чем ее так манили эти кровавые истории.
Больше других ее завораживал образ Доркас Келли, дублинской содержательницы притона, которую в 1761 году приговорили к смерти за убийство пяти клиентов. Казнь устроили на Бэггот-стрит, на соседней с нами улице. Когда мы там проходили, мать иногда говорила: «А ты знаешь, что здесь сожгли женщину? Прямо тут, где сейчас светофоры». В день казни проститутки Дублина устроили бунт на Медной аллее. Может, сказала мать, они считали, что ей следовало убить еще пятерых.
Кэтрин читала постоянно. Ей нравились биографии диктаторов, и она довольно долго была одержима Сталиным. Но ее интересовали не ГУЛАГ и не Ялтинская конференция, а самоубийство его жены, его пристрастие к сладким грузинским винам и его манера заставлять своих министров после ужина по-собачьи лаять на мелодию вальса «На прекрасном голубом Дунае». Она цитировала слова его дочери Светланы: «Стрелец на стыке с Козерогом».
Утром я собирала школьный рюкзак: нужные тетради, учебники, маркеры – вызывающе яркие на бумажной странице, они изумительно смотрелись в прозрачной пластиковой упаковке. Уходя спать и оставляя ее в одиночестве допивать вино, я волновалась, как бы она не споткнулась в своих спущенных колготках и не упала.
Сталин на стыке. И сорок миллионов жертв.
Это всего один пример того, что бесило меня в матери. Подобные вещи просто так из памяти не вычеркнешь, особенно если ты упертая Дева.
Она верила, что серийного убийцу можно распознать по маленьким ушам и что желтый – это цвет безумия. «Возьми хоть Ван Гога!» (Я переживала из-за того, что мои уши начисто лишены мочек; это тревожило меня не на шутку. Я оттягивала их перед зеркалом, чтобы вырасти приличным человеком.) Я была Дева до мозга костей, но мать утешалась моей календарной близостью к Весам, что означало наличие скрытых творческих способностей. При всем моем занудстве, в чем любила упрекать меня мать, когда ей приходилось пить в одиночестве, я оставалась ее опорой, ее ангелом и величайшим сокровищем.
Я и в самом деле была основательным ребенком. Мне нравились факты, карты, арифметика и естественные науки. Возможно, в этом еще одна причина моего внезапного паломничества в Херн-Хилл. Реальность всегда вселяла в меня чувство спокойствия. Я с огромным удовлетворением прикасалась к двери, за которой она родилась, ощущая кончиками пальцев плотную текстуру древесины, ее материальность, ее температуру, ее темно-зеленую краску, облупившуюся под натиском лет и непогоды.
Так. Именно так.
День выдался хмурый и теплый. Между эркером и низкой оградой втиснулся мусорный бак, от которого сладко попахивало гнилью. На Милквуд-роуд вынырнул из промышленной зоны белый фургон, и я проводила его взглядом.
Вновь повернувшись к двери, я постучала. Мне ответила тишина, и я поняла, что дом пустует и, видимо, уже давно. Это не то, чего ждешь от двери в волшебную страну. За этой дверью не было ничего, кроме заполненного воздухом пространства, в котором она появилась на свет, – в узком коридоре, прочерченном перилами лестницы.
Раз в году солнце нагревало древесину под тем же углом, что в день ее рождения. И хотя меня мало волновало, в каком именно порядке выстроились тогда планеты, стоя там, я почувствовала грандиозность того, с какой точностью Земля совершает свой неспешный оборот.
Мне было пятьдесят восемь. Через пару месяцев исполнится пятьдесят девять, что на год больше, чем она прожила на этой земле. Я продолжу вращаться вместе с ней в неизведанном космосе. Я стану старше собственной матери.
Мимо прошла ватага школьников: серые форменные брюки, незаправленные рубашки, сбитые набок галстуки. Они в шутку пихались, вырывая друг у друга телефон с каким-то сообщением. Возились, гонялись друг за другом, кидались рюкзаками, тянули друг друга за пиджаки.
«Ну, ты и придурок, Филипс. Больной на всю голову».
Она прожила в Херн-Хилл семь месяцев, затем ненадолго перебралась в Нью-Йорк, после чего вернулась в Лондон, но уже на другие улицы, в невыразительные домишки и квартиры Хаммерсмита, Хэкни, Ноттинг-Хилла. Росла она, по собственным рассказам, дикаркой; мать в ней души не чаяла, отец ее обожал – болтушка, неряха, одежды не напасешься. Но она была хорошим ребенком, утверждала она. Настаивала на этом. Она была очень хорошим ребенком!
Меня смущало, каким тоном она это произносила, потому что я тоже была хорошим ребенком и не понимала, что тут плохого. Я не понимала, почему она огорчается, как будто жизнь сыграла с ней злую шутку.
Я слушала ее со своего места за кухонным столом или смотрела, как она выходит во внутренний двор, чтобы насладиться невероятным закатом, какими нас баловал Дублин в те пасмурные дни; возвращаясь, она рассказывала истории из своего детства, от которых мое собственное расцвечивалось новыми красками. О собаке, которая чуть ее не укусила (в итоге все обошлось). О белой мышке (или крысе?), обнаруженной в малиновых леденцах. О девчонке-вредине из школы (знать бы, где она теперь). Об эксгибиционисте. О том, как на сообщение о нем отреагировала ее мать («Ничего страшного, переживешь»). Истории о чудесном спасении, об опасностях, которых она избежала, о поверженных чудищах. Если на то пошло, очень мало историй о том, какой она была хорошей.
В три года она украла у мальчика по соседству самодельный карт: маленькое белое сиденье и вожжи, позволяющие поворачивать колеса в разные стороны. Машинка стояла так сиротливо, будто только и ждала, когда на ней прокатится какой-нибудь приятный человек.
И она прокатилась. Крутила педали и отталкивалась пухлыми ножками, пока хорошенько не разогналась. Потом она кое-как смогла развернуть карт и уже собиралась вернуться назад, когда поняла, что понятия не имеет, где ее дом. Улицы казались похожими одна на другую.
«Ты потерялась, малышка?»
С ней заговорил мужчина – великан сорока футов ростом, со зловещим взглядом исподлобья. В руке он держал большой черный зонт и тыкал его рукояткой, пока не подцепил рулевую веревку и не потащил карт за собой. Девочке пришлось задрать ноги вверх и вперед (для иллюстрации рассказа часто использовался кухонный стул) и повиснуть на краях кузова, а мужчина как ни в чем не бывало тянул ее прочь. Она подняла лицо к небу, взглянула в равнодушные небеса и завыла.