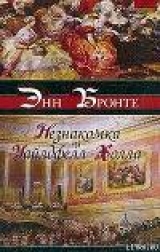
Текст книги "Незнакомка из Уайлдфелл-Холла"
Автор книги: Энн Бронте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава IV
ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР
Вечер, который мы устроили пятого ноября, прошел очень мило, хотя миссис Грэхем и отказалась украсить его своим присутствием. Пожалуй, если бы она все-таки пришла, мы чувствовали бы себя не так свободно и стеснялись бы своей дружеской веселости.
Матушка, как обычно, была хлебосольна, неугомонна, словоохотлива и грешила избытком желания угодить своим гостям – принуждала есть и пить то, чего они терпеть не могли, других насильно усаживала поближе к пылающему огню и развлекала беседой, когда они предпочли бы помолчать. Впрочем, они все были в праздничном настроении и сносили ее заботы с большим добродушием.
Мистер Миллуорд величественно ронял непререкаемые истины, педантично шутил, рассказывал скучнейшие анекдоты и пускался в риторические рассуждения в поучение и назидание как всему обществу в целом, так и наиболее внимательным из своих слушателей, в частности – полной восхищения миссис Маркхем, учтивому мистеру Лоренсу, чинной Мэри Миллуорд, тихому Ричарду Уилсону и невозмутимому Роберту.
Миссис Уилсон блистала, как никогда, сдабривая потоки свежих новостей и старых сплетен банальными вопросами и замечаниями, а также постоянно повторяя одно и то же, видимо не желая давать ни мгновения отдыха своим неугомонным органам речи. Она принесла с собой вязание, и, казалось, ее язык побился об заклад с ее пальцами, что превзойдет их быстротой и непрерывностью движения.
Ее дочь Джейн была, разумеется, светской и элегантной, остроумной и обворожительной в полную меру своих сил, стремясь затмить всю женскую часть общества и очаровать всю мужскую, а мистера Лоренса окончательно пленить и покорить. Я был не в состоянии определить, какие тончайшие уловки она изобретала для этой цели, но, на мой взгляд, напускная аристократическая высокомерность и неприятная самоуверенность совершенно ее портили, а Роза, когда мы остались одни, растолковала мне смысл ее кокетливых взоров, ужимок, намеков столь проницательно и с такой досадой, что я равно подивился фальшивости этой барышни и наблюдательности моей сестрицы и даже спросил себя, уж не видит ли она в мисс Уилсон соперницу. Но успокойся, Холфорд: ничего подобного у нее и в мыслях не было.
Ричард Уилсон, младший брат Джейн, устроился в укромном уголке – не потому, что был в дурном расположении духа, но по застенчивости стараясь оставаться незамеченным, при этом внимательно слушая и наблюдая. И хотя он чувствовал себя несколько не в своей тарелке, вероятно, вечер он на свой лад провел бы приятно, если бы только матушка оставила его в покое. Но из самых добрых намерений она допекала его заботами – непрерывно потчевала то тем, то этим, полагая, в заблуждении, будто он смущается сам что-нибудь взять, и вынуждала выкрикивать через всю комнату коротенькие «да» и «нет» в ответ на бесчисленные вопросы, с помощью которых тщетно пыталась втянуть его в разговор.
Роза сообщила мне, что он почтил нас своим обществом только из-за настояний своей сестрицы. Та обязательно хотела показать мистеру Лоренсу, что у нее есть второй брат, куда более похожий на джентльмена, чем Роберт, которого она, наоборот, всячески старалась оставить дома, но он твердо заявил, что не видит причин, почему бы не скоротать вечерок с Маркхемом, старухой (матушка тогда была еще далеко не старуха), красоткой мисс Розой и его преподобием – что он не ровня им, что ли? И был, разумеется, совершенно прав. И он болтал с матушкой и Розой о всяких пустяках, беседовал со священником о сельскохозяйственных работах и рассуждал о политике с нами обоими.
Мэри Миллуорд предпочитала хранить молчание, но меньше страдала от беспощадной матушкиной доброты, так как умела отвечать коротко и отказываться резко, а потому подозревалась не столько в робости, сколько в угрюмости. Во всяком случае, остальные не получали удовольствия от ее присутствия, как и она от их общества. Элиза шепнула мне, что Мэри пришла только по настоянию их отца: он вдруг объявил, что она слишком занята домашними обязанностями и пренебрегает невинными развлечениями и радостями, приличествующими ее возрасту и полу. Впрочем, насколько я мог судить, Мэри не так уж и скучала – несколько раз она смеялась шуткам и обменивалась улыбками с теми среди нас, кто пользовался ее расположением. Потом я заметил, что она старается перехватить взгляд Ричарда Уилсона, сидевшего напротив нее. Конечно, он занимался с ее отцом и они должны были привыкнуть друг к другу, а обоюдная замкнутость могла их даже сблизить.
Моя Элиза была обворожительна свыше всяких описаний, кокетлива без жеманства и словно бы искала только моего внимания. Как бы она ни поддразнивала меня и ни посмеивалась надо мной, ее сияющее личико и прерывистое дыхание выдавали, как ей приятно, что я сижу или стою рядом с ней, нашептываю ей на ушко всякий вздор или пожимаю ее пальчики во время танцев. Но мне лучше не продолжать: если я расхвастаюсь теперь, тем больше мне придется краснеть потом.
Продолжу рассказ о прочих членах нашей небольшой компании. Роза, как всегда, держалась естественно и безыскусственно веселилась. Фергес вел себя вызывающе и глупо, но дерзости и нелепые выходки только смешили остальных, хотя и не поднимали его в их глазах. И наконец (себя я опускаю), мистер Лоренс был мил и обходителен со всеми, любезен со священником и женской половиной нашего общества – особенно с хозяйкой дома, ее дочерью и мисс Уилсон… Слепец! У него не хватало хорошего вкуса предпочесть этой последней Элизу Миллуорд! Между ним и мной существовало нечто вроде приятельских отношений. Отшельник по натуре, он редко покидал уединенное поместье, где родился и где после смерти отца вел одинокое существование, и не имел ни случая, ни желания заводить новые знакомства. А из старых наиболее приятен ему (судя по его поведению) был я. Мне он, скорее, нравился, но его холодность, застенчивость и замкнутость мешали проникнуться к нему истинно теплым чувством. Прямота и откровенность в других его привлекали, если были свободны от вульгарности и назойливости, но сам он не мог ими похвастать. Молчание, которое он хранил о собственных делах и заботах, вызывало досаду и могло даже оскорбить, но я извинял такую скрытность в убеждении, что питает ее не высокомерие и не отсутствие доверия к друзьям, но болезненная застенчивость и чувствительность, которые он сознавал, но преодолеть был не в состоянии. Сердце его напоминало нежный цветок, который развертывает лепестки навстречу солнечным лучам, но тут же поникает и закрывается, если его коснутся неосторожные пальцы или даже самый легкий ветерок. В целом наша близость ограничивалась определенной взаимной симпатией и далеко не походила на глубокую и прочную дружбу вроде той, которая позже связала нас, Холфорд. Тебя, несмотря на некоторую твою придирчивость, я уподобил бы старому привычному сюртуку из превосходной ткани, просторному, удобно облегающему фигуру, нигде ее не стесняя, который можно надевать по любому случаю и в любую погоду, не боясь его испортить. Мистер же Лоренс походил на новый фрак, отлично и элегантно сшитый, но столь тесный в плечах, что страшно пошевелить рукой – как бы не лопнули швы, и столь отглаженный и безупречный, что и думать нельзя попасть в нем под дождь, пусть даже на несколько секунд.
Едва гости собрались, как матушка заговорила про миссис Грэхем – выразила сожаление, что она не могла принять нашего приглашения, и объяснила Миллуордам и Уилсонам, по какой причине ей не удалось отдать им визиты, – но она надеется, что они извинят ей невольную неучтивость, и всегда будет рада вновь увидеть их у себя.
– Но она какая-то странная, мистер Лоренс, – продолжала матушка. – Просто ничего понять нельзя. Впрочем, вы, наверное, можете нам про нее кое-что рассказать. Ведь она как-никак ваша жилица и к тому же сказала, что вы немного знакомы.
Все глаза обратились на мистера Лоренса, и мне показалось, что этот вопрос смутил его больше, чем того заслуживал.
– Я, миссис Маркхем? – воскликнул он. – Вы ошибаетесь, я не… то есть я, разумеется, видел миссис Грэхем, но рассказать не могу ничего.
Он тут же повернулся к Розе и попросил ее развлечь общество романсом или сыграть что-нибудь.
– Нет, – ответила она. – Об этом попросите мисс Уилсон. Она и поет и играет несравненно лучше нас всех.
Мисс Уилсон начала отнекиваться.
– Да споет она, споет! – вмешался Фергес. – Если вы, мистер Лоренс, возьметесь переворачивать ноты.
– С большим удовольствием. Мисс Уилсон, вы окажете мне такую честь?
Она изогнула лебединую шею, улыбнулась и позволила ему подвести себя к инструменту. А затем принялась играть и петь со всем блеском, на какой была способна. Он же, терпеливо опираясь на спинку ее стула, переворачивал лист за листом нотные тетради и менял их по ее просьбе. Быть может, он получал от ее игры и пения не меньшее удовольствие, чем она сама, но не скажу, чтобы мне они так уж нравились, хотя ее манера исполнения была по-своему и очень недурна – умелая, выразительная… и без малейшего чувства.
Однако с миссис Грэхем мы еще не покончили.
– От вина я откажусь, миссис Маркхем, – сказал мистер Миллуорд, когда подали вино. – Лучше налейте мне вашего домашнего эля. Я его предпочитаю всем другим напиткам.
Весьма польщенная таким комплиментом, матушка дернула сонетку и вскоре перед достойным пастырем уже стоял фарфоровый кувшин нашего лучшего эля, тонким ценителем которого он был.
– Вот питье так питье! – вскричал он, ловко наклоняя кувшин так, что струя лилась точно в стакан и весело пенилась. На стол при этом не пролилось ни капли. Затем стакан был поднят к свече, священник полюбовался его содержимым, осушил одним огромным глотком, одобрительно причмокнул, перевел дух и снова его наполнил под одобрительным взором моей матушки.
– Нет, с ним ничто не сравнится, миссис Маркхем! – сказал он. – Я так всюду и говорю: с вашим домашним элем ничто не сравнится!
– На здоровье, сэр! Я ведь варкой всегда сама распоряжаюсь. И как сыр варят, и как масло сбивают, тоже приглядываю. Если уж что делать, так как следует, вот что я вам скажу.
– Вы совершенно правы, миссис Маркхем. Совершенно правы.
– Но, мистер Миллуорд, ведь ничего дурного нет в том, чтобы иной раз выпить винца или даже чего-нибудь покрепче, правда? – спросила матушка, подавая стопку джина с водой миссис Уилсон, которая пожаловалась, что вино тяжело ложится ей на желудок. (Ее сын Роберт, перехватив бутылку, налил себе чистого джина.)
– Ну, разумеется, – ответил оракул, величественно кивнув. – Все это блага и дары Провидения, только не надо ими злоупотреблять.
– А вот миссис Грэхем так не думает. Вы бы послушали, что она нам тут наговорила! Я ее тогда же предупредила, что посоветуюсь с вами.
И матушка незамедлительно познакомила общество с заблуждениями упомянутой дамы касательно употребления спиртных напитков, заключив свое повествование вопросом:
– Ведь, по-вашему, это неверно, ведь так?
– Неверно? – повторил священник с особой торжественностью. – Преступно, вот что это! Преступно. Она же не только тиранит мальчика, но презирает дарованные нам блага и учит его попирать их ногами!
Он вошел во вкус и принялся подробно растолковывать всю опасность и кощунственность подобных взглядов. Матушка внимала ему с глубочайшим благоговением, и даже миссис Уилсон снизошла до того, что дала отдохнуть своему языку, и слушала молча, мирно прихлебывая джин. Мистер Лоренс, положив локти на стол, поигрывал недопитой рюмкой и чему-то улыбался.
– Но согласитесь, мистер Миллуорд, – сказал он, когда преподобный джентльмен прервал наконец свою проповедь, чтобы перевести дух, – что в тех случаях, когда в ребенке заложена склонность к неумеренности, например, по вине его родителей и дедов, некоторые меры предосторожности могут оказаться нелишними? (Следует объяснить, что, по слухам, отец Лоренса сократил свой жизненный срок неумеренным пристрастием к крепким напиткам.)
– Возможно, возможно, но умеренность – это одно, сэр, а полное воздержание – совсем другое!
– Но я слышал, что есть люди, неспособные вовремя остановиться. Если полное воздержание – и зло, хотя многие в этом сомневаются, то злоупотребление – еще большее зло, этого отрицать нельзя. Некоторые родители строго-настрого запрещают своим детям даже пригубливать спиртные напитки. Но родительская власть не беспредельна, дети склонны тянуться к запретному плоду. А в подобном случае у ребенка не может не пробудиться сильного желания попробовать то, что другие так хвалят и любят, то, что для него находится под запретом, и при первом же удобном случае он это желание удовлетворит, последствия же такого нарушения могут быть чрезвычайно серьезны. Я не считаю себя судьей в подобных вопросах, но мне кажется, что план миссис Грэхем, о котором вы рассказали, миссис Маркхем, обладает немалыми достоинствами, несмотря на всю его странность. Ведь мальчик сразу же избавляется от соблазна. Его не мучает тайное любопытство, не снедает нетерпеливое желание попробовать соблазнительные напитки – ведь он уже хорошо с ними знаком и успел проникнуться к ним отвращением, нисколько не пострадав от вредных их свойств.
– И это хорошо, сэр? Разве я не доказал вам, насколько дурно, насколько противно Писанию и разуму учить ребенка смотреть с презрением и отвращением на дары Провидения, вместо того чтобы пользоваться ими в меру?
– Возможно, сэр, вы считаете опий даром Провидения, – возразил с улыбкой мистер Лоренс, – но, согласитесь, вряд ли многим следует употреблять его, даже в умеренности. Однако, – добавил он, – мне не хотелось бы, чтобы вы приняли мое уподобление слишком буквально, а потому я допью свою рюмку.
– И выпьете еще одну, мистер Лоренс? – сказала матушка, подталкивая к нему бутылку.
Но он мягко отказался, чуть-чуть отодвинулся от стола, откинулся на спинку, обернулся ко мне (мы с Элизой Миллуорд сидели на диване позади него) и небрежно спросил, знаком ли я с миссис Грэхем.
– Я видел ее два раза.
– И что вы о ней думаете?
– Не скажу, что она мне очень понравилась. Она красива, а вернее сказать, обладает благородной и интересной внешностью, но далеко не любезна, склонна, как мне кажется, к нетерпимости и, раз составив какое-то мнение, будет отстаивать его любой ценой вопреки очевидности, насильственно приводя все в согласие со своими предубеждениями. Нет, на мой вкус в ней слишком много ожесточенности, умничания и едкости.
Он промолчал, отвел глаза и закусил нижнюю губу, а через минуту-другую встал и направился к мисс Уилсон, которая, полагаю, влекла его к себе столь же сильно, как я отталкивал. В то время я не придал его словам ни малейшего значения, но впоследствии вспомнил их вместе с множеством таких же пустяков, когда… Но не буду забегать вперед.
Вечер мы заключили танцами – наш достойный пастырь не счел, что подобное развлечение в его присутствии неуместно, хотя мы даже наняли деревенского скрипача. Однако Мэри Миллуорд не пожелала к нам присоединиться, как и Ричард Уилсон, хотя матушка всячески его уламывала и даже обещала сама быть его дамой.
Впрочем, мы прекрасно обходились без них. После кадрили начались контрдансы, время летело незаметно, и был уже довольно поздний час, когда я крикнул скрипачу, чтобы он заиграл вальс. Но прежде чем я успел закружить Элизу в этом восхитительном танце, а Лоренс с Джейн Уилсон и Фергес с Розой – последовать нашему примеру, мистер Миллуорд остановил нас:
– Нет-нет, этого я не допущу! Да уже пора и по домам.
– Ну, папочка! – жалобно сказала Элиза.
– Время позднее, девочка, нам пора! Помни, умеренность и послушание во всем. Ведь сказано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам!»
В отмщение я последовал за Элизой в тускло освещенную прихожую и, делая вид, будто помогаю ей накинуть шаль, боюсь, сорвал быстрый поцелуй за спиной ее родителя, пока он укутывал шею и подбородок толстым шарфом. Но, увы! Обернувшись, я узрел перед собой матушку. И, едва наши гости удалились, был подвергнут суровому выговору, который угасил мою веселость и испортил все удовольствие от вечера.
– Мой дорогой Гилберт! – сказала она. – Зачем ты так себя ведешь? Ты ведь знаешь, как близко к сердцу я принимаю твое благо, как я люблю и ценю тебя превыше всего в мире, как надеюсь увидеть тебя преуспевающим, счастливо устроенным в жизни и каким горем для меня будет, если ты женишься на этой девчонке, да и на любой другой в здешних местах. Что ты в ней видишь, я просто понять не могу! Нет, я не только о том, что у нее нет за душой ни гроша. Ни красоты, ни благоразумия, ни добрых душевных качеств – ну, словом, ничего хорошего. Если бы ты знал себе цену, как знаю я, ты и думать о ней не стал бы. Подожди немножко, и сам увидишь! Если будешь и дальше слеп к тому, какова она на самом деле, то придется тебе всю жизнь раскаиваться, когда откроешь глаза и увидишь, сколько вокруг куда более достойных девиц. Помяни мое слово!
– Ах, мама, ну довольно же! Терпеть не могу нотаций. Жениться я пока не собираюсь, ты же знаешь. Но неужели мне и поразвлечься нельзя?
– Можно, милый мой мальчик, конечно, можно. Но только по-другому. А так вести себя нельзя. Будь она хорошей девушкой, ты ее оскорбил бы. Но она-то – хитрая дрянь, уж поверь мне, и ты опомниться не успеешь, как угодишь в ловушку. А если ты все-таки женишься на ней, Гилберт, то разобьешь мое сердце, так ты и знай!
– Да не плачь же, мама, – сказал я, потому что у нее из глаз уже покатились слезы. – Дай-ка я тебя поцелую и сотру тот поцелуйчик. Не брани Элизу и успокойся. Обещаю тебе, что я никогда… То есть что я хорошенько подумаю, прежде чем решиться на то, чего ты серьезно не одобряешь.
С этими словами я зажег мою свечу и отправился к себе в сильном унынии.
Глава V
МАСТЕРСКАЯ
Только под конец ноября я все-таки сдался на просьбу Розы и согласился отправиться с ней в Уайлдфелл-Холл. К нашему удивлению, первое, что мы увидели, когда нас ввели в комнату, был мольберт, возле которого стоял стол, заваленный свернутыми в трубку холстами, пузырьками с лаком, кистями, красками и еще всякой всячиной. Лежала там и палитра. К стене были прислонены незаконченные наброски и несколько завершенных картин – почти только пейзажи, некоторые с фигурами.
– Я должна извиниться, что принимаю вас у себя в мастерской, – сказала миссис Грэхем. – Но в гостиной камин не затоплен, а сегодня холодно, и нам было бы там неуютно.
Освободив два стула от холстов, она пригласила нас сесть, а сама вернулась на свое место у мольберта и во время разговора иногда поворачивалась к нему и даже делала мазок-другой, словно была не в силах совсем отвлечься от новой картины и сосредоточить внимание на гостях. Это был вид Уайлдфелл-Холла на заре с нижнего луга – его темная громада четко вырисовывалась на фоне серебристо-голубого неба с двумя-тремя алыми полосками у горизонта. Верность натуре не оставляла желать лучшего, и написана картина была с большим вкусом.
– Как вижу, вам трудно оторваться от вашей работы, миссис Грэхем, – сказал я. – Умоляю вас, продолжайте, иначе мы окажемся в положении непрошенных и назойливых посетителей!
– Нет-нет! – ответила она, бросая кисть на стол, словно внезапно вспомнив о требованиях вежливости. – Мой дом не так уж часто осаждают визитеры, чтобы я не нашла нескольких минут для тех, кто потрудился навестить меня.
– Но ведь картина совсем окончена, – сказал я, подходя к мольберту и старательно скрывая, какой восторг и удивление она у меня вызвала. – По-моему, вам осталось только кое-где подправить передний план. Но почему вы надписали ее «Фернли-Мэнор, Кэмберленд», а не «Уайлдфелл-Холл …шир»? – спросил я, прочитав надпись мелкими буквами в уголке холста, и тут же почувствовал, что допустил непростительную дерзость: миссис Грэхем покраснела, замялась и после паузы ответила с какой-то вызывающей откровенностью:
– Потому что у меня есть друзья… вернее, знакомые, от которых я предпочла бы скрыть, где живу теперь, а так как картина может попасться им на глаза и они могут узнать мою манеру, хотя инициалами она помечена неверными, то на всякий случай я дала ей и неверное название, чтобы сбить их со следа, если они попробуют отыскать меня с ее помощью.
– А, так себе вы ее не оставите? – спросил я, только чтобы переменить тему.
– Нет. Я не могу заниматься живописью только для развлечения.
– Мама посылает все свои картины в Лондон, – сказал Артур, – а там их кто-то продает и присылает нам денежки.
Я начал рассматривать другие полотна: прелестный вид Линден-Хоупа с вершины холма, Уайлдфелл-Холл, залитый солнечным светом в тихий летний день. И простенький, но производящий большое впечатление набросок: ребенок на осеннем лугу грустно наклоняет голову к увядшему букетику полевых цветов под тусклым пасмурным небом, а вдали темнеет гряда низких холмов.
– Как видите, выбор сюжетов не очень богат, – сказала прекрасная художница. – Я уже написала старый дом при лунном свете, и, наверное, придется вернуться к нему в снежный зимний день, а потом и в пасмурный вечер. Ведь здесь попросту больше нечего писать. Мне говорили, что где-то неподалеку есть чудесный вид на море. Это верно? И на достаточно близком расстоянии, чтобы туда можно было добраться пешком?
– Да, если вы готовы пройти четыре мили или около того. То есть туда и обратно почти восемь, да к тому же по тяжелой дороге.
– Но где она?
Я принялся как мог подробнее объяснять, в каком направлении, через какие луга, какими тропами и тропками можно выйти на дорогу к морю, где свернуть вправо, а где влево, но миссис Грэхем перебила меня:
– Ах, не надо! Повремените. Я ведь успею забыть все ваши объяснения до того, как сумею ими воспользоваться. Отправиться туда я думаю весной, и вот тогда, быть может, снова задам вам этот вопрос. Но впереди еще зима и… – Внезапно она с испуганным восклицанием вскочила со стула, поспешно извинилась и выбежала из комнаты, плотно притворив за собой дверь.
Любопытствуя узнать, что ее так напугало, я поглядел в окно – несколько секунд назад она обратила на него небрежный взгляд, – но успел разглядеть только фалды сюртука, тотчас исчезнувшие за густым остролистом, заслонявшим крыльцо.
– Это мамин друг, – сказал Артур.
Мы с Розой переглянулись.
– Я совершенно ее не понимаю, – шепнула Роза.
Мальчик поглядел на нее с недоумением, и она начала болтать с ним о всяких пустяках, а я от нечего делать продолжал рассматривать картины. В темном углу я обнаружил не замеченное мною раньше полотно, изображавшее маленького ребенка, который сидел на траве, держа охапку цветов. Большие синие глаза, сияющие сквозь завесу упавших на лоб каштановых кудрей, были настолько похожи на глаза маленького джентльмена, развлекающего мою сестрицу, что это мог быть только портрет Артура в самом нежном возрасте.
Я поднял его, чтобы рассмотреть на свету, и увидел, что за ним стоит еще одно полотно, повернутое к стене. Я позволил себе и его повернуть к свету. Это оказался портрет красивого джентльмена в самом расцвете молодости, довольно недурно выполненный. Однако если он и принадлежал той же кисти, что и остальные, то писался задолго до них, так как в изображении второстепенных деталей проглядывала старательность и ему не хватало чистоты колорита и свободы исполнения, которые так поразили и пленили меня в них. Тем не менее разглядывал я его с большим интересом. В чертах лица, в их выражении было что-то своеобразное, указывающее на верность оригиналу. Ярко-синие глаза смотрели на зрителей с веселым лукавством – так и чудилось, что они вот-вот подмигнут, губы, пожалуй, чуть-чуть чувственно-пухлые, готовы были сложиться в беззаботную улыбку, розовые щеки обрамлялись пышными рыжеватыми бакенбардами, каштановые волосы ниспадали на лоб крутыми завитками, но слишком низко, словно оригинал портрета гордился своей красотой много больше, чем умом. На что, возможно, у него были веские причины, хотя он и не производил впечатление глупца.
Я разглядывал портрет не более двух минут, как в комнату вернулась ее прекрасная хозяйка.
– По поводу картин, – сказала она, извиняясь за то, что так неожиданно нас покинула. – Он подождет.
– Боюсь, я позволил себе некоторую дерзость, – сказал я, – решившись посмотреть картину, которую художник повернул к стене. Но нельзя ли спросить…
– О да, сэр, это дерзость, и неизвинительная, а потому не задавайте никаких вопросов, так как ответа на них вы не получите, – перебила она, стараясь улыбкой смягчить свой упрек. Но блеск в ее глазах и краска на щеках показывали, что она рассердилась не на шутку.
– Я хотел только спросить, вы ли его написали, – сказал я обиженно, протягивая ей портрет.
Он выхватила его у меня, быстро поставила на прежнее место лицом к стене, загородила портретом Артура и со смехом повернулась ко мне.
Но меня разбирала досада, и, отойдя к окну, я уставился на унылый сад, а когда они с Розой поговорили минуты две-три, объявил моей сестрице, что нам пора, ласково пожал руку Артуру, холодно поклонился его матери и направился к двери. Однако миссис Грэхем, попрощавшись с Розой, протянула мне руку и сказала ласковым тоном с милой улыбкой:
– Да пройдет ваш гнев до захода солнца, мистер Маркхем! Мне очень жаль, что моя резкость вас обидела.
Когда дама просит извинения, сердиться на нее невозможно, и мы расстались добрыми друзьями – на этот раз я пожал ей руку сердечно, а не злобно.








