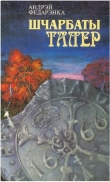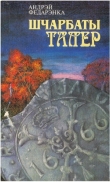Текст книги "Маришкин талер"
Автор книги: Енё Тершанский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Енё Йожи Тершанский
Mаришкин талер
Старая Маришка с дочерью и с двумя внучатами жила в Убогой лачуге у подножия холма с виноградниками. Чем жил, спросите? Милостыней, а еще тем, что удавалось после страды подобрать в саду, в поле или, не без того, стащить и продать. Неизвестно, в общем, на что они жили. Только факт, что в неделю раз, если не два, мать и дочь напивались так, что хоть выжми.
Из ребятишек один был светлый, второй – чернявый. Отцы у них были разные. У старшего – белокурый мясник, у младшего – черноволосый шахтер с искалеченной рукой. Дочь Маришкину оба бросили потому, что уж очень она пила, все с себя до рубашки пропивала.
Старший из мальчиков, Яника, в школу уже ходил. То есть – ходил бы, да так как-то получилось, что обуть ему было нечего. И получилось это как раз перед рождеством. Бедняга два дня, сидя дома, горько плакал, особенно когда девчонка соседская рассказала, что для детей бедняков приход устроит в субботу утром елку и там будут раздавать одежду и, наверное, еще что-нибудь.
– Ну не реви, принесу я тебе, обязательно принесу чего-нибудь на ноги, а вы тут пока поиграйте вдвоем.
И с тем бабушка в среду утром отправилась на базар.
– Плинесет она, как же, знаю, как вчела плинесла, пьянь палшивая. Чтобы их челти задлали! – всхлипывал Яника и, измученный нетерпением, одолеваемый то неверием, то надеждой, выбегал босиком из теплого дома на снег, поглядеть, не идет ли бабушка. Переживания истерзали бедного, он и про игру даже думать не мог, братишку побил, когда тот его в бабки позвал играть, а потом кошку принялся мучить, так что она орала дурным голосом, и все бегал и бегал на улицу.
Старой Маришке тоже было не слишком радостно на базаре. На продажу нашлось у нее всего-навсего чабреца немного, выручила она пятнадцать крейцеров. Холодно было, ветер дул, базар был неважный, на душе у Маришки кошки скреблись. Больше всего тревожила ее забота о Янике. Совсем она голову сломала, придумывая, как достать сапоги внучонку. К кому пойти, кто согласился бы ей помочь? Лишь о том она как-то не вспоминала, что целое лето, едва только грошик какой-нибудь перепадет, в тот же момент они с дочерью тратили его на палинку, а там хоть трава не расти. Ну, она ладно, старая дура, ей простительно, но дочь-то, корова ленивая…
На пятнадцать крейцеров купила она хлеба. Отломила себе краюшку, остальное дочери отдала, пусть домой отнесет, а сама она будет ходить, пока не достанет мальчишке какую-нибудь обувку.
– Я дак уж и не знаю, где искать, – с лицемерной рожей сказала дочь. – Да и мне за дровами еще идти. Вы уж, мама, постарайтесь найти что-нибудь для бедняжки, а то я прямо не знаю…
Врала она все. Целых четыре монеты у нее было в кофту завязано, да она себе думала: пускай старая ходит, клянчит, добрые люди, глядишь, ей и так ради Христа подадут.
Примерно то же думала про себя старая Маришка, пока брела, сама еще не зная куда, из зеленного ряда. Для начала решила она поглядеть у старьевщиков. И чуть ли не сразу же видит: на куче всякого барахла выставлены сапожки. Взяла она в руки их, повертела. Сапоги почти совсем целые, и размер – точь-в-точь на Янику. Стала торговаться. Цыганка свою последнюю цену назвала: ровно пенгё. Маришка же восемьдесят крейцеров хотела, да не вышло. В конце концов сказала она цыганке: ладно, ей надо подумать, а сапоги пускай подождут до обеда, она за ними придет.
– Ай, золотая моя, – сказала цыганка, – не дождусь я тебя здесь. Сейчас складываться начну. Коли до тех пор не продам, ко мне домой приходи, там и возьмешь.
– Ладно, будь по-твоему, – пошла Маришка прочь, сама не ведая, зачем она цыганке так долго голову морочила, только время потратила зря. Где возьмет она целое пенгё?
Потом, раскинув мозгами, решила Маришка попытать счастья у Кормошихи. Там ее знают давно, к тому же у Кормошихи сынок точно такой, как их Яника. Быть не может, чтобы не нашлось у нее старых каких-нибудь башмаков. Правда, еще летом взяла у нее Маришка двадцать крейцеров, взяла с тем, что на другой день принесет прутиков для левкоев. Но потом позабыла свое обещание и с тех пор, а тому уж три месяца, так и не вспомнила. Э, теперь все одно. Может, и Кормошиха успела забыть насчет прутиков?… Вот так и шла, утешая себя, Маришка. О той удаче, что ее ожидала, она, конечно, и думать не думала.
Когда поведала она Кормошихе, с какой к ней заботой пришла, та принялась изо всех сил прибедняться:
– Миленькая, я бы с радостью помогла, да нету у нас ничего, ей-богу. У Белушки только пара расхожих ботиночек да выходных пара. Если бы было, я бы с радостью, да теперь и у нас…
Маришка испугалась уже, что та начнет ей свои несчастья рассказывать. Но был там один высокий такой, красивый молодой человек, он к ним в гости приехал на праздник. И вот барчук этот без лишних слов вытаскивает из кармана талер и отдает его Маришке.
– Держите! Купите мальчику обувь. – А сам быстро прячет за спину руки, пока Маришка целовать их не кинулась.
Маришка ног под собой от счастья не чуяла, когда выходила на улицу. Встала она посреди дороги, посмотрела на талеру себя в кулаке, потом подняла глаза к небу.
– О господь милосердный, вседержитель небесный, не оставляешь ты добротой своей бедного человека. Знаю, ради ребенка невинного творишь ты благо свое, ради него одного… – И вот уже до конца стал понятен ей промысел божий. – А иначе – зачем?… Зачем, кто скажет, велела бы я цыганке сапожки оставить? О чудо, чудо небесное!
Так она шла по улице и разговаривала сама с собой. Пока лукавый вдруг не шепнул ей кое-что на ухо. И теперь она уже про себя рассуждала:
– А может, отдаст-таки мне цыганка сапожки за восемьдесят? Тогда бы к этой краюшке купила я жареного мясца да горячительного стаканчик. Ведь что такое двадцать-то крейцеров? Разве деньги? Не деньги это, коли есть еще восемьдесят. Так она, споря сама с собой, топталась в нерешительности перед пивнушкой, когда кто-то вдруг окликнул ее сзади. Глядит она, а там баба одна, старая ее знакомая из деревни.
– Куда путь держишь, Мариш? – спрашивает ее баба. – Никак в пивную? Пошли-ка лучше со мной в погребок, я угощаю. Вон я тебя как давно не видала. И вообще надо отметить, я нынче двух поросят продала.
Сказано – сделано. Она Маришке и мяса купила у уличного торговца, и в погребок ее повела. Было там тепло, мясо очень утешило Маришку, и вино хорошо пошло. Выпили они, со свиданьицем-то, от души, так что, когда из густых испарений веселого погребка вышли на свежий воздух и Маришка с благодарностями, с поклонами распрощалась со своей деревенской знакомой, пришлось старой хорошо оглядеться по сторонам, чтобы сообразить, в ту ли она идет сторону. Да и куда вообще-то она собиралась?
Очень было приятно чувствовать, как под морщинистой кожей ходят теплые волны от выпитого вина. А уж когда она вспомнила снова про талер!.. Не устояла Маришка, вынула из-за пазухи грязный холщовый мешочек, вытряхнула монету в ладонь и опять подняла глаза к небу.
– О господь милосердный, на небеси пребывающий, безмерна твоя доброта, не оставляешь ты ею бедных чад твоих. Знаю, знаю, ради дитяти невинного, только ради него… – и теперь, во второй уже раз, прояснился в ее голове божий промысел. – А иначе – зачем?… Зачем, растолкуйте мне, не позволил он разменять этот талер… и даже толику его потратить? Нет, он воздал мне так, чтобы талер весь внучонку достался. – И, сложив перед грудью ладони, она благоговейно смотрела на небо.
Только вот в городке нынче скверные времена наступили для пьяниц. Вместо прежних миляг гайдуков за порядком следят теперь суровые, неумолимые жандармы, и дан жандармам строгий приказ: кто на улице колобродит, на ногах нетвердо стоит, тех безо всякого якова – в каталажку. Старая Маришка же от молитвенного усердия равновесие потеряла, едва удержаться смогла, навалившись на ближайшую стену, и случилось все это, на ее беду, как раз тогда, когда на нее был направлен неподкупный жандармский взгляд. Словом, как ни божилась, ни зарекалась она, отвели ее тут же в участок.
День был базарный, так что в каталажке собралась уже теплая, благоухающая компания. Иные храпели вовсю на полу, кто-то шумел, недовольный несправедливостью, другие ворчали и причитали, двое бродяг спокойно беседовали, сидя на лавке.
– Цыц у меня! – рявкнул фельдфебель на Маришку, когда она собралась было рассказать ему про внучонка и про сапожки, которых он ждет не дождется, а заодно и про деревенскую свою знакомую и про божий промысел. Так что пришлось ей на том успокоиться и терпеливо ждать вечера. Вечером ее должны были выпустить. Только Маришка как раз задремала от скуки, пригревшись в углу, и гайдук, поглядев на нее, не стал беспокоить старую. Так и осталась она ночевать с теми, кто должен был дожидаться в каталажке утра.
Начинало светать, когда она оказалась на улице. В церквах звонили к заутрене.
«Не продала цыганка сапожки-то? – бредя по улице, думала Маришка. – Вдруг продала?… Ничего, там, у цыган, и другие можно найти. Не у одного, так у другого. Может, еще и дешевле купить удастся…»
Зябко Маришке было, в животе – пусто, во рту – скверно. И опять шепнул ей лукавый: зашла бы ты вон хоть в ту лавку, шкалик бы опрокинула, бубликом бы заела. Сапожки ведь можно найти и дешевле. А если не продала цыганка вчерашних сапог, так еще, поди, и уступит немного…
В лавке стоял такой шум, что с улицы было слыхать. Прогуляв всю ночь напролет, по дороге домой заглянули сюда, для поправки здоровья, помощник судебного исполнителя – новый в городке человек, пока холостой, – не ним бухгалтер из налоговой конторы – этот женатый. Они как раз возле стойки угощались абрикосовой палинкой. Господин бухгалтер здоровье свое напоправлял до того, что уж и говорить не мог, лишь бормотал что-то. Сидел он возле стойки на табуретке, время от времени падая носом на бидон с селедкой, и все домой идти порывался, все жену поминал. А у судебного следователя настроение было как раз самое радужное. Шутки из него так и сыпались, и каждая была лучше, смешнее, чем предыдущая. Во всяком случае, сам он хохотал так, что физиономия у него была уже свекольного цвета. Ну и лавочника рассмешил изрядно: тот даже в подсчетах сбился и вместо семи записал господину бухгалтеру, за чей счет шло веселье, целых пятнадцать рюмок палинки.
Тут и вошла в лавку Маришка. Судебный исполнитель, увидев ее, еще пуще развеселился.
– Ну что, старая? Тебе чего надо? Согреться, поди, захотела? Эй, налей даме, Клейн, я угощаю! Ты, бабуся, какую прел почитаешь? Что-нибудь этакое, чем ворота запирают?… Ну еще разок! Угощай даму, Клейн! Что? Лучше бы скушали что-нибудь? Ну-ну, поглядим-ка, что тут у нас имеется! Салями, селедочка… Вот! Держи-ка, – и он вытащил из бидона за хвост две селедки. – Рыбку, старая, любишь? Вот и бублик тебе. А может, еще разок дернешь? А? Как?… Рюмку, Клейн, быстро!
Маришка с готовностью подчинялась.
– Хорошее настроение у их милости… Любят, видать, бедного человека, – объяснила она себе неожиданную удачу и посмеиваясь, уселась в сторонке со своими селедками.
А господину бухгалтеру очень приспичило уже домой. Никакие остроты не могли его расшевелить. Куда деваться: пришлось судебному исполнителю отправиться с ним. Да еще по-дружески держать его на улице под руку, потому что он не столько шагал, сколько спотыкался. А у приятеля его как раз молодечество взыграло, да так, что и не уймешь.
– Ах ты, господи боже, ну что ж это такое? – с досадой корил он повисшего на нем господина бухгалтера. – Ведь мы же с тобой к заутрене собирались… А потом ты хотел бубликов купить жене!..
– Пра-шу в письменном виде, – ответил ему господин бухгалтер, которому чудилось, что какой-то клиент умоляет освободить его от налога.
– Ого-го-го! – вдруг заорал во всю глотку судебный исполнитель и принялся колотить палкой по закрытым ставням спящего дома, возле которого они находились. – О-го-го! Подымайтесь, черт вас подери, и быстро к заутрене! А ты, цифирька, не спать мне, в храм божий идешь, не куда-нибудь!.. Пускай нам этот кантор вонючий на органе сыграет:
Едет поезд, едет поезд
Из Канижи,
из Канижи, из Канижи
к нам на мессу.
Машинист
глядит в окошко…
Гей, гей, гоп!
Едет, едет, едет, едет
к нам на мессу…
а каждый такт он дергал за локоть ничего уже не соображающего господина бухгалтера и при этом – бум! бум! бум! – колотил палкой по закрытым ставнями окнам.
А тем временем по переулку, направляясь на главную улицу медленно брел жандарм. Брел он, брел себе, иногда останавливался, оглядывал окружающие дома, не спеша скручивал цигарку, тер ладони – скучал, одним словом. В переулке этом, отсюда недалеко, была у него зазноба, одна белокурая горничная-Сегодня он еще не видел ее с утра. Кругом тишина, кругом полный порядок, два дня уже никаких происшествий, бродишь только без дела, время теряешь… И вдруг слышит он развеселые вопли и грохот палки по ставням. «Ага, пьяный дебош!» И он решительным шагом направляется в ту сторону, откуда поносится шум. Хоть пару затрещин отвесить кому – все какое-то развлечение. Руки совсем вон закоченели… Правда, спешить он совсем не спешил. Заранее предвкушал, какой будет сюрприз забулдыгам, когда он появится у них за спиной. То-то рты разинут, мерзавцы! Сразу присмиреют, как барашки…
И, выйдя из переулка, узнал дебоширов. Господин судебный исполнитель, а с ним этот… как его… свояк секретаря управы… домой, видать, направляются… Домой изволят идти…
Глянул он еще раз им вслед, подумал-подумал немного – и повернул назад, в переулок.
Тем временем Маришка тоже вышла из лавки. «Ну и ну!..» – удивилась она, чуть не растянувшись прямо у выхода: совсем позабыла, что тут еще две ступеньки. Нельзя описать словами, как она себя чувствовала. Казалось ей, что, пока она была в лавке, на улицу опустился туман и туман этот тихо звенел, вроде бы пел даже. С детских лет еще помнила Маришка песню одну, про деву Марию и про дитя ее, младенца Иисуса, и вот сейчас эта песня звучала в ней, где-то совсем глубоко, и звучала вокруг нее, в воздухе, и слова в ней были все перемешаны: и ясли, и Яника, и сапожки, и пастухи, и блестящий талер. Если б не знала она, что горло ее осипло давным-давно, пожалуй, запела бы тоже, прямо сейчас. И в третий раз прояснился в ее голове божий промысел. Не удержалась она, чтобы снова не вынуть талер. Посмотрела, как он сияет в ее ладони, и опять возвела глаза к небу:
– О господь наш всемилостивейший, на небеси восседающий, не оставляешь ты в горе несчастных рабов твоих. Ведь опять же, зачем? О, зачем не позволил ты мне разменять этот талер, если не из великой благости своей? Пускай весь, нетронутый достанется он мальчонке. Снова дал мне бог вкусить от щедрости своей. О чудо небесное! О драгоценный господь наш спаситель!.. Привалилась она на минутку к каким-то воротам, чтобы всласть помолиться. А когда молитву закончила и собралась идти дальше, не отпустили ее ворота. Удержали, будто невидимым клеем: только хочет она идти, сразу обратно валится, и опять валится, и опять…
А жандарм тем временем снова вышел из переулка, «Ага – подумал он, увидев Маришку, – все-таки есть кое-что…» Улов правда, не бог весть какой, да все равно он уже собрался в участок, погреться, в утреннюю газету к ефрейтору заглянуть, а так по крайней мере и повод будет.
Словом, опять Маришка в каталажку попала. На этот раз была она там одна. Только пригрелась было и задремала чуть-чуть в уголке, как входит ефрейтор.
– Эй, это еще что такое? Ты опять тут? – и вопросительно смотрят на гайдука. – А? Ковач! Да? Керестури ее привел?
– Ваша милость, целую ручки, дозвольте великодушно…
– Цыц! Ковач! Дай-ка ей веник, пусть подметет. И заодно в коридоре. Пьяная свинья!..
Что оставалось Маришке делать? Побрызгала она пол, вымела и дежурную комнату, и камеру, и коридор, под конец даже немного во дворе подмела перед входом. А только управилась, тащит ей гайдук с чердака ворох всякой одежды: ментиков, брюк, жилетов, вперемешку новых и в пятнах, старых, но всех одинаково пыльных.
– Вот тебе щетка. И чтоб все было честь по чести!
– Дозвольте нижайше, ваша милость…
– Цыц! Нечего сложа руки сидеть!
Дело уж к вечеру шло, а одежды нечищеной больше половины еще оставалось. «Пойду, – подумала старая Маришка, – пойду к нему снова, пусть хоть убьет меня господин гайдук, а попрошу его, чтоб отпустили, мальчонка-то со вчерашнего дня, бедный, сапожек ждет, завтра утром будут детишкам подарки давать…»
В участке народу набилось, яблоку негде упасть. Гайдуки, жандармы, дворники. Как раз ввалилась куча возчиков, отчитаться о какой-то работе по городу. И занимался с ними Маришкин гайдук. Сидел он за столом, к ней спиной, и записывал, что ему возчики говорили по очереди. Рядом другой гайдук стоял, смотрел, как он пишет. У того под мышкой были бумаги какие-то, целая пачка в грязной холстине. Он только вернулся из города, ходил разносить.
– Как же мне его позвать-то сейчас? – колебалась Маришка. Но когда она уже собиралась обратно уйти к своим ментикам, гайдук-разносчик заметил ее за спинами и подошел к ней, думая, что она с улицы.
– Тебе чего тут? – рявкнул он на нее.
– Очень нижайше прошу, ваша милость…
– Брысь отсюда! У нас не подают!
– Да я, ваша милость, только прошу нижайше…
– Брысь, говорю! Убирайся, пока в кутузку не посадили! – гаркнул на нее гайдук и, открыв дверь, вытолкал Маришку взашей.
Сделал он это по доброте душевной, полагая, что она пришла побираться и по незнанию забрела в такое место, где ее вполне могут наказать за попрошайничанье без разрешения.
Так опять оказалась Маришка на свободе. Правда, промысел божий стал ей казаться уже немножечко странным, и, бредя по улице прочь, она теперь бормотала что-то насчет дурного сглазу: ведь это же надо, какие чудеса с ней творятся, не иначе как дело нечисто… В самом деле, даже зимнее солнце, перед тем как уйти на покой, изливало на все вокруг непривычный какой-то, зловеще желтый свет, отчего все темное: подворотни, двери в подвал, отверстия сеновалов – казалось аспидно-черным, а светлое: беленые стены, снег – полыхало слепящим» сиянием, и потому вокруг было как-то тревожно и беспокойно. Даже мутная, пенистая вода в канаве у мельницы убегала под арку моста, словно холодный и злобный зверь, торопящийся спрятаться от человеческого взгляда.
Маришка больше уж не раздумывала, куда ей пойти. Она двинулась прямиком в цыганскую слободу и через короткое время уходила оттуда с сапожками. Ни полгроша не уступила ей цыганка, так что Маришке нечего было теперь и мечтать съесть какой-нибудь бублик – это с утра-то! – и пропустить стаканчик спиртного. И все же она шла домой, чувствуя на душе странную, незнакомую легкость. Время от времени она поднимала сапожки, любовно оглядывала их со всех сторон, потом возводила глаза к небу. И, не останавливаясь уже, на ходу возносила благодарственную молитву:
– О господи всеправедный, милосердный, на небеси обитающий, не оставил ты нас, бедных слуг твоих, добротою своею. Знаю, не ради меня, а ради дитяти малого…
А все же не слишком-то ей хотелось думать о том, что она скажет дома. Где была со вчерашнего дня?… Сапоги, вот они, это верно. И еще расскажет, как трижды господь совершил с нею чудо… Только насчет каталажки хотелось ей как-нибудь промолчать. Пусть только дочь попробует вякнуть! Она тоже найдет, чем ей нос утереть…
Не так давно имение по соседству купила одна богатая деревенская баба, и был у нее сын, молодой, восемнадцати лет, парнишка. Вот этот парень в последнее время и завел шуры-муры с дочерью Маришки. А вернее, шуры-муры она с ним завела, потому что уж очень он был недотепа еще, прямо теленок.
– Ага… – Маришка даже остановилась вдруг посреди дороги. – Вот, стало быть, зачем ты за дровами да за дровами в лес шастаешь. Хахаль твой там тебя поджидает. – Маришка разозлилась всерьез, будто уже с дочерью препиралась. – Ах ты!.. Мало тебе двоих, ты еще и от этого в подоле норовишь принести… Ишь! На желторотого ее потянуло! – И она, сердито хмыкая, вытерла закоченевшей рукой свой нос, который совсем покраснел от холода.
Уже почти совсем стемнело. Засветилась над лесом первая звездочка, и вот за поворотом дороги, среди черных, голых, как раздерганная метелка, деревьев, у подножия заснеженного холма показался их домик с двумя желтыми окнами.
Подойдя к дому, Маришка по привычке сперва заглянула в окошко. Парень в самом деле сидел там, на сундуке, с ухмылкой от уха до уха. Дочь же была вся в делах: как раз ставила на стол две кружки, одну жестяную и одну фарфоровую с отбитым краешком. А на столе между ними желтело полбутылки рома. Видела Маришка, дочь ее наклюкалась уже основательно. Добираясь от плиты до стола, качалась она, как осина под ветром, и что-то, жестикулируя, толковала парню. Даже снаружи слышно было, что язык у нее заплетается. А ухажер, что она ни говорила ему, знай себе улыбался. Чисто паяц балаганный.
– Ну-ну, поглядим немного, что будет! – сказала про себя Маришка. – Чай греет. Это ничего, это дело хорошее. Коли гость в доме, его привечать надо.
Дочь, прихватив передником, взяла с плиты дымящийся котелок. Поставила его на стол, поморгала, подмигнула парню, потом вдруг нашло на нее веселье: хлопнула она его по плечу и запела что-то по-румынски:
Яника, если бабушка правильно видела, спал. На обычном своем месте, в углу, лежа на драном полушубке, другим укрывшись.
И десяти минут не прошло еще, как он уснул. Со вчерашнего утра все выскакивал из теплого дома на снег, высматривать бабушку, и все больше в отчаяние приходил. То реветь принимался, то ругался последними словами, проклиная бабку, мать, пропащую свою жизнь, и при этом все сильнее кашлял, надрывно, нехорошо кашлял, из глубины груди, и кашель его звучал как-то надтреснуто, будто готовый развалиться горшок, если стукнуть его по донышку. Вечером, когда стемнело, он стал жаловаться, что мерзнет, что голова болит, и, как ни старался усидеть за столом, коленями встал на лавку, все же в конце концов лег. И теперь спал, красный, открыв рот, тяжело дыша. Рядом с ним и братишка был, но этот со сном пока в прятки только играл: приляжет, потом снова поднимется, разговаривает сам с собой, напевает что-то, с деревянной ложкой играет.
Когда Маришка открыла дверь, дочь оборвала песню и сначала долго разглядывала ее, будто не узнавая. Потом сказала:
– Где это вас черти носят!
Маришка ей не ответила, только на приветствие Микулая кивнула. Села на табуретку, поставила рядом с собой сапожки.
Микулай с этой минуты все не мог свои руки пристроить куда-нибудь. То ли их на сундук положить, то ли себе на колени, то ли просто свесить?… Дочь Маришки тоже ничего не придумала, кроме как спросить снова:
– Где вы были-то? Говорите же!
– Где надо, там и была! – буркнула старая и, видя, что Яника в самом деле спит, взяла сапожки и повесила их на гвоздь, на стену, чтобы мальчонка, проснувшись, сразу увидел их и обрадовался.
Дочь тем временем поставила на стол еще одну кружку, налила в нее чаю. Маришка посмотрела на кружку сердито: очень уж раздосадовала ее такая встреча. Но немного спустя она потянулась-таки за кружкой. Что-нибудь теплое в животе сейчас очень кстати. «Ну, храни бог», – сказала она. Чай, однако, был совсем еще кипяток, она только рот себе обожгла. Дочь, увидев это, захохотала.
Тут вдруг Яника заметался, замахал руками во сне, потом сбросил с себя полушубок, вскочил и, шатаясь, вышел на середину комнаты.
Очень стыдно было хозяйкам перед чужим человеком, что на мальчике только матроска драная, а ноги голые совсем…
Яника же затопал ногами, глаза мутные поднял и, словно умоляя о чем-то, жалобно заговорил, как застонал:
– Ой, глядите, ягненочек! Господи, в воду он упадет! Господи, не пускай его в воду. Унесет!..
На личике, в глазах у него стоял ужас. Потом он вдруг стих и оглядел всех вокруг.
– Дайте мне, Христа ради, немножко водицы попить!
Дали ему воды. Пил он жадно, долго. Но напрасно ему говорили, глянь-ка, мол, что на стене висит: сапожки, – он только головой тряс, а потом опять принялся умолять:
– Зачем вы ягненочка в воду, пускаете? Ой, не пускайте ягненочка в воду!
Кое – как его успокоили и уложили. Тяжело дыша, он опустил усталые веки.
И тут мать его, пьяная голова, принялась причитать во весь голос, волосы на себе рвать, упала возле мальчика на колени закричала, завыла… Никак не хотела оставить в покое бедняжку.
Глаза у Маришки засверкали бешеной яростью. Схватила она из угла палку гостя и – бац! бац! – принялась колотить дочь по голове, по спине.
– Ах ты, свинья, ах, шлюха! Что ты с ребенком сделала? Микулай тебе нужен?… – Била она ее куда ни попадя. Но тут и дочь бросилась на нее, сорвала с ее головы платок, обе упали на пол и катались там, вцепившись друг другу в волосы.
Младший сынишка, трясясь от ужаса, верещал изо всех сил Микулай, не будь дурак, сбежал, даже дверь за собой не закрыв Кошка спрыгнула с лавки и в испуге выскочила на улицу в неприкрытую дверь, следом за Микулаем. Только Яника лежал как лежал, ни о чем не желая знать, да сапожки мирно висели себе на стене. Висели они и на следующий день, когда для детей бедняков в приходе устроили елку.