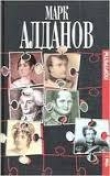Текст книги "Госпожа Сурдис"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
На следующий день Адель ни словом не обмолвилась о позорной сцене, произошедшей ночью. Фердинанд был очень смущен. С тяжелой головой, ощущая нестерпимую горечь во рту, он недоуменно таращил на нее глаза. Молчание жены увеличивало его смущение. Он не выходил из дому два дня и покорно, с усердием набедокурившего школьника, принялся за работу. Он решил наметить основные контуры своей картины и, обо всем советуясь с женой, всячески выказывал ей свое, уважение.
Адель была молчалива и холодна с ним, олицетворяя всем своим поведением безмолвный укор, но не сделала ни малейшего намека на то, что произошло в ту ночь.
Постепенно раскаяние Фердинанда смягчило ее, она стала вести себя, как обычно, ласково, безмолвно простив ему все. Но на третий день за ним зашел Ренкен, чтобы сопровождать его на обед в «Английское кафе», где они должны были встретиться с одним искусствоведом. Адель опять ждала своего мужа до четырех часов утра. Когда он, наконец, появился, над его левым глазом зияла кровавая рана, по-видимому от удара бутылкой, полученного во время драки в каком-нибудь притоне. Она уложила его и сделала ему перевязку. Выяснилось, что с Ренкеном он расстался на бульваре в одиннадцать часов.
С тех пор так и повелось. Если Фердинанда приглашали на обед или на ужин или он уходил вечером под каким-нибудь другим предлогом, возвращался он неизменно в ужасающем виде – вдребезги пьяный, покрытый синяками: от его растерзанного костюма распространялся отвратительный запах, в котором смешивались едкость алкоголя и мускус продажных женщин. Его разнузданный темперамент толкал его все ниже, в нем гнездились чудовищные пороки. Адель неизменно ухаживала за ним, не нарушая своего молчания. Она как бы одеревенела – ни о чем не спрашивала у него, никогда не оскорбляла его, как бы он ни вел себя. Она приготовляла ему чай, держала перед ним таз, обчищала его. Все она делала сама, никогда не будила служанку, стараясь скрыть то постыдное состояние, в котором находился ее муж. К чему стала бы она его расспрашивать? Всякий раз она с легкостью воспроизводила в своем воображении все перипетии драмы.
Напившись с друзьями, он остервенело метался по ночному Парижу, из одного кабаре в другое, заводя случайные знакомства и кончая ночь с женщинами, подобранными на улице. Возможно, что, отбив красотку у солдата, он необузданно наслаждался ею в грязи какого-нибудь вертепа. Иногда она находила в его карманах какие-то странные адреса, какие-то мерзкие обрывки – всяческие доказательства его дебошей, и она торопилась их сжечь, чтобы ничего не знать об этих гнусностях.
Когда лицо его было исцарапано женскими ногтями, когда он приходил к ней израненный и грязный, она делала над собой нечеловеческое усилие и обмывала его в величественном молчании, которое он не решался нарушить. Утром, после ночи, проведенной им в оргиях, а для нее полной страданий, он, просыпаясь, находил ее, как обычно, молчаливой, и сам не смел с ней заговорить. Казалось, обоим им снились страшные сны, а наутро жизнь продолжалась как ни в чем не бывало. Только один раз Фердинанд, невольно расчувствовавшись, бросился утром к ней на шею и, рыдая, лепетал:
– Прости меня, прости меня!
Но она недовольно оттолкнула его, притворяясь удивленной.
– Что ты хочешь этим сказать! Простить тебя?.. Ты ни в чем не провинился. Я ни на что не жалуюсь.
И Фердинанд чувствовал себя ничтожеством перед величием этой женщины, до такой степени владевшей собой, что она способна была замкнуться в своем упрямом отрицании его вины и как бы не замечала его безнравственного поведения.
На самом деле Адель жестоко страдала от отвращения и гнева, ее спокойствие было только позой. Недостойное поведение Фердинанда возмущало ее, оскорбляло ее человеческое достоинство, ее понятия о чести, религиозные правила, внушенные ей воспитанием. Ее сердце останавливалось, когда он приходил, пропитанный насквозь пороком, и тем не менее она вынуждала себя прикасаться к нему и проводить остаток ночи в атмосфере, насыщенной нечистыми парами его дыхания. Она презирала его. Но за ее презрением таилась чудовищная ревность к этим друзьям, к женщинам, которые возвращали его ей оскверненным, опустившимся. О, с каким наслаждением она увидела бы этих женщин подыхающими на панели. Она не могла понять, почему полиция не очищает с оружием в руках улицы от этих чудовищ.
Ее любовь к мужу не уменьшилась. Когда он внушал ей отвращение как человек, она восхищалась его талантом художника, и это восхищение как бы очищало его в ее глазах. Она доходила до того, что начинала оправдывать его поступки. Получив провинциальное воспитание, она верила легенде о том, что гений и беспутство неотделимы друг от друга.
Но сильнее, чем поругание ее женской деликатности и оскорбление ее супружеской нежности, Адель ранила его неблагодарность. Он всячески ее предавал, и самая горькая ее обида заключалась, пожалуй, в том, что он так небрежно относился к своим обязанностям художника, нарушал договор, который они заключили, – ведь она обязалась обеспечить их материальные нужды, а он должен был работать для славы.
Он не сдержал своего слова – это было неблагородно с его стороны, и она изыскивала способ, как бы спасти в нем художника, если уж никак невозможно было спасти человека. Она должна была собрать все силы, так как чувствовала, что ей предстояло руководить им как художником.
Не прошло и года, как Фердинанд почувствовал, что превращается в ее руках в ребенка. Адель подавляла его своей волей. В борьбе за существование мужским началом в их союзе была она, а не он. После каждого своего проступка, каждый раз после того как она ухаживала за ним без тени упрека, с какой-то присущей ей суровой жалостью, он становился все покорнее, низко склоняя голову, догадываясь о ее презрении. Их отношения исключали возможность лжи. Она была сильна духом, умна, честна, а он дошел до полного падения. Самое большое страдание доставляло ему ее молчаливое презрение, оно подавляло его сильнее всего. Адель обращалась с ним как холодный судья, который все знает и простирает свое пренебрежение до прощения, не снисходя до увещания виновного, как будто малейшая возможность объяснения между ними нанесла бы непоправимый удар их супружеству. Она не объяснялась с ним, чтобы не унизиться, чтобы не опуститься до него и не испачкаться в грязи.
Если бы она когда-нибудь вышла из себя, если бы она посчиталась бы с ним за его измены, если бы она проявила свою женскую ревность, он, несомненно, страдал бы гораздо меньше. Если бы она унизилась перед ним, она тем самым подняла бы его. Каким ничтожным чувствовал он себя, просыпаясь после очередного дебоша, раздавленный стыдом, уверенный, что она знает все и не удостаивает его жалобами!
Картина все же подвигалась. Он понял, что талант остается его единственным прибежищем. Когда он работал, Адель становилась по-прежнему нежной и заботливой; она склоняла перед ним как перед художником свою гордость, она почтительно изучала его творение, стоя сзади него, когда он работал.
Чем лучше он работал, тем больше она подчинялась ему. Тогда он становился снова хозяином положения, он опять занимал в супружестве то место, которое надлежало ему занимать как мужу. Но непреодолимая лень одолевала его. Когда он возвращался разбитым, как бы опустошенный той жизнью, которую вел, руки его становились дряблыми, он колебался и, утратив былую свободу в выполнении своих творческих замыслов, уже не дерзал в искусстве.
Иногда по утрам он чувствовал полную неспособность к чему бы то ни было, а это приводило его в какое-то оцепенение. Тогда он без толку топтался весь день перед своим мольбертом, хватался за палитру и тотчас же отбрасывал ее, и, не подвигаясь в работе, приходил в бешенство. Или он засыпал на кушетке и пробуждался от этого нездорового сна только к вечеру с чудовищной мигренью. В такие дни Адель наблюдала за нам молча. Она ходила на цыпочках, чтобы не обеспокоить его и не вспугнуть вдохновение, которое должно было явиться, – она в этом не сомневалась. Она верила в эго вдохновение, представляя его себе каким-то невидимым пламенем, которое проникает к смертным и нисходит на голову избранного им художника. Бывали дни, когда она сама падала духом, и глубокая тревога овладевала ею при мысли, что Фердинанд – ненадежный компаньон, которому грозит банкротство.
Наступил февраль. Приближалось время выставил в Салоне, а «Озеро» все еще не было закончено. Большая часть работы была сделана, полотно полностью подмалевано, но только некоторые детали были вполне выписаны, а остальное еще представляло первозданный хаос. Невозможно было выставлять картину в таком виде. Это был набросок, а не законченное произведение мастера. Недоставало четкости в выявлении замысла, гармонии в соотношении рисунка и цвета. Фердинанд не двигался вперед, он разменивался на детали, уничтожал вечером то, что писал утром, топтался на месте, терзал себя за свое бессилие.
Однажды в сумерки Адель возвратилась домой после длительного отсутствия и, войдя в неосвещенную мастерскую, услышала, что кто-то рыдает. Она увидела своего мужа, он сидел на стуле перед картиной, беспомощно опустив руки.
– Ты плачешь? – взволнованно спросила его Адель. – Что с тобой?
– Нет, нет, ничего… – бормотал Фердинанд.
Целый час сидел он так, тупо уставившись на свое полотно, где он уже ничего не мог различить. Все смешалось в его помутившемся сознании. Его творение представлялось ему жалким и бессмысленным нагромождением нелепостей. Он чувствовал себя беспомощным, слабым, как ребенок, совершенно бессильным упорядочить это месиво красок. Потом, когда сумерки, сгущаясь, скрыли от него полотно, когда все – даже самые яркие тона – погрузилось в темноту, как в небытие, он почувствовал, что умирает, подавленный безысходной тоской. И он разразился громкими рыданиями.
– Ты плачешь, я ведь чувствую, – повторяла молодая женщина, коснувшись руками его лица, по которому катились обильные слезы. – Ты страдаешь?
Он не в состоянии был ответить ей, рыдания душили его. Тогда, забывая о своем глухом сопротивлении, сдаваясь перед охватившей ее жалостью к этому несчастному, который осознал всю безнадежность своего положения, она по-матерински прижала его в темноте к своей груди. Это и было банкротством.
III
На следующий день Фердинанд должен был уйти из дому после завтрака. Вернувшись через два часа, он, как всегда, погрузился в созерцание своего полотна. Вдруг он воскликнул:
– Послушай! Кто это работал над моей картиной? С левой стороны полотна кто-то закончил уголок неба и крону дерева.
Адель, делая вид, что поглощена работой над одной из своих акварелей, ответила не сразу.
– Кто же мог позволить себе это? – скорее удивленным, чем рассерженным тоном продолжал он. – Уж не Ренкен ли?
– Нет, – оказала, наконец, Адель, не поднимая головы. – Это я забавлялась… Только фон… какое это имеет значение?
Фердинанд принужденно засмеялся.
– Вот как! Значит, ты уже сотрудничаешь со мной? Колорит вполне подходит, только вот там надо приглушить свет.
– Где это? – спросила она, вставая из-за стола. – А… на этой ветке…
Адель взяла кисть и исправила, как он оказал. Он наблюдал за ней. Через несколько минут он начал советовать ей, что надо делать, как учитель ученику, а она слушала и продолжала писать небо. Более определенного объяснения между ними не последовало. И все же без слов было ясно, что Адель берется закончить фон картины. Срок истекал, надо было торопиться. Фердинанд лгал, сказываясь больным, а она вела себя так, как будто не замечала его лжи.
– Так как я болен, – повторял он каждую минуту, – твоя помощь очень облегчает дело… Фон не имеет решающего значения…
С тек нор он привык видеть ее за работой перед своим мольбертом. Время от времени он вставал с кушетки, подходил к ней, зевая, и делал какое-нибудь замечание, иногда даже настаивал, чтобы она переделала тот или иной кусок.
Он был очень требователен в роли учителя.
Ссылаясь на усилившееся недомогание, Фердинанд решил, что Адель может работать над фоном, не дожидаясь того, когда он закончит передний план: это, говорил он, облегчит ему работу, он яснее увидит, что еще не завершено, и дело пойдет быстрее.
Целую неделю Фердинанд бездельничал, подолгу спал на кушетке, в то время, когда его жена, как всегда молчаливо, простаивала с утра до вечера перед мольбертом.
Наконец он решился и принялся за передний план.
Но он заставлял ее стоять около него. Когда он терял терпение, она ободряла его, заканчивала едва намеченные им детали.
Часто Адель отправляла мужа подышать свежим воздухом в Люксембургский парк. Ведь ему нездоровится, он должен щадить свои силы, ему вредно приходить в возбужденное состояние, нежно уговаривала она его.
Оставшись одна, она наверстывала время, работая с чисто женским упорством, не стесняясь захватывать и передний план. Фердинанд был в таком изнеможении, что не замечал, как подвигалась ее работа в его отсутствии, или во всяком случае не говорил об этом, – как будто думал, что картина двигается вперед сама собой.
В две недели «Озеро» было закончено.
Но Адель не была удовлетворена результатом своих усилий. Она прекрасно понимала, что чего-то недостает. Когда Фердинанд, вполне успокоившись, нашел, что картина превосходна, она приняла его заявление холодно и неодобрительно покачала головой.
– Чего ж ты хочешь в конце концов? – вспылил Фердинанд. – Не убиваться же нам над ней.
Адель хотела, чтобы в картине отразилась его творческая индивидуальность. Ей понадобилось все ее неистощимое терпение, вся ее воля для того, чтобы вдохнуть в него энергию.
Еще одну неделю она неотступно мучила его, разжигая в нем былое творческое горение. Она не выпускала его из дому, опьяняла и воодушевляла своими восторгами. Когда она чувствовала, что он воспламеняется, она насильно вкладывала кисть в его руку и держала его часами перед мольбертом, изыскивая все новые средства – ласками, лестью, спорами – поддерживать в нем творческое возбуждение.
Таким образом она заставила Фердинанда переписать всю картину. Вновь обретенными мощными мазками он преобразил живопись Адели – внес в картину ту непосредственность таланта, которой не хватало ее мастерству. Это было почти неуловимо, но оживило все. «Озеро» стало не ремесленно выписанным полотном, но подлинным творением художника.
Адель пришла в восторг. Будущее вновь сулило успех.
Теперь она всегда будет помогать мужу, потому что длительная работа утомляла его. Помогать ему – вот в чем тайный смысл ее жизни. Мысль о том, что она станет ему совершенно необходима, наполняла ее надеждой на счастье.
Однако она заставила его в шутку поклясться, что он никому не расскажет об ее участии в работе над картиной. Ведь сделала она так ничтожно мало, и разговор об этом будет только понапрасну смущать ее.
Фердинанд с удивлением согласился. Он не только не чувствовал зависти к ее таланту, но, напротив, говорил всем, что она лучше, чем он, владеет мастерством живописца, и это соответствовало истине.
Когда Ренкен пришел посмотреть «Озеро», он буквально онемел от изумления, потом чрезвычайно торжественно начал восхвалять своего молодого друга.
– Безусловно, мастерство здесь выше, чем в «Прогулке», – говорил он, – здесь достигнута невообразимая легкость и тонкость в передаче воздуха, и первый план приобретает благодаря этому невероятную выразительность… Да, это прекрасно, это неподражаемо!..
Он явно был изумлен, но не говорил о подлинной причине своего изумления. Этот дьявольский Фердинанд совершенно сбивает его с толку: никогда Ренкен не предполагал, что Фердинанд может до такой степени овладеть мастерством. В картине появилось нечто совсем иное, чего никак нельзя было ожидать от Фердинанда.
И вое же он предпочитал «Прогулку», хотя и не говорил об этом вслух. «Прогулка» была сделана небрежнее, со многими шероховатостями, но там была печать ничем не стесняемой индивидуальности. В «Озере» талант художника окреп и развился, и тем не менее в новом произведении не было того обаяния, как в первом. В «Озере» чувствовалась банальность ремесленных навыков, стремление к красивости, почти слащавость.
Эти мысли не мешали Ренкену повторять, уходя:
– Поразительно, мой милый… Вы будете иметь сногсшибательный успех…
Он не ошибся. Успех «Озера» превзошел успех «Прогулки». Женщины просто млели от восторга. Картина представлялась им верхом изящества. Коляски катились в солнечных лучах, солнце отражалось на колесах. Прелестно одетые фигурки выделялись светлыми пятнами на зелени леса – все это пленяло зрителей, которые привыкли смотреть на живопись, как на ювелирную работу.
Более строгие ценители, те, кто требует от художественного произведения силы воздействия и художественной правды, были пленены зрелым мастерством, глубоким знанием приемов живописи, изысканной техникой.
Картине была присуща какая-то особая, несколько претенциозная грация, и она-то главным образом покоряла публику. Все отзывы сошлись на том, что Фердинанд Сурдис достиг в своей новой работе еще большего совершенства.
Только один-единственный критик, человек резкий, которого все ненавидели за то, что он открыто говорит правду, осмелился заявить, что если художник будет продолжать усложнять и одновременно смягчать свою манеру письма, то не пройдет и пяти лет, как он окончательно погубит свой выдающийся талант.
На улице Дассаса царила радость. Это была не неожиданная радость первого успеха, но чувство уверенности в окончательном признании художника, как бы посвящение его в ряды первоклассных мастеров современности.
К тому же материальное благосостояние Сурдисов упрочилось. Заказы сыпались со всех сторон. Даже самые маленькие этюды художника раскупались нарасхват, – их оспаривали друг у друга, не жалея никаких денег. Приходилось опять приниматься за работу.
Все эти успехи не вскружили голову Адели. Она не была скупей, но знала цену деньгам, так как была воспитана в традициях строгой провинциальной бережливости. Вот почему она тщательно следила за тем, чтобы Фердинанд исполнял принятые им обязательства. Она вела запись заказов, ведала всеми расчетами, помещала деньги в банк.
Самое большое внимание она уделяла своему мужу – держала его под неусыпным надзором.
Она установила для него точный распорядок дня: столько-то часов на работу, столько-то на отдых. Всегда сдержанная, молчаливая, она вела себя с неизменным достоинством. Фердинанд трепетал перед ней, она пользовалась у него огромным авторитетом, – ведь он пал так низко, и только она спасла его.
Несомненно Адель оказала ему неоценимую услугу. Без ее твердой воли, которая одна его поддерживала, он окончательно опустился бы, без нее он никогда не создал бы тех полотен, которые появились в течение ближайших лет.
Она была его лучшим «я», его силой, его опорой. Но страх, который она ему внушала, не мешал ему совершать порой прежние проступки. Так как она не удовлетворяла его порочные наклонности, временами он убегал от нее и предавался самому низкому распутству. Возвращался он всегда больным и дня три-четыре не мог прийти в себя.
И всякий раз, возвращаясь, он как бы давал ей новое оружие против себя. Она уничтожала его презрением, подавляла холодностью. Чтобы загладить свою вину, он неделями не выходил из дому, стоя за мольбертом.
Раскаяние и смирение мужа, купленное такой дорогой ценой, не радовало ее: как женщина, она слишком страдала от его измен. И все же, чувствуя приближение кризиса, глядя на его мутные глаза, лихорадочные движения и понимая, что его обуревают страсти, которые он не способен обуздать, она испытывала бешеное желание вытолкать его на улицу и скорее получить обратно расслабленным и инертным. Тогда она, женщина некрасивая, но обладающая сильной волей, своими короткими ручками будет лепить из него, как из податливой глины, все, что ей вздумается. Она сознавала свою женскую непривлекательность – цвет лица у нее был свинцовый, кожа жесткая, кость широкая. И она утешала себя только сознанием, что, после того как ласки прелестниц приведут ее красавца мужа в полное изнеможение, она сделает с ним, что захочет.
Впрочем, Фердинанд быстро старел; у него появился ревматизм; к сорока годам всяческие излишества обратили его в руину. Помимо своей воли, он год от году остепенялся.
После работы над «Озером» супруги приняли решение писать картины вместе. Правда, они еще скрывали это от посторонних, но, затворившись в своей мастерской, они работали вдвоем над одним и тем же полотном – создавая картину сообща. Фердинанд с его мужским талантом был инициатором, организатором – он выбирал сюжет и намечал общие контуры картины. Адель была исполнительницей; ее чисто женский талант уступал место там, где необходимо было проявить мощность и напряженность.
Первое время Фердинанд оставлял за собой большую часть работы; из самолюбия он позволял жене помогать ему только в той части работы, которую считал менее ответственной. Но его расслабленность все увеличивалась, он становился день ото дня все беспомощнее в работе. И он сдался – предоставил жене смело вторгаться в его творчество. В силу необходимости с каждым новым произведением доля работы Адели все увеличивалась, хотя в ее планы вовсе не входило подменять работу мужа своей. Адель хотела одного: чтобы имя Сурдиса, которое было и ее именем, не обанкротилось. Она билась за то, чтобы удержаться на вершине той славы, о которой начала мечтать еще девушкой в уединении Меркера. Она была не способна нарушить данное обещание. Коммерсант должен быть честным, считала она, – нельзя обманывать покупателей, картины следует сдавать в назначенный срок.
Вот почему она была вынуждена заканчивать работу в спешке, затыкать все дыры, оставляемые Фердинандом. Когда он впадал в бешенство от сознания своего бессилия, руки его начинали так дрожать, что кисть выскальзывала из них; тогда он отступался, и ей приходилось самостоятельно заканчивать картину. Но Адель никогда не зазнавалась. Она всегда уверяла мужа, что она всего лишь ученица, и только выполняет его задания и указания. Адель все еще преклонялась перед талантом Фердинанда и непритворно им восторгалась. Инстинкт подсказывал ей, что, несмотря на упадок, в каком он находился, он все же оставался главой их союза. Без него она не могла бы создавать такие большие полотна.
Ренкен, от которого, как и от остальных художников, супруги скрывали истину, недоумевал, наблюдая со все возрастающим изумлением за этой медленной подменой мужского темперамента женским.
Он не мог оказать, что Фердинанд на плохом пути, – ведь он неустанно творил, но творчество его развивалось в такой форме, которая вначале не была ему присуща. Его первая картина «Прогулка» была преисполнена живой, яркой и остроумной непосредственности, а в последующих произведениях все это постепенно испарилось; теперь они расплывались в каком-то месиве неуловимой изнеженности и жеманности. Эта манера, может быть, и не была лишена приятности, но становилась все более и более банальной.
В то же время это была та же рука, по крайней мере Ренкен мог бы в этом поклясться, – до такой степени Адель благодаря своему виртуозному мастерству восприняла манеру письма своего мужа. Она обладала способностью в совершенстве разбираться в технике других художников и в точности воспроизводить ее.
К тому же в картинах Фердинанда появился некоторый привкус пуританизма, буржуазной корректности, и это не могло не оскорблять старого Ренкена. Прежде он восторгался тем, что талант его юного друга гибок и чужд банальности, теперь Ренкена раздражали натянутость, преувеличенная стыдливость и чопорность его живописи.
Однажды в компании художников он вспылил не на шутку и раскричался:
– Этот чертов Сурдис становится комедиантом… Кто из вас видел его последнее полотно? Что, у этого парня крови не осталось в венах? Девки его вымотали! Увы! вечная история! Совершенно теряют голову из-за какой-нибудь мерзавки… И знаете, что бесит меня больше всего? Ведь работает-то он no-прежнему мастерски, великолепно! Можете смеяться надо мной сколько вам угодно! Я был уверен, что он кончит мазней, как это бывает с падшим человеком… Ничего подобного. Как будто бы он нашел автомат, который работает за него с аккуратностью машины, – пошло и быстро. Это – гибель! Он конченный человек, так как он не способен на ошибки в искусстве.
Художники, привыкшие к парадоксальным выходкам Ренкена, рассмеялись. Но он-то знал, насколько прав, и сожалел о Фердинанде, потому что искренне его любил.
На следующий день Ренкен отправился на улицу Дассас. Ключ торчал в двери, он решился войти не постучавшись и остановился как вкопанный. Фердинанда не было дома. Перед мольбертом стояла Адель, торопливо заканчивая картину, о которой уже давно было объявлено в прессе. Она была так поглощена работой, что не услышала, как открылась дверь, она не знала, что прислуга, возвратившись домой, оставила свой ключ в двери. Ошеломленный Ренкен мог наблюдать работу Адели несколько минут. Она работала быстро, уверенно, и это говорило о том, что она уже набила руку. У нее была ловкая, беглая сноровка того самого, хорошо отрегулированного автомата, о котором Ренкен говорил накануне. Мгновенно он понял все, и его замешательство было тем сильнее, чем глубже он сознавал свою нескромность. Он попытался уйти, чтобы вернуться постучавшись, но Адель внезапно обернулась.
– Это вы! – вскрикнула она. – Как вы здесь очутились, каким образом вы вошли?
Кровь прилила к ее лицу. Ренкен, смущенный не менее, чем она, стал уверять ее, что только что вошел. Потом до его сознания дошло, что, если он умолчит о виденном, его положение станет еще более неловким.
– Видно, вас приперли, и тебе пришлось помочь немного Фердинанду, – сказал он как только мог благодушно.
Она уже овладела собой, лицо ее приняло обычный восковой оттенок, и ответ прозвучал совсем спокойно.
– Да, эту картину необходимо было сдать еще в понедельник, а Фердинанда опять мучили боли… О! я сделала только несколько мазков.
Но Адель не заблуждалась: провести такого человека, как Ренкен, было невозможно. Она стояла неподвижно, держа в руках палитру и кисти. Тогда он принужден был сказать ей:
– Я не хочу тебя стеснять. Продолжай.
Она пристально смотрела на него несколько секунд, потом решилась. Теперь он знает все; к чему притворяться дальше? И так как она обещала сдать картину в тот самый день, она принялась писать, работая с чисто мужской сноровкой. Когда Фердинанд вернулся, он был потрясен, увидев Ренкена: старый художник сидел за спиной Адели и наблюдал, как она пишет. Но усталость притупила чувства Фердинанда. Вздыхая, он опустился в изнеможении около Ренкена.
Воцарилось молчание; Фердинанд не чувствовал потребности вдаваться в объяснения – все и так было ясно, и это не причиняло ему страданий. Адель, поднявшись на цыпочки, малевала широкими мазками, освещая на картине небо. Глядя на нее, Фердинанд нагнулся к Ренкену и сказал с неподдельной гордостью:
– Знаете ли, мой милый, она гораздо сильнее меня… О, какое мастерство! Как она владеет техникой живописи!
Когда Ренкен, донельзя возмущенный, спускался с лестницы, он разговаривал вслух сам с собой:
– Еще один отпетый!.. Она не допустит его до полного падения, но никогда уже не позволит ему воспарить. Он – пропащий человек.
IV
Прошло несколько лет. Сурдисы купили в Меркере маленький домик, сад которого выходил на бульвар Майль. Вначале они приезжали туда в летние месяцы в июле и августе, опасаясь от парижской духоты.
Для них это было как бы всегда готовое убежище. Но мало-помалу они стали жить там более продолжительное время. И по мере того как они устраивались в Меркере, Париж становился для них все менее необходимым.
Дом был очень тесен, и они построили в саду просторную мастерскую, которая вскоре обросла множеством пристроек. Теперь они ездили в Париж как на каникулы – на два или три зимних месяца, не больше. Они обосновались в Меркере. В Париже у них было только временное пристанище на улице Клиши, в их собственном доме.
Это переселение в провинцию совершилось само собой, без заранее обдуманного плана. Когда знакомые выражали им свое удивление, Адель ссылалась на пошатнувшееся здоровье Фердинанда. Послушать ее, так она принуждена была уступить необходимости поместить своего мужа в благоприятную обстановку: он ведь так нуждался в покое и свежем воздухе.
На самом же деле она удовлетворяла свое давнишнее желание, осуществляла свою самую сокровенную мечту. Когда, молоденькой девушкой, она глядела часами на сырую мостовую площади Коллежа, то, предаваясь бурной фантазии, видела себя в Париже, в ореоле славы, упивалась громкими аплодисментами, популярностью своего прославленного имени; но мечты возвращали ее всегда обратно в Меркер, и самым сладостным ей представлялось почтительное изумление здешних обитателей перед достигнутым ею величием.
Здесь она родилась. Здесь зародились ее мечты о славе. Никакие почести, оказанные ей в салонах Парижа, не удовлетворяли ее тщеславие так сильно, как оцепенелое почтение меркерских кумушек, торчавших у дверей своих домов, когда она проходила мимо них под руку с мужем.
Она навсегда осталась мещанкой и провинциалкой. Ее интересовало прежде всего, что думают в ее маленьком городке по поводу славы ее мужа. При возвращении в Меркер сердце ее радостно трепетало; только там она испытывала подлинное опьянение своей известностью, сравнивая ее с той безвестностью, в которой раньше влачила здесь существование. Мать ее умерла, со времени ее смерти прошло уже десять лет. Адель возвращалась в Меркер только для того, чтобы пережить ощущение своей юности – окунуться в эту замороженную жизнь, где она так долго прозябала.
К тому времени слава Фердинанда Сурдиса достигла предела. К пятидесяти годам художник получил все возможные почести, все возможные знаки отличия, все существующие медали, кресты и титулы. Он был кавалером ордена Почетного легиона и уже несколько лет состоял членом Академии.
Только его материальное благосостояние могло еще расти, так как пресса и та уже истощила свои хвалы. Сложились готовые формулы, которые обычно служили для восхваления его таланта: его называли плодовитым мастером, утонченным чародеем, покорителем сердец.
Но все это, казалось, уже не трогало Сурдиса, он стал ко всему равнодушен и относился к своей славе, как к старому надоевшему платью. Когда он проходил по городу, сгорбленный, с безучастным потухшим взглядом, жители Меркера не могли прийти в себя от почтительного изумления, они с трудом представляли себе, как этот тощий усталый господин мог наделать столько шума в столице.