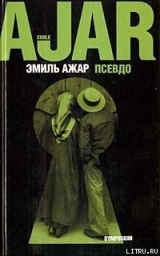
Текст книги "Псевдо"
Автор книги: Эмиль Ажар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Положись на меня, Алиетта. Все у нас получится. Я свалю отсюда по-настоящему, увезу тебя далеко, никому не удастся взять нас в руки, мы будем безнадежны…
Магнитофон записывал, тихо жужжали фараоны, мигал электронный глазок медсестры. Госпожа Ивонн Ваби ждала в отеле, и посреди ночи я самолетнул в Париж, где раньше трудоустроил Элоизу в один бордель района Гут Дор, – чтобы не быть расистом, к африканцам. Я хотел узнать, что она там без меня поделывает. Меня встретила Мадам Дора, дипломированный специалист, и сообщила, что Элоиза поживает прекрасно, принимает, вместе с двумя другими международницами, по сорок клиентов в день, да только подцепила болезнь и полицию, потому что в парижских газетах расплодилась лобковая вошь. И действительно, Элоиза была в полной форме, рассказывала про разведывательные спутники, которые летают повсюду и записывают мысли для ЦРУ и КГБ, – и тут вдруг она ойкнула, и что я вижу? Из ее органов выползает фараон! Он там выписывал штраф. Другая девица, Нора, тоже все время чесалась и скреблась, потому что ей во все волосинки вцепились фараоны, стараясь быть на месте преступления. Другие фараоны ползали по стенкам, а как провести дезинфекцию, лечат-то всегда девиц, а не полицейских! Одной девице, Лоле, даже сломали два ребра в кутузке, вот что значит Год женщины. А еще один фараон, огромный, гигантский, по долгу службы сел на диван, снял башмак и стал запихивать в него штрафы, как вдруг раздался писк, опора правопорядка взглянула в свой башмак – и что же он там увидел? Другого полицейского, помельче, тот спикировал с потолка и хотел стянуть денежку, и тут его чуть не раздавили. Старший подобрал его, пожурил для формы, положил в карман, и они ушли, обозвав меня параноиком, потому что так не бывает.
Доктор Христиансен сказал, что у меня новый приступ действительности и страхи при этом – обычное дело. Он посоветовал отложить встречу с госпожой Ивонн Баби.
Тонтон-Макут разрешил пожить еще в Копенгагене сколько нужно, хотя это ему стоило денег. Я знал, что он делает это не для меня, а в память о моей матери, значит, я ему не должен ничего.
Может, вы заметили, у меня проблемы с хронологией: я возвращаюсь в прошлое до самых катарских младенцев, разбитых о стены Альби, до всяких невинно убиенных, которых куда только не засовывали, хотя ничего оригинального про них уже не скажешь.
Электрошок как метод лечения от реальности в Дании тогда уже не применялся, и мне просто назначили сильные дозы нейролептиков.
Я боялся доберманов в парке, они опасны даже в виде собак.
Мир ждал, задерживал дыхание, и его слышал я один, и, значит, сам я дышал легче, и от мадам Ивонн Баби не было никаких вестей.
Раз в день мне разрешали на час покидать клинику, и я слетал в Барселону записаться в интернациональные бригады, но там меня ждало ужасное потрясение: неконтролируемые элементы выкопали мумии монахинь на монастырском кладбище и возили их на карнавальных повозках для разоблачения атеизма. Я был настолько не готов к подобному приему, что разорался и прибежал назад в клинику.
Меня по-прежнему мучили гуманитарные мысли, надежда на рождение и ужас от конца. Каждое утро я слал в США ученому, открывшему гарантированно лишенный наследственности искусственный ген, профессору Уоллу, неотправленную телеграмму и спрашивал, как поживает его подопечный.
Доктор Христиансен опять посадил меня на галоперидол, и тогда галлюцинации, хотя и не исчезли полностью, приняли менее тягостную для всех форму.
Меня отпустили на концерт квартета Мерк. Сначала все шло хорошо, но ближе к середине я заметил, что виолончель растет на глазах, и вдруг она треснула, и оттуда появился выводок мандолинок, а, Бог знает почему, не виолончелек, как полагалось бы по логике вещей, и все они кричали: «Папа, помоги, не хочу рождаться, на помощь!» – и тут налетел рой фараонов с дубинками, заметался по залу, сгрудился вокруг меня, и я заорал, потому что совесть моя была нечиста: я припарковал машину под знаком «стоянка запрещена».
* * *
Вот такое было мое состояние, когда Тонтон-Макут объявился в Копенгагене. Ему сообщили, что у меня ухудшение, и он специально приехал меня повидать. У него было более старое и отсутствующее лицо, чем в прошлый раз. Он еще более походил на себя. Он сел рядом со мной, с сигарой в зубах, даже не сняв шляпу и пальто, он иногда сидит так даже дома, – может быть, чтобы успокоиться, убедить себя, что он дома только проездом.
– Ну, как дела, не очень?
– Извини, что стою тебе много денег.
– Не имеет значения.
Казалось, он говорит искренне. Ведь его родители – актеры.
– Говорят, ты закончил новую книгу. – Ну.
– Ты очень талантливый человек.
– Наверно, это наследственное.
– Он сосал сигару.
– У тебя великолепная критика.
– Не у меня, а у книги. Можно быть полной сволочью и писать отличные книги.
Он не вздрогнул. Невозмутимый, далекий человек, ставший собой так давно, что это его уже не пугало: Он устроился.
– … иногда у меня идет кровь, но это оттого, что я, когда пишу, часто царапаюсь.
– Честно говоря, когда я тебя читал, у меня часто сжималось сердце…
– Еще бы, все-таки книга про удава.
– Я говорю о новой.
– Думаешь, они меня… найдут?
– Ну и что? Не вижу, чего ты стыдишься. Сейчас же не средневековье. Мы с тобой одной крови, ты и я.
На секунду во мне возникла надежда. Но он не признается. Хватит ему ответственности.
– То есть?
– Общие предки со стороны матери. И потом посмотри на меня.
– Чего на тебя смотреть. У тебя теперь голова как в телевизоре.
Он засмеялся:
– Видишь, я же говорил тебе, что у тебя ясный и твердый ум…
Не знаю, за что я его все время наказывал. Может быть, потому, что под рукой всегда оказывается как бы вроде кто-то. А настоящий виновник демонстрирует свое отсутствие. И тогда мы хватаем того, что поближе.
– А теперь, Тонтон, скажи: «После всего, что я для тебя сделал…»
– Я ничего для тебя не сделал. Если что и делал, то ради твоей матери…
Я сжал кулаки. Ходит вокруг да около, подлец. Осторожничает, держит дистанцию, все время вне любви.
В конце концов, сейчас время посредников. Думаю, я гораздо меньше нуждался бы в нем, если бы верил в Бога. Было бы на кого все сваливать.
Уверен, что они спали вместе.
– Ты мне ничем не обязан.
Он встал. Синее пальто, серая шляпа.
– Я ничего и никогда для тебя не делал, – повторил он с иронией, как всегда, и неизменно двусмысленно.
Это было неправдой. Учеба в Гарварде, дом в Ло, изредка деньги… Чтобы не помогать мне слишком, чтобы я сделал себя сам.
Однажды в Париже он зашел ко мне. Мне уже было двадцать семь, и я издавал вопли протеста. Во всем виновато было общество. Я сам себя не изводил, меня преследовало общество. Так получалось, что это у меня уже не генетика, не атавизмы и не психология, я переходил в социологию. Но поскольку я даже классового врага не обижу, то толку от меня было мало. Я только вопил.
Тонтон-Макут тем временем съездил в Амстердам и привез оттуда пособие «Как сделать бомбу из подручных средств в домашних условиях» или что-то вроде того. И он поднялся ко мне – к себе – на седьмой этаж. Как только мы с Анни, в двадцать лет, поженились и переехали в Париж, он нам подарил две комнаты для прислуги.
Он кинул книжку мне на кровать:
– Вот, возьми пособие. Делай бомбы. Бросай. Убивай. Разрушай. Надо взорвать все, так ты докажешь, что действительно веришь. Только делай что-нибудь. Ради Бога, хватит жестов!
Я слышал, как сенбернары лают в парке больницы. Вошел санитар и вколол мне пятичасовую крысу.
Тонтон-Макут взялся за дверную ручку. Он приходил поделиться со мной человеческим теплом, – что ж, дело сделано.
– Погоди. Можно тебя кое о чем попросить?
– О чем?
– О знаке любви.
Он еще никогда не слышал от меня таких слов. Он казался обеспокоенным. Значит, я действительно был болен.
– Поль, ты же знаешь, я тебя очень люблю. Но знаки, знаешь ли…
– Знак любви – это всегда больше чем знак.
Однажды он сказал мне: «По линии твоей матери мы происходим из семьи выдающихся русских истериков». Но мне было все равно. Я знал, что он относится ко мне со скрытой нежностью. Иначе и быть не могло.
– Я хотел бы, чтобы ты переписал своей рукой начало моей «Жизни». Начало, генезис. Зарождение. Сотворение книги.
Он ответил очень спокойно, как будто идея была не так уж и безумна:
– Малыш, я не могу этого сделать.
– Ты по-прежнему все отрицаешь?
Он пожал плечами, не вынимая рук из карманов:
– Мне нечего отрицать. Но у меня есть сын, и это не ты.
– Только первую главу. Начало того, что я есть, того, что со мной стало.
– Не может быть и речи. Что за мрак.
В три часа ночи я был в реанимации. Я проглотил упаковку тетромазина.
Он переписал все начало в черную тетрадь. Но он сделал это по просьбе доктора Хри-стиансена, «учитывая его состояние» и «чтобы он не чувствовал себя отвергнутым». Это уже ничего не значило. Вышел не знак любви, а часть психиатрического лечения.
* * *
В город меня больше не выпускали. Но по утрам я гулял в парке, сенбернар лизал мне руку, доберманов я больше не боялся: как их ни называй, все равно они только собаки. После обеда я иногда записывался в Иностранный легион, пытался закоренеть. В Турции случилось землетрясение, и я плакал от радости, потому что это было природное бедствие и я тут был ни при чем.
Был один страшный момент, когда аргентинская полиция нагрянула, чтобы отрезать мне правую ладонь – установить мою личность раз и навсегда с помощью отпечатков пальцев. Было столько убитых во время уличных боев, что тела оставляли и отрезали только ладони, а потом везли их сверять с центральной картотекой.
Должно быть, они давно подозревали, что все началось с меня. Но доктор Христиансен не пустил их, потому что психбольницы – это храмы и на них распространяется неприкосновенность. Потом были издевательства и оскорбления моей памяти. Чилийская политическая полиция назвала себя ДИНА. Дина – имя моей матери. Конечно, это совпадение, я не утверждаю наверняка, что полиция Пиночета выбрала это имя с единственной целью мучить меня. Я просто привожу здесь реально существующий факт, тысячу раз упоминавшийся в газетах, но дело в том, что имя моей матери явно пытаются примешать к зверствам и мерзостям, которые я выносить не могу. Я переношу их только благодаря химическим средствам первой необходимости, но они помогают мне и совершенно не действуют на Чили.
Мне звонили высокопоставленные друзья, пытались собрать конференцию в верхах, чтобы меня оставили в покое. Но не хватило верхов.
Иногда пряталась Алиетта, растворялась под влиянием ЦРУ и КГБ. ЦРУ и КГБ были повсюду, и я слышал постоянное гудение полицейских.
Я не обманываю себя. Я знаю, что окружаю себя отборными, лучшими кадрами, чтобы не пойти на дно. Потому что самый жуткий страх имени не имеет, огромная величина никогда не высвобождается в ощутимый ужас. Сердце перепрыгивает этапы, бежит навстречу худшему, чтобы со всем покончить разом. Но неизвестное пятится и не дается в руки, и страх при его преследовании растет. Опасность отказывается обнаружить себя и выйти из небытия, подчеркнутого сообщнической неподвижностью каждого предмета. И тогда мне надо любой ценой обосновать свой безымянный страх: вот уже у него харя Пиночета, голова убийцы и смердящее, растерзанное тело. Мне нужно, чтобы пытали людей. Чтоб отрезали ладони, чтоб КГБ и ЦРУ и черные развалины слетались мне на помощь и чтобы отборные кадры подтверждали мой ужас. И тогда он перестанет быть безымянным, обретет имя собственное. Это хитрость гиены, которая питается привычной мерзостью, чтобы меньше бояться. Наконец-то мой страх закономерен, я – часть этого мира. Вот уже я лучше в нем ориентируюсь и спрашиваю себя: может, мы разрабатываем собственные системы мерзостей, чтобы стать повелителями ужаса? Освободиться от страха. Создать государства неслыханного, полностью рукотворного полицейского террора. Так нам легче, мы будем знать закономерность, повод, ритуал, регламент гадостей и травли, код дегуманизации и преследований, определенные места для пыток в человеческом теле и разуме, так мы избежим неустанно и скрытно надвигающегося мрака, а он все ближе, но на поверхности не виден, и я хочу, чтоб он наконец явился, чтоб все кончилось и наступил праздник или все стало ясно. Я дергаюсь, ору, зову на помощь кадавров – добрых самаритян и преступления Скорой помощи. Они гонят неведомое прочь, у них есть человеческое имя, и за их ощутимостью я забываю то, чего нет и что готово напасть на меня оттуда, оттуда и оттуда.
Я хотел бы украсить стены портретами великих мучителей, чтобы источники ужаса, которые можно кому-нибудь приписать, всегда были перед глазами.
Над кроватью я повесил икону, для конкретности.
Он склоняется надо мной и трогает мой мокрый от пота лоб.
– Почему бы это не записать? – шепчет он. – Жаль доводить себя до такого состояния, Ажар, и не написать хоть несколько страниц…
Но его нет. Это только фотография, которую я держу на тумбочке, чтобы злиться. За окном воркуют и целуются сиреневые бандиты и кровопийцы.
Я часто видел Анни рядом с собой, но я знал, что это повседневность на инвалидном кресле догоняет меня и хочет прибрать к рукам. Обычный мир цеплялся ко мне, подступал к глазам, к горлу, к органу чувств, впихивал в меня по сто пятьдесят граммов галоперидола в день, чтобы отрезать путь к бегству. Его не останавливали жертвы, он бросал бомбы, сидя на куче трупов, с сигаретой в зубах и автоматом под мышкой. Фамилия его была Калашников, и он патронов не жалел. Он не исключал возможности бактериологической войны и разрушения защитного озонового слоя, чтобы облегчить доступ к Отцу с целью взаимного уничтожения.
Однако, хотя я и был тайно заражен, как Плющ, по диагностике советских психиатров – врагов СССР, «реформаторскими и мессианскими тенденциями», меня не подвергли лечению инсулином, с транквилизующей комой.
Доктор Христиансен рекомендовал писать по девять-десять часов в день, чтобы уменьшить дозы реальности путем выдавливания ее наружу. Он говорил, что литература для меня так же полезна, как дефекация. Я послушал его, и мало-помалу он снял все остальные лекарства.
Я помогал, поскольку у всех добровольных эмигрантов всегда есть скрытая надежда вернуться, и это прискорбно известный факт, что даже самые решительные шизофреники часто соглашаются вернуться.
Я писал. Я пишу. Я на 77-й странице рукописи. Конечно, я хитрю. Я не говорю ни о… ни о… и, уж конечно, ни о… потому что это был бы четкий, понятный язык, который множит и заделывает дыры и пожарные выходы, ставит на отсутствующие окна решетки и называет их твердыми фактами.
Взять, например, краполет. Это капитальный элемент трансплантации, а также Сакко и Ванцетти, и ничего он не значит. Значит, есть надежда. Есть отсутствие привычного рутинного смысла и, значит, надежда на что-то.
Я закончу свою книгу, потому что пропуски между словами дают мне шанс.
* * *
Я чувствовал себя немного лучше. Я узнал, что спецкор от мира сего не приезжал в Копенгаген, что все это мои страхи и разные фантазмы, и написал госпоже Ивонн Баби письмо, в котором просил прощения за то, что побеспокоил ее по пустякам.
Иногда меня все еще беспокоили государственные деятели. Тогда я навещал одного знаменитого соотечественника, приезжавшего к доктору Христиансену пару раз в год на лечение. Бывший министр, обломок прошлого и, значит, человек с большим будущим. Его мучили периодические приступы страха, которые доктор Христиансен называл его месячными: и тогда он гнил и рассыхался, как только вокруг него начиналось какое-нибудь движение. Ему казалось, что все заминировано, все пустое, все сгнило изнутри и при малейшем дуновении разлетится пылью и прекратит существование. Состояние ухудшилось после Португалии, потому что он ничего не понял в том, что произошло. Он отказывался принимать ванны, потому что пыль при контакте с водой превращается в грязь. Вокруг него надо было ходить на цыпочках, затаив дыхание, чтобы он не рухнул и не превратился в кучку пыли. Если послушать его во время приступов, то следовало выставить вокруг него армию и полицию, чтобы избавить его от всяких посягательств. Медсестра должна была заворачивать его в полосочки ткани, как мумию, чтобы ему было спокойней, чтобы он убедился, что не превратится в песок, помочь ему почувствовать свою плотность. Но приступы никогда долго не длились, потому что опросы общественного мнения убеждали его в том, что он фигура реальная и внушает веру. Тогда он верил, что действительно и прочно существует. Его зовут господин Депюсси, у него красивое лицо – избирательное и широковещательное, а на телеэкране, да при хорошем освещении, и вовсе совсем как живое. Какое-то время он еще продержится, и это все, что от него нужно.
Каждый раз, когда я его вижу, мне хочется чихнуть, чтобы напугать его. Но если я чихну, тут же на его место поставят такого же, зато я буду раскрыт и под подозрением по поводу реформаторских и мессианских тенденций, как Плющ.
Знаете ли вы, что в Осло Норвежская академия ищет безрукого и безногого глухонемого, который не привнес бы никакого вклада в историю нашего времени, чтобы вручить ему Премию мира?
Господин Депюсси принимал нас – я часто говорю о себе во множественном числе – в полной неподвижности, кстати, полной музеев и шедевров. Вокруг меня была куча других предметов, но я был очень спокоен и не чувствовал страха. Я не говорю, что все предметы – скрытые тигры, которые вот-вот на меня набросятся. Я так не говорю, потому что избрал скромность и осторожность. Мне хочется вернуться в Лот, подальше от мира. Там я лучше себя чувствую больным, чем здесь.
– А, господин Ажар, кажется, вы собираетесь дать нам новую книгу?
Дать нам, вы представляете себе? Я сочная груша и живу только для их услаждения.
– Вы здесь не со вчерашнего дня, господин Ажар…
– Да, я пишу. И еще наблюдаю. Я прохожу курс лечения, если угодно, но поскольку я веду себя нормально и хожу на свободе, то это бросается в глаза. Я живу с психами, чтобы научиться соответствовать. Так, по крайней мере в Париже, мне вернут водительские права.
Я поработал еще над мадам Розой, потому что мне не хотелось с ней расставаться, после «Всей жизни впереди» она стала для меня вроде матери со своим склерозом. Я, значит, вскарабкался на шесть этажей вверх без лифта, чтобы побыть с ней по месту ее проживания, и дышал еще тяжело.
Я громко дышал.
– Осторожно! – завопил господин Депюсси. – Задерживайте дыхание, ей-Богу! Вы же на меня дуете! Я разлечусь в пух!
– Я не обязан соблюдать вашу конституцию и ваше устройство, – сказал я, – и отказываюсь задерживать дыхание, чтобы продлить существующий порядок вещей. Мы, левые, нам стоит только дунуть, и мы все разнесем, каждый знает.
Алиетта положила мне мягкую руку на плечо:
– Не говори так, Алекс, ты себя напугаешь.
Господин Депюсси выглядел потрясенным.
– Вы левый? – спросил он меня почтительно, поскольку был правым и поэтому нуждался в моих услугах.
– Я не политик, – сказал я, – поскольку я не царствую.
Но я и не человеконенавистник. Среди шизофреников мизантропов нет. И никогда не было. Они получаются такими от любви.
Я неспособен на ненависть, потому что овощи вроде меня никого не ненавидят.
Я настолько дергался из-за своих гуманитарных мыслей, что господин Депюсси начал пылить и дымиться. Я ясно это видел, что доказывает, что он был еще безумней, чем я думал.
– Извините, – сказал я, потому что больным не стоит возражать.
Я добавил, чтобы сменить тему разговора:
– Кажется, Объединенные Нации скоро объявят год дерьма, конечно исключая евреев. У него на лице появилось выражение: «Понял. Ага».
– Вы нигилист? – спросил он.
Я не возражал. Это было совершенно неверно, естественно, полная туфта, и, значит, здорово меня прикрывало.
– Извините, у вас на рукаве холокост, – сказал я, подняв руку и сделав соответствующее лицо.
– Только не трите меня! – захныкал он, и приступ у него, наверно, достиг своей высшей очки, потому что от него снова пошло облако параноидальной пыли. – Не прикасайтесь к ним, преступление вы этакое!
– Ничего страшного, мы еще даже не начали играть, – бросил я ему с последней грубостью, потому что было чудесно сознавать, что кому-то еще страшнее, чем мне, это очень успокаивало.
– На помощь! – прошептал он, потому что он знал, что если кричать, то будет все то же самое.
– Смерть легавым, – предложил я, чтобы возложить всю ответственность на собак и самому остаться чистеньким.
– Я никогда не был в Уганде, – твердо заявил он, и он говорил правду, потому что зачем ему было туда ездить, повсюду одно и то же.
– Они подадут вам это на завтрак, – пообещал я ему, потому что раз уж так обстоят у нас дела, то разницы между концом света и настоем ромашки не видно.
И тогда я заметил, что происходило в углу комнаты, немного в стороне от нас. Нини пыталась хапнуть Ажара. Нини, как явствует из ее имени, терпеть не может наличия литературных произведений, в которые бы она не пролезла. Если есть надежда, она просто заболевает. Нини пытается с незапамятных времен, и чем дальше, тем больше, заграбастать каждого автора, каждого творца, чтобы отметить его творчество ничем, поражением, отчаянием. У воспитанных людей ее зовут нигилетка, от чешского слова Нихиль, нигилизм, но мы зовем ее Нини, с большой буквы, потому что она терпеть не может, когда приуменьшают ее роль. В этот момент на ковре она пыталась оплодотворить себя Ажаром, чтобы впоследствии нарожать ему деток из ничего.
Ажар защищался как лев. Но с Нини всегда есть соблазн не сопротивляться, дойти наконец до дна ни-ничего, где находится мир без души и совести. Единственный шанс выпутаться для Ажара был в том, чтобы хорошенько доказать свое небытие, свое состояние как бы вроде пустышки, полное отсутствие человеческого подобия, достойного подцепить такую заразу, как Нини, поскольку ничто по техническим причинам никогда не трахается с ничем. Или, наоборот, открыть на поле битвы что-нибудь настоящее, откровенное, и при этом прикрыть свое сокровенное, я хочу сказать, как рыцарь Байярд Далабри с поднятым забралом, а против него Нини с открытым передком, – поднять забрало и отречься от всякой пустоты и звона, в которых гнездится Нини и откладывает яйца, для того чтобы они лопались и заливали все своей гнилью. Я держал руку Анни в своей, как в самых старых любовных штампах, которых никаким пятновыводителем не выведешь. Я думал о людях, которые любят друг друга, и Ни-ни корчилась на полу в ужасных судорогах и никак не могла найти пустоту в гулкой темной цистерне, звенящей смертью в вечно будущей жизни.
Я снова выкарабкался, и не в последний раз. Между жизнью и смертью идет борьба литературных приемов.
* * *
Я злился, потому что Тонтон-Макут перестал меня навещать, звонить и донимал меня из Парижа полным равнодушием. Я советовался с Анни, но эта дочь Лота была непоколебима, как соляной столп.
– Он занят.
– Я знаю, что занят, с ног до головы захвачен собой. Он что, не помнит, что такое Сопротивление? Пора вспомнить. От него ни слова, ни звука. Я ведь могу и подохнуть.
– Он очень тебя любит.
– Любит, как же. Не понимаю, что я ему сделал.
– Он тебя ни в чем не упрекает.
– Да, ему плевать.
– Как только ты его видишь, ты говоришь ему черт знает что.
– Я пытаюсь говорить шиворот-навыворот, может, так получится сказать что-то вроде правды.
– Он прекрасно понимает, он всегда говорил тебе, что надо писать, заниматься творчеством…
Я повторял, око за око, книга за книгу:
– Я говорю шиворот-навыворот, это попытка сказать подлинное слово…
– Да, но поскольку он шиворот-навыворот не говорит и даже считает, что все одно, что в лоб, что по лбу, вам надо попытаться найти общий язык. Ты говоришь шиворот-навыворот, он – прямо, я, право, не вижу, в чем разница, что вас разделяет и что вам мешает понять друг друга…
– Я не прошу его понять меня, совершенно не прошу. И никого не прошу. Еще чего не хватало. Зачем ты мне говоришь такие гадости?
– Но что тогда тебе от него нужно?
– Ничего не нужно.
– Врешь, но слабо – не убеждает. – Она улыбнулась. – Смешные вы оба. Ну просто отец и сын.
Тут я взорвался:
– Твою мать, я запрещаю тебе нести такой бред!
– Ты не имеешь права запрещать мне нести бред. Сейчас Международный год женщины. У нас такие же права, как у вас.
– Был бы он и вправду моим отцом, он был бы просто подонок, нет ему прощения, так с человеком поступить нельзя.
– О чем ты? Что он тебе сделал?
– Ничего. Я знаю. Не зачинал, не усыновлял, когда мне было двенадцать лет. Ему не в чем себя упрекнуть. Но он слишком часто дает мне это почувствовать. Он безупречен. А безупречных людей не бывает. В глубине души он дерьмо. Безупречные люди – это просто те, кто не знает себя до конца.
– Не думаю, что он себя не знает. Он всегда немного грустен или ироничен.
– Ироничен? В тысяча девятьсот семьдесят пятом году? Каким же надо быть скотом…
– Сейчас семьдесят шестой.
– Все одно и то же. Мы топчемся на месте.
– Не заводись, Поль. Котик умер. Его не воскресить. Ни тебе, ни ему, ни кому другому. Я молчал. Она права. Котята умирают, потому что вырастают.
– А еще доктор Христиансен открыл мне одну неожиданную вещь. Я узнал, почему Тонтон-Макут проходил курс дезинтоксикации в копенгагенской клинике.
Не из-за сигар.
Он хотел бросить писать.
Я был потрясен. Со мной случилось самое маленькое удивление в жизни. Я ошибался. Он не был витринным продажным литсексапильным донжуаном. Он боролся, он хотел быть по-настоящему. Он стремился, как я. Искал конца утопии. Но я не спешил сдаваться. Я сказал Анни:
– Он не курит травку, не колется, не пьет… Он ни за что не хочет чувствовать себя другим, посторонним себе… Это самовлюбленность. Алкоголь и наркотики, видишь ли, сделали бы его иным, кем-то другим, а этого он ни за что не хочет… Он обожает себя и не выносит разлуки с собой.
– Я никогда ничего не понимала в ваших отношениях. Прямо инцест какой-то.
У меня по-прежнему бывали довольно жуткие страхи. Доктор Христиансен считал, что это не страх, а состояние тревоги, но я думаю, что он мне просто зубы заговаривал. В такие минуты Алиетта вставала и начинала гладить стул, стол, стены, чтобы я успокоился и увидел, что они добренькие и совсем ручные, не набросятся на меня и не разорвут в клочья.
Больше всего я боюсь стульев, потому что их форма – намек на человеческое присутствие.
* * *
А назавтра вдруг сбылась во всем своем ужасе моя самая дорогая навязчивая идея, за которую я по слабоумию ответственности не несу. Позвонил парижский издатель:
– Ажар, у меня хорошая новость. Спецкор от мира сего, госпожа Ивонн Баби, совершит спецприезд в Копенгаген, чтобы взять у вас интервью.
До меня не сразу дошло.
– В Копенгаген? А что, я не в Бразилии? Я сам читал в газетах.
– Послушайте, Ажар, Бразилия далеко, и ехать туда дорого. Зачем отправлять туда Ивонн Баби, если ни вас, ни ее в Бразилии нет?
Я завопил изо всех сил, потому что в беллетристике обязательно нужно поддерживать главного героя и не допускать накладок:
– Ни за что! Вы с ума сошли? Она явится в псих-больницу брать у меня интервью? Вы что, не понимаете?
– Послушайте, дорогой Эмиль, хватит ваньку валять. Ваши проблемы – не психика, как вы утверждаете, а политика.
– Политика? У меня?
– Да будет вам. Вы не психиатрический казус, а политический, на вас есть дело в уголовной картотеке. И в нем все рассказано. В четыре года вы убили котенка.
Я чуть не упал в обморок. Они знали.
Значит, Освенцим, массовые убийства, нищета, ужасы, Пиночет и Плющ ни при чем: во всем виноват котенок!
Психоаналитики тоже иногда бывают порядочные свиньи.
– Я не хочу ее видеть!
– Прекрасно, но я обязан сказать вам то, о чем говорит весь Париж.
– О чем?
– О том, что книгу за вас написал или помог вам написать кто-то другой.
Это был жуткий удар по органу чувств. Я был убит, правда убит, разбит вдребезги, но собрал себя по частям и от возмущения и ужаса жутко завопил.
– Не я написал? Не я? Не я? А кто же?
– Арагон. Кено. Некоторые полагают, что вас вообще не существует.
Я поперхнулся. Моему авторскому самолюбию был нанесен такой удар, что я удавил бы сто котят и глазом не моргнул – лишь бы оправдаться.
– Ладно, пусть журналистка приезжает. Готов, если надо, встретить ее в аэропорту с цветами.
– Только не переборщите. Вы должны соответствовать своей репутации, Ажар.
– Какой репутации?
– Своей.
Не знаю, почему я вдруг подумал о Тонтон-Макуте с настоящим отчаянием. На Гаити бывают такие всемогущие колдуны. Известное дело. Они враз сделают так, что ты загниваешь прямо на корню.
– У вас уже есть легенда, Ажар.
– Какая легенда?
– Некая тайна, что-то не вполне законное, то ли вы террорист, то ли бабник, подонок, сутенер. Вы легендарная личность, и к этому надо относиться бережно. Ото то, что называется редакционные слухи, – лучшая из реклам. За деньги такое не купишь, зато книги с ее помощью продаются действительно здорово.
– Я услышал свой голос откуда-то издалека, и, может, действительно говорил кто-то другой:
– На Гаити, в стране тонтон-макутов, есть могущественные колдуны, и они могут сделать на расстоянии с человеком что угодно с помощью черных колдовских приемов. – типа булавки, воткнутой в орган чувств на снимке, ведь на снимке человек совершенно беззащитен.
И тогда издалека, с Гаити, мой голос спросил:
– А как расходится книга? Сколько экземпляров продано?
– Тридцать тысяч, – сказала редактор, и я почувствовал некоторое разочарование, потому что все-таки как же так.
А ночью я был в Тунисе цветущим апельсиновым деревом. Я всегда хотел быть апельсином и цвести, но так, чтоб вовремя остановиться, не давать плодов, у меня такие принципы.
Я защищался как мог. Мой любимый автор – Ханс Христиан Андерсен.
Но я знал, что одному мне не отбиться, и нанял адвоката, потому что со дня на день ожидал чего-нибудь такого, хотя, учитывая изобилие обвинений, которые можно выдвинуть, невозможно точно знать, чего ожидать. Я нанял адвоката Фернана Босса. Я доверял ему, потому что я никогда с ним не встречался. Но с адвокатом Босса нам пришлось расстаться: он утверждал, что меня ни в чем не обвиняют. Это одна из самых цельных личностей, которых я знал, и такой раздолбай, как я, не должен был бы трогать его даже пинцетом.
Я взял другого адвоката, потом третьего, но все отказывались. Никто не хотел меня защищать. Одни думали, что меня не существует, и боялись остаться без гонорара, другие знали, что я есть, но советовали обращаться не к адвокатам, а к психиатрам. У них, дескать, мои рассказы про котят уже в печенках сидят.
Один даже сказал, что плохо мое дело, потому что я наследил на все общество.








