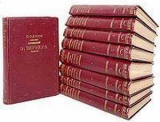
Текст книги "Своей дорогой"
Автор книги: Эльза (Элизабет) Вернер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
13
Внизу большой лестницы, ведущей на верхний этаж, стояли Вильденроде и Эрих. Первый только что пришел из парка и встретился здесь с бароном, который тотчас излил ему свое горе.
– Я боюсь, что Цецилия серьезно нездорова, – взволнованно проговорил он. – Она жалуется на сильную головную боль и страшно бледна, но строго-настрого запретила мне посылать за Гагенбахом. Она уверяет, что несколько часов покоя скорее всего восстановят ее силы. Я видел ее каких-нибудь две-три минуты, как только она приехала, и не смог узнать, где она была; она упрямо не отвечает на расспросы.
– А ты уже совсем растерялся? Я говорил тебе, чтобы ты привыкал к своенравию нашей маленькой избалованной принцессы. Когда Цецилия не в духе, она ложится на диван и дуется на весь мир, но, к счастью, каприз продолжается недолго, я знаю ее. Правда, твой отец того мнения, что ты должен отучить Цили от капризов, но ты не таковский, чтобы мог сделать это, а потому тебе остается одно: запастись христианским терпением и заранее готовиться к роли примерного супруга, которым ты, без сомнения, будешь.
Эрих смотрел на него с удивлением.
– Что с тобой, Оскар? Ты просто сияешь! Тебя переполняет какая-то радость?
– Кто знает, может быть!.. – сказал Оскар, и его темные глаза блеснули. – А потому я возьмусь тебе помочь, у тебя слишком отчаянный вид. Я все-таки имею большее влияние на свою сестрицу, чем ты, и постараюсь внушить ей, что с ее стороны непростительно сразу же заставлять тебя вкушать «прелести» супружеской жизни. Вот посмотришь, за стол она явится веселой и всем довольной, а тогда, надо надеяться, и у тебя будет другая физиономия, бедный, удрученный горем жених, принимающий так серьезно девичьи капризы!
Барон весело засмеялся и, кивнув через плечо Эриху, пошел вверх по лестнице. Эрих, качая головой, смотрел ему вслед; он никогда еще не видел своего шурина таким веселым, сегодня его просто невозможно было узнать. Что это с ним случилось?
Наверху, в гостиной, барон встретил горничную сестры; она объявила, что барышня строго приказала не мешать ей и отказывать всем без исключения.
– Ко мне такие приказания не относятся, вы знаете это, Наннон, – обрезал ее Вильденроде. – Я хочу говорить с сестрой; отоприте дверь!
Наннон повиновалась; она знала, что с бароном нельзя спорить. Он вошел в комнату сестры.
Цецилия лежала на кушетке, уткнув лицо в подушки; она не шевельнулась. Брата это ничуть не удивило; он спокойно подошел к ней.
– Ты опять не в духе, Цили? – шутливо спросил он. – Право, ты непростительно обращаешься с Эрихом; он только что излил мне свою душу.
Цецилия молчала и не двигалась. Вильденроде потерял терпение.
– Не будешь ли ты любезна хоть взглянуть на меня? Вообще, я попросил бы тебя…
Он замолчал, потому что сестра вдруг поднялась, и он увидел такое бледное, искаженное лицо, что почти испугался.
– Мне надо поговорить с тобой, Оскар, – тихо сказала она, – поговорить наедине. Наннон в гостиной; отправь ее куда-нибудь, чтобы нам никто не мешал.
Оскар нахмурился. Ему все еще не верилось, что здесь кроется что-то серьезное, но, будучи в таком прекрасном настроении, он был склонен уступить даже капризу; поэтому он пошел в гостиную, отослал горничную, дав ей какое-то поручение, и вернулся назад.
– Узнаю ли я наконец, что все это значит? – нетерпеливо спросил он. – Где ты была, Цили, и что значит эта поездка в горы на рассвете? Дернбург уже сделал весьма нелюбезное замечание по этому поводу. Ты могла бы, кажется, сообразить, что Оденсберг – не место для таких чудачеств.
Цецилия встала и, не отвечая на упрек, мрачно сказала:
– Я была на Альбенштейне.
– На Альбенштейне? Какое сумасбродство! Какая невероятная глупость!
– Перестань, дело вовсе не в этом, – горячо перебила барона девушка. – Я встретилась там с… с другом Эриха, и он сказал мне… Оскар, что произошло между тобой и этим Рунеком при первой встрече?
– Ничего! – холодно отрезал барон. – Может быть, я и видел его тогда – это возможно, такую личность нетрудно не заметить, но, во всяком случае, я не говорил с ним и даже не знал, что он был свидетелем одного неприятного происшествия, которое случилось в тот вечер.
– Какого происшествия?
– Оно не годится для твоих ушей, дитя мое, а потому мне было бы неприятно, если бы Рунек рассказал тебе о нем. Что именно он сказал тебе?
– По-видимому, он заранее предположил, что я знаю, в чем дело, и позволил себе делать какие-то намеки, которых я не поняла, но за которыми должно крыться что-то ужасное.
– Как он смеет! – воскликнул Оскар.
– Да, он смеет подозревать тебя, а со мной обращается, как с твоей сообщницей. Он говорит, что знает о твоей жизни больше, чем тебе может быть приятно, он назвал нас авантюристами! Но ведь ты потребуешь у него объяснения, ответишь ему так, как он этого заслуживает, отомстишь за себя и меня?
Вильденроде был бледен и стоял с омрачившимся лицом и сжатыми кулаками, но молчал; бурного взрыва гнева и негодования, которого ожидала Цецилия, не последовало.
– В самом деле он сказал это? – медленно спросил он наконец.
– Слово в слово! И ты… ты ничего не отвечаешь?
– Что же мне отвечать? Уж не требуешь ли ты, чтобы я принимал серьезно такую бессмысленную чушь?
– Он относился к этому серьезно, и, если, как он говорит, в настоящее время у него нет доказательств, то…
– В самом деле? – Оскар расхохотался насмешливо, торжествующе, и глубокий вздох облегчения вырвался из его груди. – Ну, так пусть поищет этих доказательств! Ничего не найдет!
Цецилия схватилась за кресло, возле которого стояла; от нее не ускользнул этот вздох, и ее глаза с ужасом устремились на брата.
– У тебя нет другого ответа, когда задевают твою честь? Ты не потребуешь от Рунека объяснений?
– Это мое дело! Предоставь мне разделаться с этим человеком. Тебе-то что до этого?
– Какое мне дело, когда оскорбляют тебя и меня? – вне себя от гнева крикнула Цецилия. – Назвать нас авантюристами, жертвой которых стал Оденсберг! И он смеет делать это безнаказанно! Оскар, посмотри мне в глаза! Ты боишься наказать этого Рунека, ты боишься его! О, Боже мой, Боже мой! – и она истерически разрыдалась.
Оскар быстро подошел к ней, и его голос понизился до гневного шепота:
– Цецилия, будь благоразумна! Ты ведешь себя, как сумасшедшая. Что с тобой? Ты стала совсем другой с сегодняшнего утра.
– Да, с сегодняшнего утра! – страстно повторила она. – Сегодня я проснулась. О, какое это было горькое пробуждение! Не уклоняйся от объяснений! Ты сказал мне, что наше состояние погибло, а я была до такой степени глупа, что даже не спросила, за какой счет мы, несмотря на это, жили на широкую ногу. Когда оно погибло? Каким образом? Я хочу знать!
Вильденроде мрачно смотрел на сестру; повелительный тон в ее устах был для него так же нов, как и все ее поведение.
– Ты хочешь знать, когда погибло наше состояние? – угрюмо спросил он. – Тогда же, когда произошел крах в нашей семье и отец наложил на себя руки.
– Наш отец? Он умер не от удара?
– Так сказано было свету, соседям и тебе, восьмилетнему ребенку, я же знаю, в чем дело. Наши имения были заложены, разорение было только вопросом времени, а когда оно действительно пришло, двенадцать лет тому назад, отец схватил пистолет и… оставил нас нищими.
Как ни бессердечны были эти слова, в них слышалась глухая боль.
Цецилия не вскрикнула, не заплакала, ее слезы вдруг будто иссякли; она тихо, почти беззвучно спросила:
– А потом?
– Потом честь нашего имени была спасена личным вмешательством короля; он купил наши имения и удовлетворил кредиторов. Твоей матери была назначена пенсия; она стала получать милостыню там, где была прежде госпожой, а я… я уехал искать счастья по свету.
Наступила минутная пауза. Цецилия опустилась в кресло и закрыла лицо руками.
– Для тебя это тяжелый удар, я верю, – продолжал барон, – но для меня это было еще более тяжелым ударом. Я не имел ни малейшего подозрения о том, что наши дела в таком состоянии, и вдруг разом лишиться богатства, блестящего положения в свете, прекрасной карьеры и заглянуть прямо в глаза бедности и нищете! Ты не знаешь, что это значит. Мне предлагали различные места в почтовом и морском ведомствах в какой-то отдаленной провинции; мне, человеку с пылким честолюбием, мечтавшему о самых высоких целях, предлагали нищенское жалованье и службу, на которой гибнут и нравственно, и физически в борьбе за жалкий кусок хлеба! Я не способен на такую жизнь. Я бросил все и уехал из Германии для того, чтобы продажа имений и моя отставка хоть казались добровольными.
– И тем не менее ты удержал за собой место в обществе, мы считались богатыми все три года, которые я прожила с тобой, мы были окружены блеском и роскошью!
Вильденроде не ответил на робкий, но полный упрека вопрос, выражавшийся в голосе Цецилии, и постарался не встречаться глазами с сестрой.
– Оставь это, Цецилия! Мне пришлось отчаянно бороться чтобы удержать за собой это место в обществе, которое я ни за что не хотел терять, и тут случилось немало такого, чему лучше было бы не случаться. Но ведь у меня не было выбора; в борьбе за существование человек должен или погибнуть, или победить. Что бы там ни было, – он глубоко вздохнул, – теперь все это позади; ты невеста Эриха, а я… я хочу сообщить тебе одно радостное известие.
Но барону не удалось закончить разговор, потому что послышался легкий стук в дверь гостиной и вслед за тем голос Эриха:
– Можно мне наконец войти?
– Эрих! – вздрогнув прошептала Цецилия. – Я не могу видеть его, теперь не могу!
– Ты должна поговорить с ним, – повелительно прошептал Оскар. – Или ты хочешь, чтобы твое поведение еще больше его удивило?
– Не могу! Скажи ему, что я больна, что я сплю или что-нибудь другое, что хочешь!
Она вскочила с места, но брат силой заставил ее опять сесть и весело крикнул:
– Входи, Эрих! Я уже целых полчаса наслаждаюсь аудиенцией у ее высочества.
– Я слышал это от Наннон, – с упреком сказал Эрих, проходя через гостиную и направляясь в комнату невесты. – Цили, неужели твоя дверь должна оставаться запертой для меня, когда она открыта для Оскара? Боже мой, как ты бледна и расстроена! Что случилось во время этой злосчастной поездки? Прошу тебя, скажи!
Он схватил ее руку и со страхом заглянул ей в лицо. Маленькая рука Цецилии дрожала в его руке, но ответа не было.
– Лучше выбрани ее, хотя я уже сделал это, кажется, в надлежащей мере, – сказал Вильденроде. – Знаешь, где она была сегодня утром? На Альбенштейне!
– Господи Боже! – с ужасом воскликнул Эрих. – Правда ли это, Цецилия?
– Совершеннейшая правда! Разумеется, на обратном пути у нее закружилась голова, она еле живая спустилась вниз и теперь больна от чрезмерного утомления и перенесенного страха. Ей стыдно было признаться в этом тебе и доктору, но ведь все равно ты должен это знать.
– Цецилия, как ты могла так поступить со мной! – с горестным упреком сказал молодой человек. – Неужели ты ни капельки не думала о том, что я буду беспокоиться, приду в отчаяние, если с тобой что-нибудь случится? Если бы я только подозревал, что ты не шутила, когда говорила мне и Эгберту… Что с тобой?
Услышав это имя, Цецилия вздрогнула, и по ее щекам покатились слезы.
– Прости меня, Эрих!.. прости! – пробормотала она.
Эрих никогда еще не видел своей невесты плачущей и не слышал, чтобы она просила прощения. В порыве безграничной нежности он стал целовать ее руки.
– Моя Цили, моя милая, я ведь не браню тебя, я только прошу никогда, никогда больше не делать подобного! А теперь…
– А теперь дадим ей покой, – вмешался Вильденроде. – Ты видишь, до какой степени она нуждается в нем. Постарайся поспать несколько часов, Цили, это успокоит твои расстроенные нервы… Пойдем, Эрих!
Дернбург последовал за бароном с явной неохотой, но так как Цецилия с лихорадочным нетерпением просила его уйти, то он покорился.
Оскар проводил его до лестницы и вошел в свою комнату, но, едва успели затихнуть шаги молодого человека, как он тотчас вернулся к сестре и, заперев дверь гостиной на задвижку, сказал сдержанным голосом:
– Ты совершенно не умеешь владеть собой! Счастье, что я был рядом. В данной ситуации лучше всего было бы рассказать о твоей безумной поездке в горы, теперь же надо позаботиться об устранении другой опасности. Не имея доказательств, Рунек не посмеет предпринять что-либо против нас; между тем обстоятельства складываются так, что неминуемо должны привести к разрыву между ним и Дернбургом, а тогда… Ну, мне случалось бывать и не в таких передрягах!
Цецилия встала, со странным выражением взглянула на брата и сказала:
– Тогда нас уже не будет в Оденсберге. Не возражай, Оскар! Я не хочу знать того, о чем ты умалчиваешь; того, что ты сказал, мне вполне достаточно. Ты должен предотвратить опасность, грозящую тебе со стороны Рунека, значит, он не лгал, он может обвинить тебя! Но я не желаю быть авантюристкой, которая втерлась в Оденсберг и которую, в конце концов, могут со стыдом и позором выгнать. Мы уедем под каким-нибудь предлогом, все равно куда, только бы прочь отсюда, прочь во что бы то ни стало!
– Ты с ума сошла! – воскликнул Вильденроде, хватая ее за руку. – Прочь? Куда? Или ты думаешь, что я могу опять дать тебе возможность жить прежней жизнью? Этого уже не будет, источники моих доходов иссякли!
– Да, эти источники внушают мне ужас! – дрожа воскликнула Цецилия. – Я хочу работать…
– Этими-то руками? Знаешь ли ты, что значит ежедневно зарабатывать себе на пропитание? Надо быть приспособленной к этому, иначе умрешь с голоду!
– Но теперь, когда мои глаза открылись, я не могу остаться здесь! Не принуждай меня, или я сейчас же скажу Эриху, что не люблю его, что наша помолвка была лишь делом твоих рук.
Оскар побледнел. Цецилия вырвалась из-под его власти, приказания и угрозы не действовали; он ухватился за последнее средство.
– Скажи! – вдруг ответил он холодно и твердо. – Уничтожь себя и меня, потому что для меня это вопрос жизни или смерти; час тому назад я обручился с Майей.
– С кем? – Цецилия посмотрела на брата, точно не понимая его слов.
– С Майей. Она любит меня, нужно только согласие Дернбурга. Если ты разойдешься с Эрихом и скажешь ему правду, то Оденсберг и для меня закроется навеки, а тогда… я последую примеру отца. Неужели ты думаешь, что мне легко было вести жизнь авантюриста, мне, Вильденроде? Знаешь ли ты, что я выстрадал, прежде чем дошел до этого? Сколько раз я пытался вырваться из этого омута, и всякий раз тщетно! Наконец, спасение близко, рука милого ребенка может сделать это, я смогу добиться счастья, которого долго-долго искал, и в ту самую минуту, когда я завладею им, мне грозят отнять его, хотят заставить меня вести прежнюю жизнь, над которой тяготеет проклятие! Этого я не вынесу… лучше сразу покончить со всем.
Его лицо и голос выражали железную решимость; это была не пустая угроза.
– Нет! – прошептала Цецилия содрогнувшись. – Нет, нет, только не это!
– И разве я требую от тебя чего-то ужасного? – спросил Вильденроде смягчаясь. – Ведь ты должна только молчать. Я хотел спасти тебя от жизни, в которую мне пришлось втянуть тебя, прежде чем раскрылись твои глаза, а теперь вместе с тобой я спасаю и себя. Прошлое останется у меня позади, и я начну новую Е жизнь; здесь, в Оденсберге, для меня открывается большое поле – деятельности, Дернбург найдет во мне того, кем не может быть для него сын; ты будешь женой Эриха, он любит, обожает тебя, ты можешь сделать его счастливым и можешь быть счастливой сама рядом с ним.
Он нагнулся над сестрой, и его голос звучал мягко; она бесконечно горестно посмотрела на него.
– Как я буду переносить теперь близость Эриха, его нежность! – воскликнула она. – Даже эти несколько минут были для меня пыткой. А если я опять встречу Рунека и прочту в его глазах презрение, как сегодня утром! Быть предметом презрения этого Рунека и не иметь даже права возмутиться!
В последних словах звучали такое отчаяние и боль, что Вильденроде оторопел.
– Ты так боишься его презрения? – медленно спросил он. – Успокойся, после своей выходки он сам станет избегать встречи, а в семейном кругу он и без того больше не появляется. Все остальное предоставь мне; ты должна только быть спокойной и молчать… Обещаешь?
– Да! – едва слышно пробормотала Цецилия.
– Благодарю тебя! Теперь я оставлю тебя одну, я вижу, что ты не в состоянии больше выносить этот разговор. – Барон повернулся к двери, но опять остановился и бросил проницательный взгляд на лицо сестры. – Эгберт Рунек – наш враг, здешний враг; он собирается уничтожить и тебя, и меня, и с ним я должен бороться, не останавливаясь ни перед чем, хотя бы дело дошло до ножей. Не забывай этого!
Цецилия не ответила; когда дверь захлопнулась за ее братом, она дрожала всем телом, как в лихорадке. Истина, которую он уже не старался скрывать от нее, потрясла ее до глубины души; сказочный мир радости и удовольствий, который она только и знала до сих пор, лежал разбитый вдребезги у ее ног. Скала была взорвана; что таилось в ее недрах?
14
Весна миновала, и лето наступило во всем своем жгучем великолепии. В Оденсберге уже начали готовиться к свадьбе, назначенной на конец августа. После обряда бракосочетания предполагался большой праздник, на который в дом Дернбурга должны были собраться гости со всей округи, а сразу после свадьбы молодая чета должна была отправиться в свадебное путешествие на юг.
Служащие и рабочие оденсбергских заводов тоже были намерены принять участие в празднестве – они хотели принести свои поздравления патрону по поводу брака его единственного сына и наследника. Директор возглавлял образованный с этой целью комитет по подготовке грандиозного торжества, и все ревностно выполняли его поручения.
Но точно какая-то туча омрачила дом и семью Дернбурга. Сам Дернбург был расстроен разными событиями. Предстоящие выборы в рейхстаг взволновали даже его Оденсберг, и он слишком хорошо знал, что здесь не обходится без наущений и подстрекательств; открыто никто не агитировал – он слишком крепко держал в руках вожжи, но он не мог воспрепятствовать тайной, а потому и опасной деятельности социал-демократической партии, шаг за шагом проникавшей в среду рабочих его заводов, на которые до сих пор он мог полностью положиться.
Кроме того, здоровье Эриха снова внушало Дернбургу серьезные опасения. Он почти отказался от мечты посвятить сына в дело, которое ждало его в будущем; молодой человек постоянно прихварывал, по-прежнему должен был тщательно беречь свое здоровье, а о регулярных занятиях не было и речи. Сюда присоединилось еще сватовство Вильденроде и открытое признание Майи в любви, которое было принято Дернбургом с величайшим изумлением и почти с досадой.
Объяснившись с молодой девушкой, барон попросил ее руки у отца, но встретил энергичное сопротивление. Несмотря на расположение к нему Дернбурга, он совершенно не был похож на человека, за которого тот хотел бы выдать свою дочь, а мысль, что шестнадцатилетняя девочка станет женой человека, который по возрасту мог бы быть ей отцом, не укладывалась в голове старика так же, как взаимность, которую встретила любовь Оскара со стороны Майи. Правда, просьбы его любимицы привели к тому, что он перестал настаивать на сиюминутном отказе, но ничто не могло заставить его сразу же дать свое согласие; он решительно заявил, что его дочь еще слишком молода, что она должна подождать, испытать себя, а года через два можно будет опять завести об этом речь.
Ждать! Это было невозможное слово для человека, которому приходилось считать минуты. А между тем в настоящее время ему не оставалось ничего другого, потому что Майю устранили от его влияния. Дернбург, отказывая ему в руке дочери, намекнул на то, что его ежедневные встречи с девушкой и жизнь в одном доме с ней будут неудобны. Но оставить Оденсберг теперь значило наверняка проиграть игру; надо было бдительно следить за всем, чтобы встретить опасность, грозовой тучей нависшую над головой барона со времени разговора с Рунеком; кроме того, надо было оставаться возле сестры, чтобы быть уверенным, что она сдержит вырванное у нее обещание. Вследствие этого Вильденроде не пожелал понять намек Дернбурга и остался; тогда Дернбург со свойственной ему энергией тотчас отослал дочь к своим знакомым погостить. Она должна была вернуться только к свадьбе брата.
Эгберт Рунек приехал из Радефельда с обычным докладом патрону. Он имел обыкновение заходить только в кабинет Дернбурга и, окончив дело, тут же удаляться; казалось, он стал совсем чужим семье Дернбурга. Но сегодня он сначала зашел к Эриху; тот был радостно изумлен его визитом, но' не мог не встретить его упреком:
– Наконец-то ты показался! Я уже думал было, что ты совсем забыл меня и что мы все вообще попали к тебе в немилость; только отцу еще удается лицезреть тебя.
– Ты знаешь, как я занят! Мои работы…
– Ну да, как же! Твои работы вечно служат для тебя предлогом. Однако иди же сюда, поговорим! Я так рад, что могу с тобой пообщаться.
Эрих усадил друга на диван рядом с собой, стал расспрашивать, рассказывать, но говорил почти один; Рунек был поразительно молчалив и лишь изредка механически отвечал, как будто его голова была занята совершенно не тем. Но когда Эрих заговорил о предстоящей свадьбе, он стал внимательнее.
– Мы уедем в день венчания, сразу после обеда, – со счастливой улыбкой сказал Эрих. – Несколько недель я думаю провести с женой в Швейцарии, а потом мы полетим на юг. Ты не знаешь, что я испытываю, произнося это слово! Это холодное северное небо, эти мрачные горы, вся здешняя жизнь и работа – все это таким тяжелым гнетом ложится на мою душу! Я не могу здесь полностью выздороветь; Гагенбах того же мнения и предлагает, чтобы я на всю зиму остался в Италии. К сожалению, отец не хочет об этом и слышать; придется вступить с ним в борьбу, чтобы настоять на своем.
– Ты опять чувствуешь себя хуже? – спросил Эгберт, глаза которого со странно пытливым выражением не отрывались от лица Эриха.
– О, это пустяки! – беззаботно ответил тот. – Доктор до смешного пуглив. Он надавал мне всевозможных наставлений и хочет даже ограничить празднества в день свадьбы, потому что они будто бы могут взволновать меня. Он смотрит на меня как на тяжелобольного, которому любое возбуждение может причинить смерть.
Рунек тяжело и мрачно смотрел на своего собеседника; в его взгляде и голосе выражалось нечто вроде подавленной борьбы.
– Так доктор боится последствий волнения? Правда, у тебя кровь шла горлом…
– Господи, ведь это было два года тому назад и давно уже прошло, – нетерпеливо перебил его Эрих. – Просто мне вреден воздух Оденсберга. Цецилия тоже не может привыкнуть к здешней жизни. Она создана для радости и солнечного света; здесь же, где все основано на труде и обязанностях, где строгие глаза моего отца постоянно следят за ней, она не в состоянии существовать. Если бы ты знал, что произошло с моей жизнерадостной Цили! Какой бледной и молчаливой она стала в последние недели, как изменилась до неузнаваемости! Иной раз я боюсь, что тут кроется совсем другая причина. Если она раскаивается в том, что дала мне слово, если… Ах, мне всюду что-то чудится!
– Полно, Эрих, прошу тебя! – успокоительным тоном заметил Рунек. – Ты волнуешься без всякой причины.
– Нет, нет! Я вижу, я чувствую, что Цецилия что-то скрывает от меня. Третьего дня она выдала себя. Я говорил о нашем свадебном путешествии по Италии, как вдруг у нее вырвалось: «Да, уедем, Эрих, куда хочешь, только подальше, подальше отсюда! Я не вынесу этого больше!». Чего она не вынесет? Она не захотела отвечать мне на этот вопрос, но ее восклицание было похоже на крик отчаяния.
Дернбург взволнованно вскочил. Эгберт тоже встал и, как бы случайно выйдя из полосы яркого солнечного света, падавшего через окно, остановился в тени.
– Ты, конечно, очень любишь свою невесту? – медленно спросил он.
– Люблю ли я ее! – глаза Эриха заблестели мечтательной нежностью. – Ты никогда не любил, Эгберт, иначе не задавал бы такого вопроса. Если бы Цецилия отказала мне, когда я просил ее руки, может быть, я и перенес бы этот удар; но если бы потерял ее теперь, это было бы моей смертью!
Эгберт молча стоял, полуотвернувшись, и на его лице все еще отражалась глухая, мучительная борьба; но, услышав последние слова, он поднял голову, подошел к другу и, положив руку ему на плечо, дрожащими губами, но твердо произнес:
– Ты не потеряешь ее, Эрих! Ты будешь жить и будешь счастлив.
– Ты уверен в этом? – спросил Эрих, с удивлением глядя на него. – Ты говоришь так, будто властен над жизнью и смертью.
– Считай мои слова пророчеством, которое исполнится. Ну, мне пора, я пришел проститься, потому что со всеми делами в Радефельде справился раньше чем предполагал.
– Тем лучше; ты вернешься в Оденсберг, и, я надеюсь, мы будем часто видеться.
– Едва ли. У меня другие планы, которые не позволяют оставаться в Оденсберге. Я хочу сегодня поговорить об этом с твоим отцом.
– Вот беспокойный человек! Вечно стремится вперед, к чему-то новому без отдыха и перерыва! Не успел закончить одну работу, как в твоей голове роятся новые проекты. Что там ты еще придумал?
– Будет лучше, если тебе расскажет об этом твой отец; теперь ты не в таком настроении, чтобы слушать. Итак, прощай, Эрих!
Рунек протянул другу руку, с трудом сдерживая волнение; Эрих непринужденно пожал ее.
– Но мы еще не прощаемся окончательно, не правда ли? Ты ведь еще вернешься пока в Радефельд?
– Разумеется, но я уеду оттуда, может быть, на днях, и как знать, где я раскину свою палатку, когда ты вернешься весной из Италии.
– В таком случае мы увидимся еще на моей свадьбе. Я не отпущу тебя, пока ты не дашь мне этого обещания. Я не хочу, чтобы тебя не было со мной в такой день, ты приедешь во что бы то ни стало! А теперь я отпущу тебя, потому что вижу, у тебя опять под ногами земля, горит… До свидания!
– Хорошо… прощай, Эрих! – Рунек почти судорожно пожал руку другу детства, быстро повернулся и вышел из комнаты, как будто боясь, чтобы его не удержали. В коридоре он остановился и с глубоким вздохом прошептал: – Он прав, это было бы его смертью. Нет, Эрих, ты не умрешь из-за меня! Этого я не могу взять на свою совесть.
Дернбург находился в кабинете и озабоченно слушал сидевшего против него доктора Гагенбаха. Вильденроде тоже был здесь; скрестив руки на груди, он стоял, прислонившись к косяку окна, не вмешиваясь в разговор, но следя за ним с напряженным вниманием.
– Вы преувеличиваете опасность, – сказал доктор успокоительным тоном, – Эрих страдает только от климата нашей суровой весны. Ему следовало дольше оставаться на юге и еще остановиться где-нибудь по пути для постепенной адаптации к нашим условиям; перемена климата оказала на него вредное воздействие. Ему необходимо вернуться на время в Италию, и я только что говорил с ним о том, где он проведет зиму. Он предпочитает Рим в угоду жене; я же настаиваю на Сорренто или Палермо.
Лицо Дернбурга еще больше омрачилось.
– Вы считаете крайне необходимым, чтобы Эрих всю зиму провел в Италии? – спросил он. – Я надеялся, что он с женой вернется к Рождеству.
– Нет, это значило бы снова поставить под удар все, чего мы достигли прошлой зимой.
– Чего же мы достигли? Частичного выздоровления, причем уже через несколько месяцев его здоровье опять стало ухудшаться! Будьте откровенны, доктор, вы считаете, что мой сын вообще не в состоянии переносить наш климат? Считаете ли вы возможным, чтобы Эрих подолгу жил в Оденсберге, чтобы он мог работать вместе со мной и в будущем стал моим преемником, как я надеялся, когда он вполне здоровым с виду вернулся весной?
Глаза Дернбурга с напряженным беспокойством следили за губами доктора, а Вильденроде даже вышел из оконной ниши, где до сих пор стоял. Гагенбах колебался; 'казалось, ему тяжело было отвечать. Наконец он серьезно произнес:
– Нет, уж если вы хотите знать правду, продолжительное пребывание на юге – обязательное условие жизни для вашего сына. Летом он может на несколько месяцев приезжать в Оденсберг, но зимы в наших горах он не вынесет, так же точно как не вынесет и напряжения сил, которого требует ведение дел. Это мое твердое убеждение.
Вильденроде невольно поднял брови; Дернбург молчал и только подпер голову рукой, но было видно, как тяжело поразил его приговор доктора, хотя он, вероятно, ожидал его.
– В таком случае придется проститься с планами, которые я так долго лелеял, – сказал он наконец. – Я все-таки надеялся… Как бы там ни было, Эрих – мой единственный сын, и я уберегу его, хотя бы при этом мне пришлось отказаться от сокровеннейшей мечты. Пусть он найдет себе уютный уголок где-нибудь на юге и ограничит свою деятельность его благоустройством. Это я могу для него сделать. Благодарю за откровенность, доктор. Как ни горька истина, надо с ней мириться. Мы еще поговорим об этом.
Гагенбах простился и вышел. Несколько минут в комнате царило молчание; наконец Вильденроде тихо произнес:
– Неужели этот приговор был для вас сюрпризом? Для меня нет, я уже давно боялся чего-нибудь подобного. Если отъезд необходим для выздоровления Эриха, то, мне кажется, вам обоим будет легче пережить разлуку.
– Эриху это понравится! Он всегда питал страх к положению, которое должен был занять, его пугала эта беспрерывная работа, которую он должен был возглавить, ответственность, которую он должен был на себя взять; ему будет гораздо приятнее сидеть на берегу голубого моря и мечтать о своей вилле; он будет очень рад, узнав, что ничто больше не прервет его мечтательного покоя, а я останусь здесь один-одинешенек с перспективой передать когда-нибудь Оденсберг, плод трудов всей моей жизни, в чужие руки. Это горько!
– Разве это в самом деле неизбежно? Ведь у вас есть еще дочь, которая может дать вам второго сына, но вы все еще отказываете ее избраннику в сыновних правах.
– Оставьте это! Не теперь…
– Именно теперь, именно в эту минуту я желал бы поговорить с вами! – возразил барон. – Я не ожидал и не заслужил такого отношения, с каким вы встретили мое предложение. Вы почти упрекнули меня, как будто, делая его, я совершил неблаговидный поступок.
– Вы его совершили; вы не должны были говорить о любви шестнадцатилетней девочке, не заручившись согласием отца. Если юноше простительно поддаться минутному увлечению, то человеку ваших лет это непростительно.
– Эта минута позволила мне изведать высшее счастье в моей жизни! – пылко воскликнул Оскар. – Она дала мне уверенность, что и Майя любит меня! Майя при вас повторила это признание; мы оба надеялись на благословение отца, а вместо этого нас осудили на бесконечное ожидание. Вы отправили Майю из Оденсберга, лишив себя ее близости только для того, чтобы отнять ее у меня.








