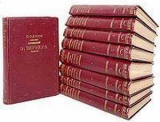
Текст книги "Своей дорогой"
Автор книги: Эльза (Элизабет) Вернер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
– И ты знал это еще в Ницце и молчал?
– Да неужели я должен был взять на себя роль доносчика? И перед кем? Какое я имел право вмешиваться в дела чужой семьи? Какое мне дело было тогда до Дернбурга? Без всякой причины не ставят к позорному столбу сына человека, которого много лет считали другом.
– Но ты мог бы как-то предостеречь Эриха!
– Бесполезно. Двуличие будущего зятя Эриха было известно всей Ницце, но Эрих слепо пошел в расставленные ему сети. «Однако успокойся! Теперь, когда я знаю, как ты относишься к его сестре, Я не стану деликатничать.
– Да, надо во что бы то ни стало спасти Майю! – порывисто воскликнул Виктор. – Дядя, будь откровенен со мной! Кто и что Такое этот Вильденроде?
– Сейчас узнаешь, – серьезно сказал Штетен, – но здесь не место рассуждать о подобных вещах; через десять минут мы будем в замке и там продолжим наш разговор.
20
Тем временем Майя и ее спутница ехали дальше. Они спешили на железнодорожную станцию встречать госпожу фон Рингштедт, ездившую в Берлин, чтобы приготовить квартиру Дернбургов для переезда туда на зиму. Избрание Дернбурга депутатом казалось семье делом решенным, и потому даже в домашних распоряжениях она сообразовалась с этим; теперь переезд в Берлин становился сомнительным, и старушка пока возвращалась в Оденсберг.
– Что это сегодня с графом? – задумчиво спросила Майя. – Он как нарочно прикидывается вовсе не тем, кем есть на самом деле, и, кажется, даже не обрадовался нашей встрече.
– Ведь он недавно потерял брата, – заметила Леони. – Если он стал серьезнее и сдержаннее, то это вполне естественно.
– Нет, нет, тут что-то другое! И весной Виктор уехал не простившись; правда, папа говорил, что его внезапно вызвали по делам службы, но в таком случае он мог бы написать. А теперь, когда я пригласила его в Оденсберг, казалось, он не выразил ни малейшей охоты ехать к нам. Что все это значит?
– Мне тоже бросилась в глаза сдержанность графа, – сказала Леони, – и именно поэтому вам не следовало так бесцеремонно вести себя с ним, Майя. Вы уже взрослая девица и не должны позволять себе так свободно обращаться с соседом по имению.
– Виктор – не просто сосед по имению; ребенком он чувствовал себя одинаково дома как в Оденсберге, так и в Экардштейне; с его стороны очень дурно вдруг начать теперь корчить из себя постороннего и держаться так церемонно. Я скажу ему это, когда он приедет к нам! О, уж я намылю ему голову!
Леони Фридберг опять стала распространяться на тему о приличиях, но это была проповедь перед глухой. Майя, ничего не слыша, раздумывала о только что случившемся. Она все еще видела мрачный, полный укоризны взгляд своего друга, и хотя была далека от причины такой перемены в нем, его отчуждение огорчало ее. Она только теперь почувствовала, как любит Виктора.
На станции их встретил доктор Гагенбах с неприятным известием: он слышал в городе о крушении поезда, которое, по слухам, произошло до полудня. Так как он знал, что фон Рингштедт была в дороге, то поспешил узнать обо всем; к счастью, ничего страшного не произошло. Вследствие проливных дождей осела железнодорожная насыпь, поэтому приходилось останавливать поезда и заставлять пассажиров пересаживаться; из-за этого берлинский курьерский мог сильно опоздать; несчастья же с самим поездом не случилось.
После такого сообщения не оставалось ничего больше, как ждать. Так как на вокзале находилось большое количество солдат, возвращавшихся с маневров и ожидавших поезда, то все помещения были переполнены. Доктор посоветовал дамам идти в гостиницу «Золотая овца», взять себе комнату и там дожидаться поезда. Предложение было принято, а так как Вильмана не было дома, то гости были встречены его супругой, которая, узнав, что оденсбергские господа удостоили ее гостиницу своим посещением, поспешила к ним из кухни, чтобы достойным образом встретить их. Она поспешно отворила лучший номер, распахнула окна, чтобы проветрить помещение, передвинула стол и стулья и стала уверять господ, что сию минуту приготовит им самый чудесный кофе; затем хозяйка поспешно исчезла, преисполненная усердия и готовности к услугам.
По словам служащих, поезда надо было ждать, по меньшей мере, час. Майя сочла это весьма скучным и решила совершить путешествие по «Золотой овце» с целью исследования этой неведомой страны, а когда увидела в окно кучу детей, игравших в садике за домом, то, вопреки всем доводам воспитательницы, выскользнула из комнаты, оставив своих спутников наедине.
Несколько минут в комнате царило неловкое молчание. Правда, доктор и Леони давно пришли к безмолвному соглашению считать то злосчастное предложение как бы не существующим; только при этом условии они могли внешне сохранять непринужденный тон при почти ежедневных встречах, которые были неизбежны; но и эта непринужденность оказалась весьма сомнительной: Гагенбах иногда выказывал свой гнев разными намеками, а Леони постоянно придерживалась оборонительной тактики. Несмотря на такие неважные отношения, все же кое-что изменилось – доктор чуть больше чем раньше заботился о своей внешности и старался, насколько возможно, быть сдержанным.
– С Майей не сладишь! – со вздохом заговорила наконец Леони. – Ну что поделаешь с девушкой, которая уже стала невестой, но все еще не хочет соглашаться с необходимостью подчиняться правилам приличия!
– Ну, необходимость этого подчинения можно еще и оспаривать, – с досадой проворчал Гагенбах.
– Нет, нельзя, – последовал безапелляционный ответ, – это основа жизни общества.
– Приличия-то? – насмешливо сказал доктор. – Разумеется, они главное в жизни! Кому какое дело до того, что человек ведет честную, трудовую жизнь! Ему предпочтут первого встречного фата, умеющего расшаркиваться да пускать пыль в глаза красивыми фразами; такому всегда отдадут предпочтение!
– Я этого не говорила.
– Но подумали! Я всю жизнь не особенно заботился об изящной внешности; будучи занятым, я не ощущал в этом надобности, да и в семейной жизни тоже; зато я остался холостяком, слава Богу!
Леони предпочла вовсе не отвечать доктору. Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. К счастью, появилась служанка с чашками для кофе и огромным пирогом и доложила, что господ просят еще немножко подождать, так как госпожа Вильман сама готовит кофе. При этом имени Леони вздрогнула и быстро обернулась.
– Как вы сказали?
– Госпожа Вильман!
– Это хозяйка здешней гостиницы, – объяснил Гагенбах, видя, что молчать больше нельзя и что «прискорбная история» все-таки неминуемо будет вновь «пережевана».
Леони не сказала ни слова, но мимолетный румянец, окрасивший ее щеки, выдал, до какой степени ее взволновало напоминание о бывшем женихе.
Как только служанка вышла из комнаты, доктор предпочел сам заговорить на эту тему.
– Это имя поразило вас? – спросил он.
– Оно было когда-то очень дорого мне и дорого до сих пор. Здесь, конечно, может быть простое совпадение, но я все-таки постараюсь узнать у хозяйки…
– Это лишнее, вы можете узнать все и от меня. Хозяин этого дома – двоюродный брат покойного Энгельберта, просветителя язычников, похороненного в песках пустыни. Он сам сказал это мне, то есть не похороненный, а живой Панкрациус Вильман из гостиницы «Золотая овца».
– Двоюродный брат Энгельберта? – с удивлением повторила Леони. – Я никогда не слышала о подобном родственнике. Этот Панкрациус Вильман, судя по возрасту его жены, уже довольно стар?
– Ничуть не бывало! Он, по крайней мере, на двенадцать лет моложе своей дражайшей половины; ему тридцать с небольшим. Он был бедняком без гроша в кармане, а она – богатой вдовой. Впрочем, этот человек довольно образован; он даже учился в университете, как сам рассказывал мне недавно, но потом предпочел одеться в шкуру «Золотой овцы».
– Какой выбор! Эта вульгарная женщина…
– Имеет деньги и превосходно стряпает, – перебил доктор. – Как мне кажется, этот брак принес счастье обеим сторонам: они произвели, на свет многочисленное потомство; посмотрите-ка, там, в саду, прыгает шесть молодых овечек.
Он тоже подошел к окну и указал вниз, где в саду, крича и балуясь, бегали юные отпрыски супругов Вильман. Особенной миловидностью они не отличались; это были маленькие, откормленные, головастые существа с желтыми, как солома, волосами; по внешности они явно пошли в свою матушку.
Леони пожала плечами.
– Не понимаю, как может образованный человек опуститься до такого брака! Хотя нечего удивляться, теперь светом управляет выгода. Кому теперь нужны идеалы!
– Во всяком случае не Панкрациусу Вильману, – сухо заметил Гагенбах. – Он придерживается практичного образа жизни, в отличии от своего двоюродного брата Энгельберта, который бросил родину, чтобы где-то в дебрях Африки крестить черных язычников. Зато он и лежит теперь в песках пустыни, поделом ему!
Леони посмотрела на него уничтожающе.
– Такого выбора вы, разумеется, не в состоянии понять! Энгельберт Вильман был идеальной натурой; не помышляя о земных выгодах, он последовал высшему призванию. Надо самому ощущать в душе частицу подобной силы, чтобы понимать ее.
– Ну, я этого не понимаю! Плохо ли, хорошо ли, а я лечу людей без всякого высшего призвания и вообще я совершенно обыкновенный человек, без всяких идеальных задатков, следовательно, в сущности, гроша ломаного не стою.
Ссора вот-вот готова была вспыхнуть, как вдруг дверь открылась, и на пороге появился Панкрациус Вильман. Он отвесил один низкий поклон доктору, другой – даме, стоявшей у окна, и заговорил мягким, тоскливым голосом:
– Я только что услышал от жены, что оденсбергские господа здесь, и не мог отказать себе в удовольствии выразить свою радость и благодарность за честь, выпавшую на долю моего скромного дома.
– Хорошо, что вы пришли! – сказал доктор. – Мы только что говорили о вас с фрейлейн Фридберг…
Сцена, вдруг разыгравшаяся перед его глазами, не позволила продолжать. При звуке чужого голоса Леони встрепенулась в испуге, а Вильман, казалось, не менее испугался при виде барышни; он буквально присел, его красные щеки побледнели, растерянно смотрел на особу, быстро приблизившуюся к нему.
– Вы носите имя, которое не чужое мне, – заговорила Леони дрожащим голосом, – и от доктора Гагенбаха я узнала, что вы в самом деле состоите в родстве…
Она остановилась и, по-видимому, ждала ответа, но Вильман только кивнул головой в знак согласия и так низко наклонился, его лица почти не стало видно.
– Я действительно нахожу в ваших чертах нечто родственное, – продолжала Леони, – а ваш голос имеет удивительное сходство с голосом вашего покойного двоюродного брата, которого вы, может быть, даже не помните.
Вильман и на этот раз ничего не ответил; он отрицательно покачал головой, но не поднял ее.
– У вас отнялся язык, что ли? – крикнул доктор. – Как прикажете понимать это кивание?
Но Вильман упорно молчал; казалось, он боялся произнести я бы один звук. Вместо ответа он робко глянул на дверь, соображая, нет ли возможности ретироваться.
Терпение Гагенбаха лопнуло.
– Как понимать ваше поведение? – крикнул он с возрастающим недовольством. – Неужели в конце концов вся история о родстве окажется выдумкой! Сделайте одолжение, промолвите, наконец, хоть словечко!
Вильман, очевидно, не знал, что делать. Он поднял глаза к небу совершенно с тем же благочестивым, горестным выражением, которое в первый раз поразило доктора, и вздохнул:
– О, Господи! Небо мне свидетель…
Его прервал громкий крик. Леони смертельно побледнела и судорожно ухватилась обеими руками за спинку стоявшего перед ней стула.
– Энгельберт! Всемогущий Боже! Это он сам!
В это мгновение Вильману, по-видимому, хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила его; но так как этого не произошло, то он остался стоять посреди комнаты, освещенный яркими лучами солнца. Доктор опустился на ближайший стул; он обладал крепкими нервами, но такая неожиданная перемена декораций ошеломила и его.
К большому удивлению, Леони, сделав для себя такое унизительное открытие, через несколько секунд снова овладела собой и, неподвижно стоя у стола, смотрела на своего бывшего жениха, который и не пытался ничего отрицать.
– Леони, ты здесь? – запинаясь произнес он. – Я и не подозревал. Я все объясню…
– Да, и я покорнейше попросил бы вас об этом! – воскликнул доктор, с негодованием вскакивая. – Вы двенадцать лет заставляете оплакивать себя как несчастного апостола, погибшего среди язычников, а сами сидите себе живехоньки в «Золотой овце» счастливым отцом шестерых детей! Это низко, подло!
– Господин доктор, – остановила его Леони, – мне надо поговорить с этим… господином. Прошу вас, оставьте нас одних!
Гагенбах с беспокойством посмотрел на нее; он не совсем доверял ее самообладанию; но понимая, что при таком разговоре присутствие третьего лица будет лишним, оставил комнату. Он никогда не подслушивал, но на этот раз без всякого угрызения совести расположился у замочной скважины; ведь вопрос, который обсуждался там, в комнате, до известной степени касался и его.
По-видимому, Энгельберт Вильман почувствовал большое облегчение, когда посторонний свидетель этой тягостной сцены был удален, и наконец сделал попытку дать обещанное объяснение; он произнес голосом, полным раскаяния:
– Леони, выслушай меня!
Она продолжала стоять на прежнем месте, не двигаясь, и смотрела на него так, словно не могла и не хотела верить, что этот толстый мещанин и идеал ее юности был одним и тем е лицом.
– В объяснении нет надобности, – сказала она. – Я требую только, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. В самом ли деле вы муж той растрепанной толстой женщины, которая встретила нас, и отец детей, играющих там, в саду?
Вопрос Леони окончательно сокрушил Вильмана.
– Не осуждай меня, Леони! – запинаясь попросил он. – Вынужденный обстоятельствами… несчастным стечением обстоятельств…
– Не обращайтесь ко мне прежним фамильярным тоном, господин Вильман, – обрезала его Леони. – Как давно вы женаты?
– Одиннадцать лет, – тихо сказал Вильман.
– А двенадцать лет назад вы писали мне, что хотите ехать в Африку в качестве миссионера, и с тех пор от вас не было писем. Значит, вы сразу же вернулись в Германию и… не дали мне знать об этом?
– Я сделал это единственно ради тебя… ради вас, Леони, – произнес Энгельберт, пытаясь придать своему голосу оттенок нежности. – Мы оба были бедны, у меня не было никакой перспективы, могли пройти долгие годы, прежде чем я был бы в состоянии предложить вам свою руку; неужели я должен был допустить, чтобы вы из любви ко мне провели так печально свою молодость и, может быть, упустили свое счастье? Никогда! А так как я знал ваше великодушие, так как мне было известно, что вы никогда не возьмете назад своего слова, то я сделал то, что считал своим долгом, а именно вернул вам свободу своей мнимой смертью, хотя мое сердце обливалось кровью.
– И как можно скорее сам женился на богатой, – докончил доктор за дверью. – Врет, как по-писаному! Помоги тебе, Бог, кроткий Энгельберт, когда ты попадешь в мои руки!
Увы! Слова Энгельберта не произвели на его бывшую невесту никакого впечатления.
– Не трудитесь, я не позволю больше обманывать себя, – презрительно ответила она. – Я простила бы вам вероломство, но жалкой комедии, которую вы разыграли здесь, я не прощу. Если бы я хоть сколько-нибудь подозревала, что слишком бедна для вас, что наша помолвка тяготит вас, то тотчас отослала бы вам кольцо обратно; одно откровенное, честное слово избавило бы вас от необходимости лгать и лицемерить, а меня – от настоящей горькой минуты. – К ее горлу подступил комок, и она чуть было не зарыдала, но это было лишь одно мгновение; Леони подавила его и продолжала с возрастающим негодованием: – И я любила такого человека! Ради вас я загубила свою молодость, ради вас оттолкнула руку человека, достойного уважения!
– Да, это становится интересным! – заметил Гагенбах у дверной щели и с удовольствием потер руки. – Эту беду можно еще и поправить.
– Леони, вы разрываете мое сердце! – воскликнул Вильман, складывая руки на животе. – Если бы вы знали, что я выстрадал! Ведь я любил только вас!
Он хотел приблизиться к Леони, но она оттолкнула его с выражением омерзения:
– Прошу вас! Между нами все кончено, и нам не о чем больше говорить. Я требую одного: если случай когда-нибудь сведет нас еще раз – мы не знаем друг друга и никогда не знали.
Энгельберт украдкой перевел дух: он не надеялся отделаться так дешево и поспешил с ответом, чтобы с достоинством уйти.
– Вы осудили меня, я должен вынести все! – сказал он мягким, полным горя голосом. – Прощай, Леони! Обстоятельства против меня, но ты все-таки была моей первой и единственной любовью!
Он торопливо направился к выходу, но за дверью его настигла карающая судьба в образе доктора, без околичностей схватившего его за руку.
– Теперь мы Поговорим, Энгельберт Вильман! – сказал Гагенбах, таща перепуганного толстяка в другой конец коридора, чтобы их не было слышно из номера. – Много с вами не стану возиться, но все-таки хочу хоть сказать вам, что вы негодяй, да-с, отъявленный негодяй! Правда, мне это чрезвычайно приятно, но это не меняет дела, все-таки вы негодяй! И такого человека оплакивать двенадцать лет, окружать его ореолом святости! Повесить его…
– Бога ради! – завопила жертва, но доктор яростно продолжал:
– Повесить его под траурной лентой и с букетом фиалок! Но теперь, надо надеяться, его снимут наконец со стены. Вы и заряда пороха не стоите!
Он тряхнул несчастного, которому говорил эти любезности, с такой злобой, что у того потемнело в глазах.
– Я не понимаю ни слова! – простонал Вильман, не вырываясь из страха наделать еще больше шума. – Сжальтесь и молчите об этом происшествии! Если моя жена узнает, если узнают мои посетители, город, я погибший человек!
– Да, история о несчастном просветителе язычников была бы недурной новостью для посетителей «Золотой овцы», – сказал Гагенбах с сердитым хохотом. – Я буду молчать не ради вас; вы заслужили, чтобы вас выставили к позорному столбу, но фрейлейн Фридберг это было бы неприятно, а потому пусть все останется между нами. Ну, с Богом! Мне тоже не о чем больше говорить с вами.
Доктор еще раз основательно тряхнул уничтоженного Вильмана, оставил его и вернулся в комнату в полной уверенности, что там необходима его помощь как врача; хотя Леони до сих пор, против его ожидания, держалась мужественно, то теперь должны были неминуемо наступить обмороки и истерика. Ничуть не бывало! Леони пошла ему навстречу; она была очень бледна и видно было, что она сильно плакала, но теперь вполне овладела собой.
– Я хотел посмотреть, как вы себя чувствуете, – с некоторым смущением сказал доктор. – Я боялся… Да, сегодня я признаю за вами право иметь «нервы». Не сочтите это за насмешку.
– Я совершенно здорова, – разуверила его Леони, не поднимая глаз. – Конечно, я только что испытала весьма горькое разочарование. Вы, без сомнения, догадываетесь, как было дело. Избавьте меня от стыда подробно рассказывать вам обо всем.
– Вам совершенно нечего стыдиться! – теплым, задушевным тоном произнес Гагенбах. – Какой же стыд непоколебимо верить в доброту и благородство человека? И если один обманул вас, В то нет никакой надобности терять из-за этого веру во всех остальных; на свете есть много людей, достойных этой веры.
– Я знаю это, – тихо ответила Леони, протягивая ему руку, – и не стану оплакивать воспоминание, не стоящее того, чтобы пролить о нем хоть одну слезу; пусть оно будет погребено навеки.
– Браво! – воскликнул доктор, хватая протянутую руку и собираясь сердечно пожать ее.
Но вдруг он одумался и остановился. Должно быть «кора грубости» была уже размягчена, потому что случилось нечто до сих пор не слыханное: доктор Гагенбах нагнулся и запечатлел на руке Леони в высшей степени нежный поцелуй.
21
В приемной хозяев гостиницы «Золотая овца» было тихо, К как всегда около полудня. В настоящую минуту единственным посетителем был Ландсфельд, пришедший переговорить с хозяином относительно второго большого собрания, которое должно было состояться на днях. Хозяина не было дома, и Ландсфельд, желавший поскорее закончить дела, без церемонии завладел хозяйской С приемной и здесь ждал Вильмана уже около четверти часа; он и не подозревал, что тот дома и даже знает о его приходе, но предпочел сначала раскланяться с оденсбергскими господами, прежде чем приветствовать вождя социалистов. Ландсфельд начал уже терять терпение; наконец дверь отворилась, но вместо ожидаемого Вильмана вошел Эгберт Рунек.
Молодой депутат, уезжавший сразу же после выборов, на несколько дней в Берлин для переговоров с главой партии, поразительно коротко и холодно поздоровался с товарищем, а тот в свою очередь ответил лишь легким кивком.
– Уже вернулся? – спросил Ландсфельд.
– Я приехал час тому назад, – ответил Рунек. – Я был на твоей квартире и узнал, что могу найти тебя здесь.
– Был у меня на квартире? Это редкая честь! Я хочу арендовать здесь зал на послезавтра, так как есть необходимость созвать второе собрание. Но тебя мы еще не ждали; разве вы уже закончили?
– Речь шла только о предварительных переговорах. Я считаю, что буду нужен в Берлине только через несколько месяцев, когда начнутся заседания в рейхстаге, и, мне кажется, теперь я нужнее здесь, чем там.
– Ошибаешься! – объявил Ландсфельд, – ты нам не нужен с тех пор, как тебя избрали. Я так и думал, что ты поторопишься вернуться, как только узнаешь, что в твоем любимом Оденсберге все пошло вверх дном. Да, мы выбили-таки из старика дух непобедимости! До сих пор он был так недосягаем, словно никто не смел и подумать о том, чтобы восстать против него; теперь же ему, как и всем его коллегам, придется бороться с нами. Вероятно, ему это не очень-то по вкусу.
– По-моему, у вас нет никакого основания торжествовать, – мрачно сказал Эгберт, – на ваш вызов Дернбург ответил увольнением массы рабочих.
– Этого следовало ожидать, и мы основательно подготовились к такому противодействию.
– То есть, лучше сказать, вы на это рассчитывали! Что же будет теперь?
– Теперь надо или нагнуть его, или сломить. Или старик отменит свое распоряжение об увольнении рабочих, или на всех его заводах остановятся работы.
– Дернбурга вы не нагнете, а сломить его у вас не хватит сил. Зато у него достаточно силы, чтобы сломить вас, и он беспощадно воспользуется ею, если вы поставите его перед таким выбором. Пусть его заводы будут стоять несколько недель или месяцев, он выдержит, а вы нет; забастовка не принесет результатов, и руководители нашей партии не желают ее, да и вообще никогда не желали; теперь они категорически высказались против нее.
– Вот как! Вот как! Вероятно, ты сделал все, чтобы настоять на таком решении? – спросил Ландсфельд, бросая на Рунека язвительный взгляд. – Ты ведь теперь один из вождей! Ты моложе всех, а между тем больше всех склонен к деспотизму и, как кажется, уже успел порядком прибрать к рукам остальных!
Рунек сделал гневное, нетерпеливое движение.
– Неужели у тебя на уме только личная неприязнь ко мне, когда дело касается интересов целой партии? Я приехал, чтобы передать тебе указание не доводить дела до крайности; выполняй же его.
– Очень жаль, но уже поздно! – спокойно возразил Ландсфельд, – требования уже предъявлены, и забастовка в случае их непринятия неизбежна. Рабочие не могут отступить, и в Берлине должны понимать это.
– Ого! Вот когда ты показал свою настоящую личину! – раздраженно крикнул Эгберт. – Значит, ты, постоянно ратующий за дисциплину, действовал самовольно?
– Да, на собственный страх! Надо же было наконец вывести трусов-оденсбергцев из их спячки. Какого труда мне стоило настоять на твоем избрании, как мы старались работать, и все-таки до последней минуты все было под вопросом. Наконец эта ленивая масса пришла в движение; теперь необходимо толкать ее вперед.
– Куда? К верной неудаче! Они последовали за вами к избирательным урнам и теперь еще слепо идут следом – чад победы еще кружит их головы; вы убедили их, что вы всемогущи. Но этот чад скоро пройдет. Как только рабочие опомнятся и поймут, что они теряют, выступая против хозяина Оденсберга, и чем рискуют из-за этого их жены и дети, ты и недели не удержишь их, они сломя головы побегут назад к Дернбургу. Но он будет уже не тот, он не простит оскорбления, нанесенного ему.
Рунек говорил все с большим волнением. Ландсфельд продолжал спокойно сидеть, не сводя с него глаз, и злая улыбка заиграла на его губах, когда он возразил:
– Ты как будто находишь совершенно резонной такую месть со стороны старика. На чьей, собственно, стороне ты стоишь?
– На стороне разума и права! Выбирать меня, а не Дернбурга, оденсбергцы имели право, даже он не может оспаривать это, как бы глубоко ни был оскорблен; но то, что его рабочие на его же заводах праздновали мою победу, что они чуть не под его окнами устроили праздник, торжествуя его поражение, это наглый вызов, и он только заслуженно отплатил им.
– В самом деле? Заслуженно? – повторил Ландсфельд, и его тон должен был бы предостеречь младшего товарища, но тот продолжал с возрастающей горячностью:
– Ты подстрекал рабочих через Фальнера, заставил их предъявить безумные требования, сводящиеся к чудовищному унижению их хозяина! Неужели вы действительно так плохо знаете этого человека? Или вы хотите просто начать войну с ним не на жизнь, а на смерть? Ну, так вы получите, что желаете! Дернбург достаточно долго был покровителем своих рабочих, теперь он покажет себя в роли властелина. И он прав! Я на его месте поступил бы точно так же!
Горький хохот Ландсфельда остановил Эгберта.
– Браво! О, это неоценимое признание! Наконец-то ты показал свое настоящее лицо! Это был сам оденсбергский старик, как живой! Он воспитал достойного ученика! Как ты думаешь, что будет, если я донесу в Берлин о том, что только что услышал?
Рунек сам почувствовал, что зашел слишком далеко, но это только подстегнуло его.
– Как тебе угодно. Неужели ты думаешь, что я позволю поработить себя до такой степени, чтобы не сметь свободно высказать свое мнение, даже находясь в обществе своих?
– Своих! В самом деле ты еще оказываешь нам такую честь – считаешь нас «своими»? Правда, ты ведь наш депутат! Я предостерегал о возможных последствиях, потому что давно знаю, к чему мы в конце концов придем с тобой; меня не слушали, хотели получить «гениальную силу» для нашего дела, а потому требовалось пустить в ход все средства, лишь бы добиться твоего избрания. Это было самое трудное из всего, что сделано нами в последние выборы, и для кого сделано! Скоро, конечно, и другие прозреют.

– Если ты хочешь помочь им прозреть – сделай одолжение, – жестко и гордо сказал Эгберт.
Ландсфельд вскочил и вплотную подошел к нему.
– Пожалуй, ты будешь доволен этим? Ведь ты буквально ведешь дело к разрыву. Не трудись, мой милый, мы не сделаем тебе такого удовольствия, мы не освободим тебя! Если тебе угодно будет стать изменником, перебежчиком, пусть весь срам падет на твою голову.
При этих насмешливых словах губы Рунека искривила горькая усмешка.
– Изменником? Так вот что мне приходится выслушивать за то, что я предан вам телом и душой, что принес вам в жертву будущее, такое будущее, какое редко кому выпадает в жизни!
– И теперь ты, разумеется, раскаиваешься?
– В том, что принес жертву, – нет, но в том, что вступил в вашу партию, – да.
– По крайней мере, ты откровенен, – насмешливо сказал Ландсфельд. – Ты бесцеремонно говоришь нам, в какую передрягу мы попали, избрав тебя, но этого уже не изменишь, и тебе придется волей-неволей исполнять свои обязанности в рейхстаге. К счастью, у всех еще свежи в памяти твои предвыборные речи; ты сам подрубишь сук, на котором сидишь, если вдруг вздумаешь теперь затянуть другую песню. И еще одно: не вздумай, чего доброго, вмешаться в оденсбергские дела – ими занимаюсь я. Я сумею оправдаться перед своим начальством; смотри, как бы тебе оправдаться; просто так тебе не удастся от этого отделаться, будь уверен!
Ландсфельд повернулся к товарищу спиной и, не простившись, вышел из комнаты.
Эгберт остался один и погрузился в раздумье. В его ушах навязчиво звучали слова, которые Дернбург сказал ему при расставании: «Ты мог бы стать хозяином в Оденсберге. Посмотрим, как отблагодарят тебя твои товарищи за чудовищную жертву, которую ты им приносишь!» Он только что получил эту благодарность.
Дверь тихонько приоткрылась, и хорошенькое девичье личико робко, но с любопытством заглянуло в образовавшуюся щель. Это была Майя, которая, путешествуя по гостинице, в конце концов добралась до хозяйской приемной. Едва она бросила взгляд' в комнату, как с ее губ сорвалось восклицание радости и удивления:
– Эгберт!
Рунек очнулся от задумчивости; одно мгновение он смотрел на нее, окаменев от изумления, потом воскликнул:
– Майя!.. Ты здесь!
Майя быстро проскользнула в комнату и заперла за собой дверь; Леони Фридберг и Гагенбах не должны были знать об этой встрече, иначе ей не позволили бы говорить с Эгбертом – он ведь был осужден в личном суде Оденсберга.
По-видимому, Рунек тоже вдруг вспомнил об этом; он медленно опустил руку, которую протянул было для приветствия, и сделал шаг назад.
– Могу ли я поздороваться с тобой по-прежнему? – тихо спросил он.
На лице Майи появилась тень, но она без колебания приблизилась к товарищу детства и протянула ему руку.
– Ах, Эгберт, зачем дело зашло так далеко? Если бы ты знал, как у нас теперь!..
– Я знаю, – последовал короткий, угрюмый ответ.
– Наш Оденсберг нельзя узнать. Прежде, когда мы проходили через заводы или встречались с рабочими, как весело нам кланялись, а когда показывался папа, все так и смотрели на него, каждый гордился тем, что папа заговорит с ним. Теперь папа запретил мне и Цецилии выходить за пределы парка, так как там мы не застрахованы от оскорблений. Правда, сам он ежедневно бывает на заводах, но я вижу по лицам наших служащих, что они считают это риском и боятся, что он в опасности среди собственных рабочих. А то, что случилось в день выборов, гложет его сердце! Такого отношения он не заслужил от них.
Майя не подозревала, какую боль причиняли ее слова человеку, стоявшему перед ней вполоборота. Он не произнес ни звука, но его лицо дрогнуло от еле сдерживаемой муки; Майя видела это и по-свойски доверчиво положила на его руку свою.
– Ты не хотел этого, я знаю, – сказала она тоном утешения, – но я единственный человек в Оденсберге, который еще держит руку за тебя; однако и я едва осмеливаюсь высказывать это; папа страшно раздражен и обозлен на тебя, а Оскар… то есть барон фон Вильденроде, поддерживает его в этом. Мои просьбы бесполезны, а Цецилия…








