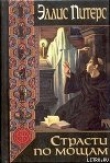Текст книги "Исповедь монаха"
Автор книги: Эллис Питерс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Брат Конрадин, еще возившийся у самого основания лесов, едва успел отскочить в сторону и несколько секунд стоял ослепленный, недоумевающий, в облаке снежной пыли. Брат же Уриен, находившийся значительно дальше и уже было открывший рот, чтобы позвать заработавшегося напарника – стало быстро темнеть, – успел только крикнуть «Берегись!» и рванулся вперед, так что снежный ком краем задел и его. На ходу отряхиваясь и по колено утопая в снегу, они одновременно, с двух сторон кинулись к брату Хэлвину.
Едва взглянув на него, брат Уриен побежал звать на помощь Кадфаэля, а Конрадин помчался в другую сторону – к монастырскому двору, где первого встретившегося ему монаха послал за братом Эдмундом, попечителем монастырского лазарета. Кадфаэль был у себя в сарайчике – закладывал на ночь дерном тлеющие угли в жаровне, – когда, громко хлопнув дверью, на пороге возник брат Уриен: его удрученный, встревоженный вид яснее ясного говорил, что принес он плохие новости.
– Поспеши, брат! – сказал он без лишних предисловий. – Брат Хэлвин свалился с крыши и разбился.
Кадфаэль, тотчас смекнув, что все расспросы лучше отложить на потом, молча схватил с пола последний кусок дерна, наспех положил его на угли и стащил с полки толстое шерстяное одеяло.
– Насмерть? Поди не меньше сорока футов пролетел, бедняга, небось еще покалечился о леса, и внизу ведь голый лед! Но, если ему повезло, он мог попасть в сугроб – снегу полно, к тому же с крыши тоже набросали – может, все и обойдется?
– Дышит пока. Но насколько его хватит? Конрадин послал за подмогой. Эдмунда тоже должны были известить.
– Идем! – Кадфаэль первый выбежал из дому и что было духу ринулся к пешеходному мостику над протокой, потом вдруг резко остановился и рванул напрямик, по узкой насыпи, разделявшей монастырские пруды – там, в конце насыпи, протоку было легко перепрыгнуть и, главное, он быстрее оказался бы возле Хэлвина. Со стороны главного двора навстречу им приближались огни зажженных факелов – то был брат Эдмунд с двумя подручными, которые тащили носилки. Вел их за собой брат Конрадин.
Брат Хэлвин неподвижно лежал посреди груды обломков, а на льду под его головой темным пятном расплывалась кровь.
Глава вторая
Конечно, трогать его было рискованно, но оставить на месте значило попросту смириться, безропотно отдать его в руки смерти, которая уже нависла над ним. Молча, сосредоточенно, понимая, что каждая минута на счету, они принялись за дело – голыми руками стали разгребать завал, откапывая Хэлвина из-под обломков досок и сланцевых плиток с острыми, как нож, краями, которые так изрезали его ноги, что превратили их в сплошное кровавое месиво. Он лежал в глубоком обмороке и не чувствовал, как под него подсунули ремни и, приподняв со льда, переложили на носилки. Через темный, ночной сад его принесли в лазарет, где брат Эдмунд уже приготовил ему постель – в маленькой комнате, отдельно от больных и немощных, доживавших здесь, в монастырской больнице, свой век.
– Ему не выкарабкаться, – сказал Эдмунд, вглядываясь в мертвенно-бледное, безучастное лицо.
По правде говоря, Кадфаэль и сам так думал. Да и все, кто там был, тоже. Но пока он дышал – пусть это было прерывистое, шумное дыхание, свидетельствующее о серьезной, а может, и неизлечимой травме головы. И они взялись за него, как за больного, у которого есть шансы выжить, вопреки своему собственному убеждению, что этих шансов у него нет. Бесконечно осторожно, стараясь лишний раз его не тревожить, они сняли с него заледеневшую одежду и обложили с боков одеялами, обвернутыми вокруг нагретых камней. Кадфаэль тихонько ощупывал его, проверял, какие кости целы, какие сломаны. Он наложил ему повязку на левое предплечье, предварительно вправив торчащие наружу острые обломки кости. Неподвижно застывшее лицо при этом ни разу даже не дрогнуло. Затем он внимательно осмотрел и ощупал голову Хэлвина, перевязал кровоточащую рану, но не сумел выяснить, поврежден ли череп. Тяжелое, хриплое дыхание как будто говорило в пользу этого печального предположения, но все же окончательной уверенности не было. А потом брат Кадфаэль перешел к покалеченным ступням и лодыжкам несчастного – и тут уж ему пришлось основательно повозиться. Хэлвина тем временем раздели, прикрыли подогретыми полотнищами (снаружи остались только ноги), не то он, неровен час, мог попросту умереть от холода, и на всякий случай со всех сторон подперли его простертое тело таким образом, чтобы Хэлвин не мог пошевелиться, даже если пришел бы в себя и непроизвольно дернулся от боли. Впрочем, в это никто не верил – ну, разве самую малость, цепляясь за какую-то упрямую, неведомо где притаившуюся ниточку надежды, которая заставляла их не жалея сил поддерживать угасающую на их глазах искру жизни.
– Отходил свое, бедняга, – сказал брат Эдмунд, невольно содрогнувшись при виде раздробленных ступней, которые Кадфаэль в эту минуту заботливо обмывал.
– Да, на своих ногах ему больше не ходить, – мрачно подтвердил Кадфаэль. Тем не менее, он продолжал скрупулезно собирать воедино, что еще можно было собрать.
Пока с ним не стряслась эта беда, ступни у брата Хэлвина были длинные, узкие, изящные, под стать всей его легкой, стройной фигуре. Острые обломки плиток оставили на них глубокие, рваные раны – где прорвав плоть до кости, а где и раздробив саму кость. Долго, очень долго пришлось извлекать окровавленные осколки и потом тщательно перевязывать каждую ступню так, чтобы придать ей хоть какое-то подобие прежней формы; затем на ноги надели наспех сделанные из войлока импровизированные колодки, выложив их внутри мягким тряпьем, чтобы ступни все время оставались неподвижными и могли заживать – если, конечно, до этого дойдет.
Все это время брат Хэлвин лежал безучастный к тому, что с ним делали, погруженный в какие-то неведомые глубины, куда не проникает ни свет, ни тьма земного мира, и только хрипло, надсадно дышал, но вот и дыхание постепенно стихло – только едва уловимый шелест, словно один-единственный лист, случайно задержавшийся на ветке, чуть колышется, колеблемый неслышным ветерком. Присутствующим показалось, что он умер. Но листок на ветке еще подрагивал, хотя так слабо, что и заметить было трудно.
– Если он придет в себя хоть на минуту, немедленно пошлите за мной, – распорядился аббат Радульфус и ушел, оставив их дежурить подле постели больного.
Брат Эдмунд удалился, чтобы немного поспать. А Кадфаэль остался на ночь вместе с братом Руном, самым молодым из монахов обители. Они расположились по обе стороны от ложа умирающего и не сводили глаз со спавшего глубоким сном брата, который не получил ни причастия, ни благословения, словом, не был подготовлен к смерти.
Немало лет прошло с тех пор, как Хэлвин вышел из-под попечения брата Кадфаэля и отправился на тяжелые физические работы в Гайе. Кадфаэль пристально вглядывался в его нынешние черты, вспоминая те, давние, почти забытые – как сильно и одновременно как мало он изменился! Да, крупным его, Хэлвина, не назовешь, хотя росту он повыше среднего, в кости тонкий, изящный даже, правда, теперь на костях у него больше жил и меньше мяса, чем когда он пришел в монастырь, совсем незрелым юнцом, еще не огрубевшим, не затвердевшим в суровой мужественности. Сейчас ему, должно быть, тридцать пять – тридцать шесть, тогда только стукнуло восемнадцать, и он был полон нежной, юношеской свежести. Кадфаэль помнил его удлиненное лицо, красивые сильные линии подбородка и скул, тонкие дуги бровей, почти черных по сравнению с копной вьющихся каштановых волос, которым он предпочел тонзуру. Лицо, запрокинутое к потолку, даже на фоне подушки было сейчас белее мела; ввалившиеся щеки и два глубоких колодца закрытых глаз стали синеватыми, как тени на снегу, да и вокруг запавших губ, прямо у них на глазах, начала проступать та же лиловатая синева. В ранние предрассветные часы, когда ручеек жизни бьется слабее всего, он испустит дух, а если нет – начнет исцеляться.
Напротив Кадфаэля по другую сторону кровати стоял на коленях брат Рун – сосредоточенный, но ничуть не страшащийся приближения смерти, и не потому, что смерть угрожала не ему; он знал, что и собственную смерть встретит так же спокойно. В полумраке каменных стен его чистое юное лицо, венчик белокурых волос на голове, голубые глаза и какая-то неподдельная искренность словно озаряли все вокруг добрым светом. Нужно было обладать непоколебимой, наивной верой, чтобы спокойно оставаться у постели умирающего, ощущая в своем сердце только бесконечную любовь и добро, и ни тени жалости. Сколько раз Кадфаэль видел, как к ним в обитель приходили молодые люди с печатью той же очарованной веры на челе, – и сколько раз он видел, как эта вера не выдерживала испытания временем, тускнела, разрушалась понемногу под гнетом простой и такой трудной обязанности: сохранить и пронести через годы лучшие душевные качества. Но юному Руну эта опасность не грозила. Святая Уинифред, пославшая ему избавление от физического увечья, конечно, не допустит, чтобы ее щедрый дар был обесценен духовным изъяном.
Ночь тянулась бесконечно, не принося никаких перемен: брат Хэлвин был по-прежнему недвижим и никаких видимых признаков жизни не обнаруживал. Но вот, уже перед самым рассветом, Рун наконец тихо сказал:
– Смотри, он шевельнулся!
Чуть заметная дрожь пробежала по застывшему лицу, темные брови сдвинулись, веки напряглись, реагируя на первые, пока еще смутные сигналы боли, губы на миг растянулись и на лице возникла гримаса страдания и беспокойства. Они ждали, как им показалось, долго, – бессильные что-либо предпринять, разве только вытереть мокрый лоб и дорожку слюны, вытекшей из угла запавшего рта.
С первыми проблесками неверного, отраженного снегом света брат Хэлвин открыл глаза – черные, как уголь, глядящие из глубоких синеватых впадин, – и пошевелил губами, издав едва уловимый звук, так что Руну пришлось наклониться и приставить ухо к самым его губам, только тогда он смог разобрать и вслух повторить услышанное.
– Исповедь… – выдохнул тот, кто стоял на пороге смерти. Больше ничего.
– Беги, позови отца аббата, – сказал Кадфаэль.
Рун бесшумно поспешил исполнить команду. Хэлвин постепенно приходил в себя, к нему возвращалась ясность сознания и ощущений, взгляд становился осмысленным – он уже понимал, где он и кого видит рядом, и с усилием собирал все остатки жизни и рассудка, дабы исполнить то, что ему казалось самым важным. По напряженным, побелевшим губам Кадфаэль видел, как стремительно накатывает на него боль, и пытался влить ему в рот немного маковой вытяжки, но Хэлвин только плотнее сжимал губы и отворачивал голову. Он не желал, чтобы что-то притупляло или заглушало его чувства, во всяком случае не сейчас, не до того, как он облегчит свою душу.
– Отец аббат скоро будет, – сказал Кадфаэль, склонившись к самой подушке. – Подожди, побереги силы.
Аббат Радульфус и правда уже входил в дверь, пригнув голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Он сел на табурет, с которого несколькими минутами раньше поднялся Рун, и наклонился над несчастным. Рун остался за дверью наготове, если понадобится его помощь. Дверь он тактично притворил. Кадфаэль встал, чтобы удалиться, но тут желтоватые искорки беспокойства вспыхнули в провалившихся глазах Хэлвина и по телу его пробежала быстрая судорога, раздался стон нестерпимой боли: казалось, он хотел поднять руку и удержать Кадфаэля, да не мог. Аббат пригнулся еще ниже, чтобы Хэлвин не только слышал его, но и видел.
– Я здесь, сын мой. Я тебя слушаю. Что тревожит тебя?
Хэлвин набрал в легкие воздух и задержал дыхание, словно накапливал побольше голоса.
– Я грешен… – вымолвил он. – Никому не рассказывал. – Слова давались ему с трудом, он говорил медленно, но вполне отчетливо. – Я виноват перед Кадфаэлем… давно… грешен… не покаялся.
Аббат взглянул на Кадфаэля, сидевшего с другой стороны кровати.
– Останься! Он так хочет. – Затем, снова обращаясь к Хэлвину, он коснулся его безжизненной руки и сказал: – Говори как можешь, мы тебя слушаем. Береги силы, говори мало, мы сумеем понять.
– Мой обет, – донеслось словно откуда-то издалека, – нечист… не вера привела… отчаяние!
– Многие приходят из ложных побуждений, – сказал аббат, – а остаются – из истинных. За те четыре года, что я возглавляю обитель, мне не в чем было тебя упрекнуть. Посему утешься: наверно, у господа были причины призвать тебя именно так, а не иначе.
– Я был на службе у де Клари в Гэльсе, – произнес слабый голос. – У госпожи де Клари – сеньор уехал тогда в святую Землю. Его дочь… – Повисла долгая пауза, пока он старательно, терпеливо собирался с силами, чтобы продолжать и перейти к главному – и худшему. – Я любил ее… и она меня тоже. Но ее мать… она отклонила мое сватовство. То, чего нам не позволили, мы взяли сами…
И снова долгая тишина. Посиневшие веки на минуту прикрыли горящие глаза в провалах черных глазниц.
– Мы были близки, – отчетливо сказал он. – В этом грехе я покаялся, но ее имя хранил в тайне. Госпожа прогнала меня. От отчаяния я подался сюда… думал, так не принесу никому нового горя. Но самое страшное было еще впереди!
Аббат уверенным жестом положил свою руку на неподвижную руку Хэлвина и крепко сжал ее: лицо на подушке как-то сразу осунулось, превратилось в серую маску, дрожь побежала по изувеченному телу, оно напряглось и безжизненно замерло.
– Отдохни! – сказал Радульфус, наклонясь к самому уху несчастного. – Не мучай себя. Господь слышит и несказанное.
Кадфаэлю, не сводившему с Хэлвина глаз, показалось, что его рука ответила на пожатие, – конечно, слабо, еле-еле. Он принес вино, настоянное на травах, которым смачивал губы больного, пока тот лежал без чувств, и влил несколько капель ему в рот – на этот раз Хэлвин не противился – жилы на худой шее напряглись, и он проглотил снадобье. Значит его час еще не пробил. У него еще есть время снять тяжесть с сердца. Ему снова дали немного вина, и постепенно серая маска опять превратилась в живую плоть, хотя страшно бледную и слабую. Когда он снова заговорил, голос звучал почти неслышно и глаза были закрыты.
– Святой отец? – испуганно позвал Хэлвин.
– Я здесь. Я не оставлю тебя.
– Ее мать приезжала ко мне… Я и не знал, что Бертрада ждет ребенка! Госпожа очень боялась гнева своего мужа, когда тот вернется и все узнает. А я в то время был в подручных у брата Кадфаэля… уже изучил разные травы. Я никому ничего не сказал, сам взял иссоп, ирис… Знал бы тогда Кадфаэль, на что я употребил его травы!
Да уж! То, что в малых дозах может помочь снять воспаление в груди и избавиться от мучительного кашля или даже одолеть желтуху, в иных дозах может прервать беременность, привести к выкидышу, а это уже деяние не только противное природе и неугодное церкви, но и опасное для женщины, носящей плод в своем чреве. Из страха перед гневом мужа, из страха опозориться перед всем миром, из страха, что не удастся устроить дочери хорошую партию и что давние семейные распри за наследство вспыхнут с новой силой… Мать ли девушки заставила его пойти на это, он ли сам ее уговорил?.. Годы, проведенные в раскаянии и искуплении, не смогли избавить его от ужаса содеянного – того, что теперь судорогой сводил тело и застилал взор.
– Они умерли, – сказал он хрипло и громко, корчась от душевной боли. – Моя любимая и наше дитя, они умерли! Ее мать прислала мне известие уже после похорон. Дочь умерла от лихорадки, так она всем сказала. Умерла от лихорадки – и позора бояться не надо. Грех, мой страшный грех… Господи, прости меня!
– Всевышний знает, когда раскаяние искренно, а когда нет, – сказал аббат Радульфус. – Что ж, теперь ты поведал нам свою печаль. Это все, или ты желаешь сказать что-то еще?
– Это все, – сказал брат Хэлвин. – Осталось только попросить прощения. Я прошу прощения и у бога, и у Кадфаэля, ведь я во зло употребил его искусство. И еще у леди Гэльс, моей госпожи, за то великое горе, что я причинил ей. – Теперь, высказав наконец то, что так долго томилось под спудом, он уже лучше владел и голосом, и речью, словно путы упали с его языка, и хотя говорил он по-прежнему тихо, но гораздо яснее и спокойнее. – Я хотел бы встретить смерть очистившимся и прощенным.
– Ну, брат Кадфаэль сам за себя скажет, – заметил аббат. – За бога буду говорить я, ибо на мне его благодать.
– Я прощаю тебе, – сказал Кадфаэль, стараясь более тщательно, чем обычно, подбирать слова, – всякое злоупотребление моим искусством, совершенное в момент временного помутнения разума. А то, что ты располагал знаниями и средствами совершить преступление, а я не сумел удержать тебя от искушения, в том есть и моя вина, и я не могу упрекать тебя, не упрекая в то же время и себя самого. Пусть мир пребудет в твоей душе!
Речь аббата Радульфуса, которую он произносил именем божьим, заняла немного больше времени. Слушая его, Кадфаэль невольно подумал, что кое-кто из братьев был бы до глубины души изумлен, открыв в аббате, кроме его обычной непреклонной суровости, такой запас рассудительной, властной, подчиняющей доброты. Хэлвин желал облегчить свою совесть и очиститься перед смертью. Налагать на него епитимью было слишком поздно. За успокоение души на смертном одре не назначают платы, его просто даруют.
– Безутешное, полное раскаяния сердце – вот единственная жертва, которую ты можешь предложить, и она не будет отвергнута. – И аббат отпустил ему грехи и благословил, и с тем вышел кивнув Кадфаэлю, чтобы тот последовал за ним. Силы оставили Хэлвина, и его лицо, только что светившееся благодарностью и умиротворением, снова замкнулось и не выражало ничего, кроме смертельной усталости, огонь в глазах потух, и он впал в полусон-полузабытье.
За дверью их терпеливо дожидался Рун, который специально отошел подальше, чтобы до него случайно не долетели какие-то обрывки исповеди.
– Пойди посиди с ним, – сказал ему аббат. – Сейчас он, верно, заснул, и сон его будет покойный. Если заметишь какие-то перемены в его состоянии, сразу беги за братом Эдмундом. А если возникнет нужда в брате Кадфаэле, пошли за ним ко мне.
Они устроились в отделанных панелями покоях аббата – единственные два человека, посвященные в тайну преступления, ответственность за которое взял на себя Хэлвин, единственные, имеющие право обсудить друг с другом его признание.
– Я здесь всего четыре года, – без околичностей начал аббат Радульфус, – и не знаю, при каких обстоятельствах попал сюда Хэлвин. Насколько я понимаю, его почти сразу приставили к тебе помогать с травами – тут-то он и приобрел необходимые познания, которые, увы, так неблаговидно употребил. Скажи, это верно, что составленное им снадобье и впрямь могло кого-то погубить? Может, юная леди все-таки умерла от лихорадки?
– Если ее мать воспользовалась этим снадобьем, как и собиралась, тогда лихорадка тут ни при чем, – печально сказал Кадфаэль. – Да, я знаю случаи, когда иссоп приводил к смерти. Какая глупость была с моей стороны держать его у себя, ведь я вполне смог бы найти ему замену среди других трав. Правда, в малых дозах трава и корень иссопа, высушенные и истолченные, прекрасно помогают от желтой немочи, а в смеси с шандрой он хорош при хрипах в груди, хотя для этой цели лучше брать разновидность с синими цветочками, она помягче. Я знаю, что женщины прибегают к нему, чтобы избавиться от плода – принимают в больших дозах и вычищают все так, как и не надо бы. Не удивительно, что порой бедняжки не выдерживают и умирают.
– И все это случилось, когда он был еще послушником. Если ребенок – его, как он сам считает, значит пробыл он в монастыре к тому времени совсем немного. Да ведь он сам был почти ребенок!
– Только-только восемнадцать стукнуло, ну и милой его, конечно, не больше, скорее всего – меньше. Да могло ли сложиться иначе, – сказал Кадфаэль, – если жили они под одной крышей, виделись каждый божий день, от рождения принадлежали к одному кругу – он ведь происходит из знатного рода – и, как все дети на свете, были раскрыты для любви. Удивительно другое, – произнес Кадфаэль, постепенно приходя в возбуждение, – почему его сватовство так вот походя отвергли? Он, между прочим, единственный сын в семье и со временем унаследовал бы от отца неплохое имение, если б не ушел в монастырь. Да и вообще, как я сейчас припоминаю, он был очень привлекательный молодой человек, образованный и к наукам способный. За такого многие были бы рады отдать свою дочь.
– Но, может, она была обещана другому? – предположил Радульфус. – И ее мать, боясь навлечь на себя гнев мужа, не решилась в его отсутствие дать разрешение на брак.
– И все же ей необязательно было отказывать ему окончательно и бесповоротно. Если бы она оставила ему какую-то надежду, он, конечно, набрался бы терпения и подождал еще немного, не стал бы опережать события, чтобы любой ценой добиться своего. Впрочем, я, пожалуй, несправедлив к нему, – осадил себя Кадфаэль. – Полагаю, в его поступке не было расчета, а только пылкое влечение, слишком пылкое. Хэлвин кто угодно, только не злонамеренный интриган.
– Что ж, так или иначе, – вздохнул Радульфус, – сделанного не воротишь. Он не первый и не последний, кто по молодости лет впадает в этот грех, так же как и она не единственная, кому пришлось за это заплатить. По крайней мере, она спасла свое доброе имя. Немудрено, что он боялся покаяться, даже своему духовнику не доверился – берег ее честь. Но с тех пор уже столько воды утекло – восемнадцать лет прошло, столько же, сколько было ему самому в ту пору. Теперь нам остается только позаботиться, чтобы на пороге вечного покоя его душа наконец обрела мир.
Все, кто молился о брате Хэлвине, уповали на тихое успокоение несчастного и только об этом просили господа; ни на что другое надеяться уже не приходилось: ненадолго придя в себя, он снова впал в глубочайшее беспамятство. Пришло и ушло Рождество, сменялись у его постели монахи, а он лежал безучастный ко всему, ничего не ел, не издавал ни единого звука – и так продолжалось семь дней. И все же дыхание его, хотя и с трудом различимое, было ровным; а когда ему в рот вливали по капельке вино с медом, мышцы на шее тут же напрягались, совершая глотательное движение, несмотря на то, что на лице его при этом ни разу не дрогнул ни единый мускул и широкий холодный лоб и закрытые глаза оставались каменно-неподвижными.
– У меня такое чувство, что от него осталось одно тело, – задумчиво сказал брат Эдмунд, – а дух на время из него вышел и где-то витает, будто ждет, когда его обиталище приведут в порядок – подправят, почистят, – чтобы там снова можно было жить.
«Что ж, неплохое сравнение и вполне в духе Священного Писания, – подумал Кадфаэль, – ибо Хэлвин изгнал бесов, населявших его душу, и ничего, коли их прежнее пристанище немного попустует – тем более если нежданное и невероятное исцеление все же свершится. Как знать? Конечно, тяжелое беспамятство брата Хэлвина, само по себе напоминающее вечный сон, уж очень затянулось, но ведь он не умер! И если у него остался какой-то шанс выжить, то нам всем надо глядеть в оба», – рассуждал брат Кадфаэль. Как бы на место одного беса, выскочившего за дверь, туда не кинулось семеро других – похлеще первого. И монахи истово молились за Хэлвина все эти дни, пока праздновалось рождество и торжественно отмечалось начало нового года.
Тут и оттепель началась, медленно, словно нехотя уменьшая груз снежной толщи – день за днем, незаметно, но теперь уже неотступно. Работы на крыше благополучно завершились, никаких происшествий больше не было, леса убрали, и в странноприимном доме можно было останавливаться, не боясь протечек. О недавнем переполохе напоминала только безмолвная и неподвижная фигура на одинокой лазаретной койке – несчастный, который не мог ни воскреснуть для жизни, ни тихо умереть.
Но вот вечером, накануне крещения, брат Хэлвин открыл глаза, вздохнул протяжно и с удовольствием, как это делают, пробуждаясь, сотни людей, душа которых не отягощена тревогами, и удивленным взглядом обвел узкую комнату, пока не заметил брата Кадфаэля, тихонько сидевшего тут же на табурете и не сводившего с него глаз.
– Пить хочу, – произнес Хэлвин доверчиво, точно ребенок, и Кадфаэль, одной рукой приподняв его за плечи, другой дал ему напиться.
Все были готовы к тому, что Хэлвин опять провалится в забытье, но взор его оставался осмысленным, хотя и безучастным, и ближе к ночи он погрузился в нормальный сон, неглубокий, но спокойный. С того дня он окончательно повернулся лицом к жизни и больше не оглядывался на холодную пустоту за спиной. Выйдя из полумертвого бесчувствия, он опять попал во власть боли – ее безжалостный росчерк читался в мучительно напряженном лбе и плотно сжатых губах. Но он терпел и не жаловался. Пока он лежал в беспамятстве, сломанная рука начала срастаться и только немного ныла, как всякая заживающая рана. Внимательно понаблюдав за ним день-другой, и Кадфаэль, и Эдмунд пришли к выводу, что, если даже в голове у него что-то сместилось от удара, эти повреждения, вероятно, не оставили серьезного следа, и по мере заживления наружной раны все стало на место благодаря исцеляющей силе вынужденного покоя и неподвижности. Разум его был ясен. Он помнил обледенелый скат крыши, помнил свое падение, и однажды, оставшись наедине с Кадфаэлем, брат Хэлвин ясно дал понять, что помнит и о своем признании: он долго лежал молча и думал о чем-то, а потом вдруг сказал:
– Я дурно обошелся с тобой тогда, очень давно; теперь ты нянчишься со мной, выхаживаешь меня, а я ведь так и не искупил своей вины.
– Да ладно, дело прошлое, – невозмутимо проронил Кадфаэль и принялся осторожно, заботливо разматывать обмотки на искалеченной ступне, чтобы заново ее перевязать. Все это время он делал перевязки на ногах два раза в день – утром и вечером.
– Но я должен заплатить за свой грех, сполна заплатить. Разве есть у меня иной способ очиститься?
– Ты же чистосердечно во всем покаялся, – пытался унять его Кадфаэль. – Ты получил отпущение от отца аббата. Чего тебе еще? Не слишком ли много ты на себя берешь?
– Но я не искупил греха. Отпущение досталось мне слишком легко, и я по-прежнему в должниках, – сумрачно ответил Хэлвин.
Кадфаэль наконец освободил от повязки левую, наиболее изувеченную ступню. Наружные раны и порезы затянулись, но множество раздробленных мелких костей уже никогда не удастся соединить надлежащим образом – они срастутся как попало, в один бесформенный комок, узловатый, искореженный, нездорового багрово-фиолетового цвета, укрытый, как чехлом, залатанной кожей.
– Не волнуйся, – сказал Кадфаэль со свойственной ему грубоватой прямотой, – если за тобой и есть долги, ты сполна оплатишь их болью и будешь платить до конца твоих дней. Видишь, во что превратилась твоя ступня? Не очень-то надежная опора! Боюсь, ходить тебе уже не придется.
– Нет, – сказал Хэлвин, неподвижно глядя в узкий просвет окна на вечернее зимнее небо. – Нет, я буду ходить. Я должен ходить. Если будет на то воля божья, я снова встану на ноги и пойду. Конечно, мне понадобятся костыли, но это ничего. И если отец аббат соблаговолит дать на то мне свое согласие, первое что я сделаю, когда смогу самостоятельно передвигаться, – пойду своими ногами (какие они ни есть) в Гэльс: постараюсь испросить прощение у леди Аделаис де Клари и проведу ночь в молитвах и бдении у могилы Бертрады.
Про себя Кадфаэль подумал, что неистовое желание Хэлвина искупить свою вину вряд ли принесет утешение душам тех, кто еще жив или уже отошел в мир иной, да живые, пожалуй, и не вспомнят теперь, кто такой Хэлвин, – прошло ведь без малого восемнадцать лет. С другой стороны, если благое намерение дает человеку мужество и решимость жить, трудиться, творить, стоит ли его разубеждать? Поэтому Кадфаэль сказал так:
– Всему свое время. Давай-ка сперва как следует тебя подлатаем, подождем, пока к тебе вернутся силы – крови-то сколько потерял! В таком состоянии тебя никто никуда не пустит. – И затем, внимательно осмотрев правую ступню, которая, по счастью, сохраняла какое-то подобие нормальной человеческой ступни и даже лодыжка не была повреждена и выступала, как положено, Кадфаэль задумчиво добавил: Надо будет смастерить для тебя какие-нибудь башмаки из толстого войлока и внутрь положить чего-нибудь помягче. Одной ногой ты, похоже, сможешь ступать на землю, хотя без костылей, само собой, не обойтись. Но до этого еще далеко, очень далеко – пройдут недели, а то и месяцы. Для начала снимем мерку и поглядим, что у нас получится.
Поразмыслив, Кадфаэль решил, что правильнее будет все-таки загодя уведомить аббата Радульфуса о намерении брата Хэлвина совершить акт покаяния, и после заутрени, уединившись с аббатом в его покоях, он все ему поведал.
– Он снял со своей души столь тяжкое бремя, – сказал Кадфаэль, – что мог бы умереть спокойно, но судьба распорядилась иначе: ему суждено жить дальше. Ум у него ясен, воля крепка, а телом он хотя покамест и изнурен, но не бессилен. И теперь, когда перед ним снова забрезжил свет жизни, он не захочет довольствоваться простым отпущением грехов – он жаждет искупить их суровым покаянием. Будь он другим, более легкомысленным что ли, позволь он потом, когда поправится, уговорить себя забыть о данном в отчаянии обете паломничества в Гэльс, лично я был бы этому только рад и не подумал бы упрекнуть его. Но для Хэлвина без покаяния нет раскаяния. Я постараюсь задержать его насколько смогу, но помяните мое слово, едва он почувствует, что достаточно окреп, он опять заведет этот разговор.
– Что ж, мне вряд ли пристало отказывать в исполнении столь благого намерения, – резонно заметил аббат, – однако я не дам согласия, пока он не наберется сил. Но если то, что он задумал, поможет ему обрести душевный покой, разве вправе я становиться у него на пути? И для несчастной женщины, потерявшей дочь, это тоже может стать запоздалым утешением. Мне не доводилось бывать в Гэльсе, – задумчиво произнес аббат, обеспокоенный предстоящим паломничеством калеки, – хотя о де Клари я что-то слышал. Ты не знаешь, далеко это?
– У восточной границы нашего графства, святой отец. От Шрусбери миль этак двадцать пять.
– Да, вот что еще. Владетельный лорд, хозяин манора, тот, что был в святой Земле, когда случилась вся эта печальная история, – он ведь до сих пор может пребывать в неведении относительно истинных обстоятельств кончины дочери, если из страха перед мужниным гневом его супруга решилась на столь отчаянный поступок. Не годится, чтобы брат Хэлвин, спасая собственную душу, навлек на этот дом новые несчастья и беды и подвергал опасности жизнь леди Гэльс. Каковы бы ни были ее проступки, она сполна оплатила их своим горем.