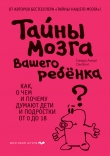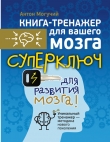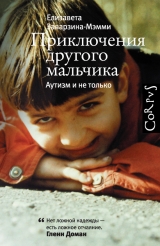
Текст книги "Приключения другого мальчика. Аутизм и не только"
Автор книги: Елизавета Заварзина-Мэмми
Жанры:
Детская психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Курс “Что делать…” проводят несколько раз в году, это первый из серии лекционных курсов, организованных в Институтах для родителей. Задача курса – объяснить принципы развития и работы мозга, на которых основаны программы реабилитации, ведь невозможно трудиться годами, не понимая, что именно мы стараемся исправить. Эти программы разрабатывались в течение десятилетий, положенные в их основу выводы – результат огромной статистической работы, проводившейся в Институтах. Слушать этот курс приезжает много народу, но заниматься по программам остается около трети: марафон, когда приходится менять всю жизнь семьи на несколько лет, под силу далеко не всем.
Мой долгожданный курс проходил в июне. Я на целую неделю одна отправлялась в Америку, а трудиться с Петей над выполнением нашей домашней программы оставались моя мама и Поля. Мне все не верилось, что я попаду в Институты, казалось, что обязательно что-то должно помешать. И действительно, буквально накануне отлета случился знаменитый ураган, столько всего в Москве поломавший и порушивший. Было неясно, сможет ли вылететь мой самолет, в аэропорту не было электричества, но все же после нескольких часов задержки мы взлетели.
Прямого рейса из Москвы в Филадельфию не было, маршрут был с пересадкой в Нью-Йорке: сначала восемь часов полета, потом пять часов в аэропорту и еще полчаса на каком-то кукурузнике. В пригород Филадельфии, где находятся Институты, я добралась уже полумертвая, в гостинице мне так и не удалось справиться с замысловатым душевым штурвалом, я облилась холодной водой и рухнула в постель.
Из-за разницы во времени и волнения я проснулась в четыре утра и решила отправиться искать Институты. Вместе с другими документами нам прислали план местности, и я довольно быстро нашла несколько зданий, окруженных парком, в красивом месте с названием Каштановые Холмы.
Я пришла слишком рано и еще часа два сидела перед входом, наблюдая, как пробуждается жизнь: вот мимо в спортивном костюме пробежал сын Гленна Домана Дуглас, прошла с тремя ретриверами Джанет, дочь Гленна Домана (узнала по фотографиям в буклете), проходили другие, еще незнакомые люди.
Наконец двери открыли, и можно было попасть внутрь. Почти все слушатели зарегистрировались накануне, а мою папку никак не могли найти, и я с ужасом ждала, что меня сейчас не допустят до лекций. Но папка нашлась, и я смогла осмотреться.
Всего нас собралось около 100 человек: два или три специалиста, остальные – родители. В аудиторию еще не пускали, поэтому все стояли и сидели в холле, некоторые беседовали друг с другом. Первыми, с кем я заговорила, были тихие, вежливые индусы – супружеская пара. Их сын-подросток попал в аварию, уже несколько месяцев находился в коме, и они надеялись на помощь: в Институтах разработаны методики выведения из комы.
Еще запомнились:
Две четы хасидов из Бруклина, с пейсами, шляпами, париками. Молодая красивая Хая рассказала, что у них уже четверо детей, у трехлетней дочки Темы очень тяжелая форма ДЦП: она не слышит, не видит, не двигается.
Шофер-дальнобойщик, его жена слушала курс раньше.
Профессор-энтомолог с женой.
Милые, приветливые техасцы, говорившие с таким акцентом, что я половину слов не понимала.
Крикливая толстуха в коротких шортах.
Врач-невропатолог из Лос-Анджелеса.
Приятная женщина средних лет, приехавшая ради племянника с ДЦП. У мамы мальчика, ее сестры, последняя стадия рака, а папа три года назад погиб в автокатастрофе.
Каждой услышанной истории хватило бы на отдельную книгу…
Когда мы вошли в аудиторию, оказалось, что все места уже распределены, к столам прикреплены таблички с нашими именами. Каждый день нас пересаживали, вероятно, чтобы вновь познакомившиеся не болтали друг с другом, вместо того чтобы слушать лектора.
Аудитория расположена амфитеатром, внизу – кафедра и сцена, где проводятся демонстрации. Позади кафедры на двух подвижных створках представлен огромный цветной Профиль развития (о нем ниже), к которому постоянно обращаются лекторы.
После короткого вступительного слова нам объяснили, как будут проходить занятия. Долгий звонок, по которому можно войти, потом вход категорически запрещен. Если кто-то опоздал хоть на минуту, его в аудиторию не допускают, и, чтобы продолжить курс, он должен сдать пропущенный материал [5]5
Сейчас опоздавшие могут слушать и смотреть лекцию из холла.
[Закрыть]. Занятия с половины десятого утра до семи-восьми часов вечера, с десятиминутными перерывами между лекциями, каждая из которых длится около пятидесяти минут, и сорокаминутным перерывом на обед. На то, чтобы ходить в столовую, времени не было, и в большой перерыв в холл приносили одноразовую посуду и большие кастрюли с супом.
Слушатели лекций, родители, – люди самые разные, от дипломированных медиков до тех, у кого нет никакого специального образования. Когда-то в МГУ я слышала такую фразу: “Если профессор не может объяснить семилетнему ребенку, в чем смысл его работы, значит, это плохой профессор”. Курс “Что делать…” выстроен так, что все родители получают ясное представление, как устроен и как в норме работает организм ребенка, из-за каких проблем он не работает так, как должен, на чем основана та или иная специфическая методика. Это позволяет заниматься со своими детьми осознанно и целенаправленно, чем, в частности, и достигается успех программ Институтов.
Многие лекции читал сам Гленн Доман. Он рассказывал об истории создания Институтов, о программах, о людях, трудившихся с ним, о становлении разных методов и о полученных результатах, о работе с выдающимися медиками, о том, как устроен и функционирует человеческий мозг, о профиле развития. А еще – о своих путешествиях по всему миру и встречах с представителями разных народностей.
Мы боялись дышать, слушая, только что не раскрыв рты, невысокого старичка с круглым животиком и аккуратной седой бородкой. В его рассказах было много поразительных сведений, он то шутил, то излагал леденящие душу истории, время от времени вставляя смешное словечко “йап” (“да”).
Другие лекторы тоже были хороши, каждый выступал в своей манере, но все – очень интересно. Лекции в Институтах построены так, что слушателей то нагружают новой сложной информацией, то дают возможность слегка расслабиться, слушая рассказы о поездках и о создании программ, просто истории из жизни. При этом все хорошо продумано, нет воды, лишних слов, все только по существу. Никогда не бывает такого, чтобы лектор съехал на отвлеченную тему, а самые важные положения он повторяет трижды (не дважды и не четырежды, а именно трижды).
Что-то из услышанного было для меня совершенно новым и неожиданным, о чем-то мы все думали, но не решались сказать вслух – а теперь нам говорили об этом с кафедры. От некоторых объяснений и примеров мороз по коже подирал: никто и никогда так понятно и наглядно не объяснял нам, какие ужасные трудности могут испытывать наши дети ежедневно. И иной раз сердце стукало: это про Петю, про Петю, про Петю…
Мы сами оценивали нарушения у детей, заполняли анкеты, строили графики, определяли степень и место поражения мозга – каждый для своего собственного чада, не было никакого абстрактного “пациента Х”, поэтому энтузиазм не угасал. У Пети, по моим расчетам, оказалось 70-процентное диффузное билатеральное поражение (то есть повреждены многие участки мозга в обоих полушариях).
Конечно, всех интересовал вопрос: “Почему это случилось именно с нами, с моим ребенком?” Поражение мозга может быть вызвано множеством причин. В некоторых случаях они известны, например травма головы, тяжелая болезнь, длительная остановка дыхания, вирусная инфекция, недоношенность или переношенность плода, гипоксия во время беременности или родов, прививка… Но сплошь и рядом однозначного ответа нет, любые объяснения – это только гипотезы и догадки.
Поражение мозга может произойти в любом возрасте, с момента зачатия до смерти, и установить причину часто так и не удается. Развитие мозга может быть остановлено (тяжелое поражение мозга), замедлено (легкое и среднее поражение), но может быть и ускорено.
Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы напомнить читателю, как работает нервная система человека, и изложить научное обоснование методик Институтов.
Теоретическое отступлениеВ течение многих десятилетий в ученой среде господствовало мнение, что после достижения определенного возраста мозг больше не растет и в нем возможны только процессы деградации. Но в начале нынешнего века исследователи отказались от этого представления. Как выяснилось, возможно восстановление работы пораженных областей мозга благодаря тому, что некоторые функции поврежденных нейронов могут взять на себя нейроны другой, неспециализированной зоны. Кроме того, в ограниченной степени в мозге происходят также процессы нейроногенеза (появление новых нейронов), так что известное выражение “нервные клетки не восстанавливаются” не совсем верно. Мозг постоянно подстраивает себя сам, совершенствуя способности к обработке информации в зависимости от решаемой задачи. Эта способность мозга, которая позволяет ему реорганизовываться за счет формирования новых нейронных связей на протяжении всей жизничеловека, с момента рождения до смерти, получила название “пластичность”, или “нейропластичность”. Однако следует понимать: нейропластичность не означает, что любой участок мозга может взять на себя функции любого другого участка, – сильное повреждение некоторых областей необратимо.
В Институтах уже больше полувека назад пришли к убеждению, что мозг человека растет и развивается всю жизнь и его можно успешно лечить, как и любой другой орган. На лекциях мы часто слышали фразу The brain grows by use(“Мозг развивается в результате работы”). Иначе говоря, функция определяет структуру; мощные мускулы появляются у штангиста в результате того, что он поднимает тяжести, а не наоборот – он поднимает тяжести, потому что у него развитые мышцы.
Как полагают в IAHP, то, что справедливо в отношении мускулов, справедливо и в отношении мозга: его можно заставить развиваться, как любой другой орган. Лечить следует не внешние проявления заболевания, а их причину – пораженный орган, то есть мозг. Успех лечения мозга зависит от частоты, интенсивности и длительности воздействия на него.
Здесь стоит напомнить, как устроена нервная система человека. Я полностью согласна с тем, что нам говорили на лекциях: чтобы понять, почему эффективна та или иная реабилитационная программа Институтов, надо иметь хотя бы минимальные представления об устройстве и функционировании нервной системы.
По строению нервную систему разделяют на периферическую часть, состоящую из нервов и нервных узлов, и центральную, которую образуют головной и спинной мозг.
Все части нервной системы – головной и спинной мозг, нервные пути – образованы нейронами. Нейроны – это специализированные клетки, способные принимать, передавать, обрабатывать и хранить информацию. Нервную систему человека образуют примерно 100 миллиардов нейронов. Нейрон состоит из тела клетки и отростков – дендритов и аксонов. Один нейрон имеет несколько ветвящихся дендритов (воспринимающая часть) и один аксон (передающая часть; длина аксона может достигать метра!). Нейроны контактируют друг с другом, благодаря чему информация передается по нервным путям.
Тела нейронов образуют серое вещество коры мозжечка и больших полушарий головного мозга, которые контролируют двигательную активность и отвечают за восприятие, обработку и организацию сенсорных сигналов (вестибулярных, зрительных, слуховых и т. д.) и психическую деятельность (память, эмоции, речь). Головной мозг координирует и регулирует все жизненные функции организма, от бессознательных реакций на раздражение до решения сложных задач. Спинной мозг передает информацию и обеспечивает движение тела.
Связь всех частей тела с мозгом осуществляется благодаря наличию нервных путей. Их два вида – восходящие, по которым информация идет от органов чувств к головному мозгу, и нисходящие, по которым информация от головного мозга поступает в спинной мозг, а затем в нервное окончание исполнительного органа. Никакая информация не может идти против течения, это одностороннее движение. Нельзя достичь мозга через нисходящие пути нервной системы, также невозможно послать сигнал к органу через восходящие пути. Сбой на любом участке этой цепи приводит к нарушениям в работе всей системы.

Строение нейрона
Если у ребенка повреждены восходящие пути, сигналы не проходят в мозг, что препятствует его развитию (the brain grows by use). Неразвитый мозг не может послать нужный сигнал к органам тела, соответственно, не развиваются двигательные функции. Если повреждение находится в нисходящих путях, нужные сигналы по восходящим путям в мозг попадают и он их правильно перерабатывает, но не может передать эту информацию в исполнительный орган.
Из этого следует, что все усилия по лечению поражения мозга должны быть сосредоточены на локализации места поражения, а затем направлены на восстановление прерванной цепи. До какой степени удастся восстановить функцию, заранее сказать сложно: это зависит от степени поражения, а также от эффективности принятых мер.
Человек реагирует на любое раздражение благодаря рецепторам – специализированному виду нейронов. Они превращают раздражение в нервные импульсы – электрические сигналы, – которые передают другим нейронам. Нейроны связаны друг с другом своими отростками, дендритами и аксонами, образующими густую сеть, по которой мгновенно в разных направлениях распространяется нервный импульс. Один нейрон может иметь связи с тысячами других нейронов (до 20 тысяч).
Сенсорный сигнал – поток электрических импульсов – идет к спинному и головному мозгу и вызывает в нем осознание ощущения, поэтому можно сказать, что мы видим, слышим, ощущаем мозгом, а не глазом, ухом или кожей.
Передача нервного импульса от одного нейрона к другому происходит с помощью специальных окончаний – синапсов. Чем больше синапс используется, тем лучше он работает, с каждым повторением требуется все меньше энергии для прохождения нервных сигналов. Можно сказать, что задача неврологической реабилитации состоит в том, чтобы наладить бесперебойное прохождение импульсов. Если повреждено одно соединение, нервный импульс может найти другой, здоровый путь. Благодаря пластичности мозга одни нейроны могут взять на себя функцию других, плохо работающих.
В результате многолетних исследований еще в 1960-х годах в Институтах пришли к заключению, что в норме ребенок в своем развитии последовательно проходит определенные этапы в результате становления соответствующих отделов мозга. Порядок строго определен, каждый шаг необходим для того, чтобы сделать следующий. Для развития отделов мозга, отвечающих за высшие функции (например, речь), необходимо, чтобы были развиты отделы, контролирующие функции более примитивные (например, способность издавать звуки).
На этом теоретическом положении – так называемой иерархической модели организации нервной системы – основаны реабилитационные методики Институтов (за что их часто подвергают критике, поскольку современной наукой принята так называемая системная модель). При неприятии такого взгляда на развитие нервной системы нельзя понять, зачем выполнять программы Институтов.
В Институтах считают, что существует правильный путь развития, который не допускает ни малейшего отклонения, в котором не может быть никаких объездов, перекрестков, пересечений, и что ни один здоровый ребенок не пропустил ни одной стадии на этом пути. Прежде чем начать бегать, надо научиться ходить; прежде чем передвигаться на четвереньках, надо научиться ползать на животе; прежде чем ползать на животе, надо научиться шевелить руками и ногами.
Если один из этапов не пройден, организм ребенка не сможет правильно функционировать на следующих, развитие остановится или пойдет с отклонениями. Если какая-то из стадий была укорочена – пусть и не полностью, но пропущена (например, ребенок начал ходить до того, как достаточно передвигался на четвереньках), – впоследствии могут возникнуть проблемы, причем не только с ходьбой. Упомяну плохую координацию, неспособность стать полностью правшой или левшой. Обнаружатся также проблемы с речью, чтением, обучением, письмом (плохой почерк) и т. д. Многие дети с аутизмом в раннем детстве либо вовсе не ползали на животе, либо делали это плохо и недостаточно долго, как Петя.
Гленн Доман говорит, что, если взять здорового новорожденного младенца и подвесить с помощью какого-то устройства, кормить его и ухаживать за ним, а когда ему исполнится год, спустить на пол и сказать: “Иди, потому что тебе уже год и в этом возрасте дети начинают ходить”, этот ребенок сначала начнет двигать руками и ногами, потом ползать на животе, дальше встанет на четвереньки и только потом пойдет, а затем и побежит. Бывает, мама сообщает, что ее абсолютно здоровый на сегодня ребенок вовсе не ползал, но, если ее спросить: “Вы что, хотите сказать, что ваш ребенок лежал в кроватке, а потом вдруг соскочил на пол и пошел?” – оказывается, что он все же ползал, пусть и очень короткое время.
Чтобы оценить отклонения в развитии ребенка, необходимо иметь некий эталон нормы. Без ответа на вопрос, что является нормальным, невозможно решить проблемы детей с повреждениями мозга. Таким эталоном стал созданный в Институтах Профиль развития, с помощью которого только в США было сделано более четверти миллионов оценок. В профиле представлены самые значительные этапы развития мозга и соответствующее им развитие функций здорового ребенка в интервале от нуля до шести лет.
Вместо сотен достижений ребенка на его пути к неврологической зрелости Профиль рассматривает шесть основных, без которых невозможны другие: три, при помощи которых он познает мир (зрение, слух, осязание), и три двигательных – подвижность (высшая ступень – бег), речь и мануальная компетенция (ручная моторика). Только человек в полной мере обладает способностью ходить на двух ногах, говорить, читать, понимать речь, различать очень мелкие объекты при помощи осязания, пользоваться большим и указательным пальцами руки для мелких точных движений.
Здоровый шестилетний ребенок все это умеет, однако, прежде чем полностью созреть к шести годам, эти высшие функции, связанные с развитием коры головного мозга, проходят через определенные этапы. В Профиле развития представлено семь важнейших этапов развития каждой из шести основных функций.
В Институтах определили приблизительный возраст, в котором здоровый ребенок переходит от одной стадии развития к другой по мере становления мозга. Этот возраст зависит от интенсивности, частоты и длительности стимулов, которые окружающая среда адресует мозгу. Некоторые функции могут быть развиты лучше, другие хуже, одни дети развиваются быстрее, другие медленнее. Например, один ребенок потратил больше времени на стадию ползания на животе и меньше – на ползание на четвереньках, другой – наоборот. Однако все эти стадии проходятся в одной и той же последовательности, и существует некий возрастной интервал, в пределах которого должна развиваться та или иная функция.
Так, здоровый шестимесячный ребенок, развивающийся со средней скоростью, умеет хорошо ползать на животе, издавать некоторые осмысленные звуки, отпускать схваченный предмет, хорошо видит очертания объектов, различает много слов, у него развита кожная чувствительность. Здоровый 18-месячный ребенок хорошо ходит, фокусирует взгляд на объекте, умеет подбирать мелкие предметы при помощи большого и указательного пальцев. Он может сказать около 20 слов, но понимает гораздо больше, чем способен произнести.
Профиль развития – наглядный и надежный инструмент для оценки той или иной способности или неспособности, скорости прогресса у больных и здоровых детей. Если у ребенка имеются нарушения в развитии, при помощи Профиля можно быстро и точно определить, на каком уровне произошло поражение мозга, и заняться лечением поврежденного участка, назначив программу, точно отвечающую проблеме. Например, если ребенок старше пяти месяцев может схватить предмет, но не умеет его отпускать, у него повреждение в стволе мозга; если ребенок старше 14 месяцев не произносит больше двух слов, у него нарушение в области среднего мозга и подкорки.
При оценке развития говорят о хронологическоми неврологическомвозрасте, и по Профилю можно оценить развитие ребенка и старше шести лет. Хронологический возраст показывает, сколько ребенку месяцев от рождения, неврологический – на сколько месяцев он развит в действительности. В норме хронологический и неврологический возраст совпадает. Однако важно понимать, что Профиль развития – не таблица Менделеева или биологический закон, а инструмент, предназначенный для решения сугубо практических задач – для подбора реабилитационных программ.