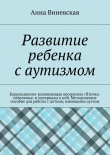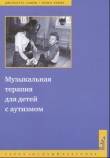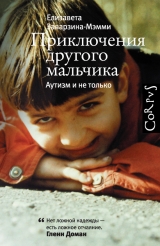
Текст книги "Приключения другого мальчика. Аутизм и не только"
Автор книги: Елизавета Заварзина-Мэмми
Жанры:
Детская психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 3
6–8 лет. Междуцарствие
Поролоновый бананПосле двух с лишним лет в ЦЛП, когда предполагалось, что мы не должны заботиться о том, чем и как заниматься с Петей, пришлось налаживать жизнь по-другому. На душе было очень тяжело. Я терзалась, сомневаясь в правильности принятого решения. Ведь мы ушли не просто от людей, полюбивших Петю и старавшихся ему помочь, – в центре ему было хорошо, у него были друзья, он общался с другими детьми. Но в голове крутилось услышанное “мы сделали все, что могли”. Я напоминала себе, что Петя по-прежнему плохо ходит, не пользуется руками, не чувствует, когда ему надо в уборную, плохо видит и болезненно реагирует на многие звуки. С этим надо было что-то делать. Мы решили попробовать снова действовать традиционными методами – заниматься со специалистами.
Первое, что всплывает, когда я вспоминаю тот период жизни, – транспортные проблемы. В метро мы ездить не могли, так как Петя мгновенно впадал в панику от толпы, общего шума и резких звуков. В наземном транспорте было не лучше. Поэтому перемещались на машине, часами простаивая в пробках. Иногда Петя засыпал по дороге, мы вытаскивали его полусонного и на занятия являлись не в лучшем виде.
Вначале нам посчастливилось найти очень хорошего логопеда – молодого человека, оказавшегося прекрасным учителем и воспитателем. С Петей он разговаривал так, как должен разговаривать взрослый мужчина с шестилетним мальчиком, и даже появились какие-то достижения с речью – Петя стал произносить некоторые слоги, иногда повторял целые слова. Увы, длилось это недолго: молодой человек нашел работу, к детям не имеющую никакого отношения.
Попробовали заниматься с другим логопедом, рекомендованным нам в конном лагере, на этот раз самоучкой. Когда мы приезжали, она всегда что-то доедала, допивала, достирывала, а потом спрашивала меня: “Что будем делать?” Ездить приходилось на другой конец Москвы, проку от уроков не было никакого, и скоро мы оставили ее в покое.
Следующей была опытный логопед в одной из центральных столичных клиник, самоуверенная дама с резкими манерами. На консультации она сообщила, что у Пети очень умные глаза и он у нее быстро заговорит, она сделает из него человека, “еще не таких видала”. В первый раз Петя явился на занятия преисполненный энтузиазма и уселся в ожидании чего-то интересного. Оказалось, он должен распевать с ней слоги и слова, делать вид, что ест поролоновый банан, кормить кукол и развешивать их белье на веревочке, один конец которой дама держала в зубах. Еще ему было предложено пять раз пересчитать три деревянные елочки, что он очень бодро выполнил. “Вот видите, я же говорила, что он умный!” – резюмировала логопед. На втором занятии Пете снова предложили пересчитать три деревянные елочки пять раз. На третьем – тоже… На четвертом Петя сгреб елочки и запустил ими в логопеда.
Проведя два часа в дороге и войдя в квартиру, мы слышали голос, повторяющий нараспев знакомые слоги и слова. Со всеми детьми она занималась одинаково, урок длился ровно полчаса, в прихожей сидели следующие пациенты. Мы еще не успевали одеться, а из-за двери уже снова доносились все те же звуки.
Месяца через два Пете смертельно надоело делать одно и то же. Он смотрел по сторонам и съезжал со стула, а опытная дама-логопед повторяла, что у мальчика “ползет сознание”. К тому времени его былая заторможенность сменилась невероятной активностью: Петя с трудом мог усидеть на месте больше двух минут. Пока было интересно, он никуда не убегал и внимательно смотрел и слушал, но стоило чуть сбавить темп, как Петя отвлекался. Чтобы удержать его внимание, надо было очень быстро “давать программу”. Дома мы придумали такое упражнение: Петя сидит на стуле, не вскакивая, пока мы считаем до трех, до пяти, до семи… До десяти он никогда не выдерживал.
Почти два года мы ездили к этому логопеду, плата за урок все росла. Петя по-прежнему не говорил, а логопед все яснее выражала неудовольствие и недоумение. Когда она сказала: “Это, наверное, что-то энергетическое” и предложила обратиться к знакомым экстрасенсам, стало ясно, что пора расставаться.

Следующей была логопед из клиники для больных церебральным параличом. Всегда нарядная и приветливая, она занималась с Петей в течение года по два раза в неделю. Петя очень хотел научиться говорить, радовался ее приходу и заранее усаживался у входной двери. Казалось, дело пошло: появились слова “мама”, “папа”, “баба”, “тата”, иногда он произносил и другие. Но наступило лето, и логопед уехала отдыхать. Со мной повторять слова Петя категорически отказывался. Я не знала, как его заставить, и за два месяца они исчезли. Вернувшись из отпуска, логопед сказала, что в дальнейших занятиях смысла не видит.
Осенью нам сообщили, что в клинике имени Бурденко работает ученица самого Лурии [1]1
А. Р. Лурия(1902–1977) – выдающийся советский психолог, основатель отечественной нейропсихологии.
[Закрыть], которая учит говорить людей, потерявших речь. Это была пожилая грузная женщина, ходившая с палочкой.
Нам удалось убедить ее заниматься с Петей при условии, что будем привозить ее к нам домой, а потом отвозить на работу. Она терла, мяла, тянула, шлепала по его губам и языку, используя множество разных инструментов. Петя не сопротивлялся и как-то даже принес железный скребок для чистки аквариумов с предложением присоединить к логопедическим орудиям. Эта дама-логопед высоко оценивала Петин интеллект и считала, что через год-два занятий он будет хорошо говорить.
В результате ее усилий Петя стал лучше чувствовать рот и научился наконец высовывать язык, чего не могли добиться все предыдущие специалисты. Правда, он стал постоянно пользоваться обретенным умением, и теперь уже приходилось просить этого не делать: стоило выйти на улицу, как язык немедленно оказывался снаружи – как бы помимо Петиного желания.
Свободное плавание. ВетрянкаЕще наша первая дама-логопед порекомендовала обратиться к своему знакомому невропатологу, и та сразу объявила, что мы потеряли время, что непонятно, куда смотрели предыдущие врачи, и что, если Петю не лечить с помощью медикаментов, его ждет глубокая инвалидность.
Решили попробовать – казалось, все так плохо, что терять нечего. Мы пользовались ее рекомендациями почти два года. Невропатолог назначала сильные лекарства в больших дозах. Мы в этом ничего не понимали, послушно исполняли ее предписания и только позже узнали, что она лечила Петю так, как лечат больных шизофренией. Три раза в день, следуя сложной схеме приема, Петя глотал по пригоршне таблеток. По ее мнению, результаты были. Мы, честно говоря, пользы не видели, скорее наоборот: Петя то не мог ни минуты усидеть на месте, то становился совершенно заторможенным, иногда засыпал прямо на ходу.
Зато благодаря знакомству с этим врачом мы попали к замечательной массажистке. Валентина Дмитриевна всю жизнь проработала в детской неврологической больнице, и нам не раз приходилось слышать о ней восторженные отзывы. Она всегда объясняла, что делает и почему, и очень помогла Пете: у него появились мышцы, он научился новым движениям. Но многие упражнения он категорически отказывался делать. Приходил в ужас, стоило резко его поднять, не то что подбросить, панически боялся некоторых положений, например вниз головой. Дети обычно любят, когда их подбрасывают вверх. Петя разлюбил это после операции, когда ему было шесть месяцев. К тому же что-то менялось в его ощущении себя в пространстве: в два года он обожал кататься на карусели – в шесть его было невозможно уговорить к ней подойти.
Зимой, когда Пете было шесть, мы предприняли еще одну попытку разобраться в его проблемах и снова договорились о консультациях в Париже. Психолог одной из центральных клиник больше часа предлагала Пете один за другим тесты, с которыми он прекрасно справился. Психолог сказала, что ни о какой интеллектуальной неполноценности не может быть и речи и ей непонятно, почему он не говорит.
Другой визит был к отоларингологу-логопеду. Она сделала заключение, что у Пети нарушен слух: одни и те же звуки, в том числе и которые произносит сам, он каждый раз слышит по-разному, поэтому не в состоянии правильно их интерпретировать и контролировать свою речь. Она предложила заниматься с Петей, но сколько потребуется времени, сказать не могла, возможно, годы, – а мы жили в другой стране.
Мы вернулись в Москву, и Петю продолжили консультировать столичные специалисты. Почти каждый сообщал, что его предшественник делал все неправильно и что у Пети очень умные глаза. Появился врач, практиковавший “воздействие на точки” при помощи электродов. Была не была, попробовали и электроды – без результата. Возникло предположение, что виновато какое-то генетическое нарушение, но анализы показали норму.
Еще один детский психолог поинтересовался, не остаются ли утром на Петиной подушке следы от слюны. Если остаются, это верный симптом умственной отсталости. (Откуда такой критерий? Я знаю многих весьма умных детей, у которых текут слюни, а у одной девушки не то что пятна на подушке – ручьи бегут, при этом у нее прекрасное чувство юмора и она пишет хорошие стихи.)
Другой специалист, психиатр, объявил, что Петя чем-то напуган, а лечить надо меня и для начала хорошо бы мне перестать нервничать.
Мы стали возить Петю в Битцевский парк, где он с большим удовольствием разъезжал на знаменитом Мальчике. Об этом коне даже писали в газетах: престарелого мерина собирались отправить на живодерню, но некий добрый юноша его забрал и некоторое время держал у себя, кажется, на балконе. Потом Мальчик по причине смиренного нрава и приобретенной известности попал в Битцу – катать детей с проблемами.
Знакомые рассказали, что в Пироговской школе создается специальная группа для детей, которые не могут учиться в обычных классах. У них были настоящие уроки, настоящая учительница, парты – все как полагается. Нам удалось Петю туда устроить, когда ему исполнилось семь. Было видно, что он счастлив находиться среди других детей. Он с удовольствием посещал индивидуальные физкультуру, массаж и рисование два раза в неделю, но, так как Петя не говорил, на общие уроки его и здесь не брали. Позднее он как-то спросил меня: “Почему мне нельзя ходить со всеми в школу? Потому что не могу говорить?”
Петя по-прежнему боялся каждого нового человека, в незнакомое помещение его приходилось затаскивать, он цеплялся за дверные косяки. Именно так его затащили к художнику Евгению Олеговичу, “дяде Жене”, с которым мы были знакомы по конному лагерю. Тогда казалось, что ни о каком рисовании не может быть и речи… В нашей семье рисуют и дети, и взрослые. Мы много раз пробовали и с Петей, но все сводилось к тому, что кто-нибудь рисует, а он смотрит. Поэтому было очень интересно, что произойдет здесь. Перед занятием Евгений Олегович спрашивал, какая на сегодня тема, а затем они вместе рисовали: художник водил Петиной рукой, рассказывая о том, что получается. Пете очень нравились эти уроки.
Мы начали ходить в специальную группу для детей с проблемами движения, созданную бывшими спортсменами. В зале, где проходили занятия, было множество самых разнообразных физкультурных снарядов, в том числе никогда нами не виданных. Так, с потолка свисали какие-то резинки. Некоторых детей на них подвешивали и раскачивали, но, когда попытались подвесить Петю, он так раскричался, что от него отступились. Кто бы мог тогда подумать, что мы еще встретимся с похожими резинками…
Однажды Петя выехал в коридор на велосипеде, который сзади толкала преподавательница. “Петя, какой ты молодец! – восхитилась я. – Ты сам едешь, прямо как настоящий мужчина!” “Ну что вы ему говорите – “как мужчина”, он же вообще ничего не понимает”, – перебила меня преподавательница. Она тоже, очевидно, определила уровень Петиного интеллекта исходя из того, что он не говорил…
Рисование и физкультура – это было замечательно, но следовало продвигаться и в других направлениях. Мне посоветовали обратиться в Центр психологической помощи детям и подросткам, где Петя начал заниматься с дефектологом, энергичной веселой женщиной. Она рисовала, пела, клеила и вырезала, гремела горохом в жестяной банке и шуршала бумажками – это называлось “звуки жизни”. Пете, разумеется, все нравилось, и в течение года он с удовольствием ездил к ней, но никаких изменений не происходило.
Несмотря на все усилия, на многочисленных логопедов и докторов, мы шагнули вперед недалеко. Петя стал немножко лучше двигаться и пользоваться руками, но так и не мог самостоятельно подниматься и спускаться по лестнице. Почти не бегал, а если и бежал, то на прямых ногах. Быстро уставал, и приходилось брать его на руки. Петя немного умел читать, немного считать и научился объясняться с нами при помощи отдельных слов, жестов и картинок.
Казалось, он лучше видел расположенное по краю зрительного поля и хуже – то, что находилось прямо перед глазами. Чтобы рассмотреть предмет, поворачивал голову боком, как птица. К восьми годам это прочно вошло в привычку. Когда хотел что-то взять, то перед тем, как протянуть руку к предмету, долго всматривался, жмурился, поворачивал голову, а когда наконец решался, все равно, как правило, промахивался. Косоглазия не было, офтальмологи не могли объяснить причину такой странной манеры, говорили: “Они все так смотрят” (кто это – “все”?).
Оставались проблемы с едой и горшком: Петя плохо переваривал еду, плохо чувствовал свое тело и не понимал, когда нужно в уборную. У нас вошло в привычку каждые 15–20 минут водить его в туалет, приходилось всюду носить рюкзак с запасной одеждой. С Петей по-прежнему нельзя было пойти ни в одно людное место: он не переносил шум и толпу, кричал, рвался убежать.
Чем дальше, тем больше возникало вопросов, на которые не было ответов.
Осень Петиных восьми лет запомнилась показательной историей. Он заразился ветрянкой и отболел положенные три недели – ничего особенного, Поля болела гораздо тяжелее. Прошел месяц, Петя начал снова ходить на уроки. И вдруг, как будто ни с того ни с сего, почти перестал спать. После бессонной ночи, с синяками под глазами, качаясь и хныкая, он приходил в нашу комнату и просил поставить любимую “Книгу джунглей”. Усаживался перед экраном, но через две-три минуты, плача, уходил. Он совсем перестал есть, сильно похудел и как-то почернел. Дни шли за днями, понять, в чем причина, никто не мог. Петя бродил по квартире, натянув на голову шапку, и все время плакал, плакал. Ничто не могло его ни утешить, ни развлечь. Это было невыносимо. Мы с мамой по очереди отпускали друг друга из дому выйти в булочную на углу, чтобы перевести дух и хотя бы десять минут не видеть и не слышать этого кошмара.
Через некоторое время меня озарила мысль: болят уши. У нас был большой опыт в этой области: Поля в детстве непрерывно болела отитами. Мы соорудили замечательный компресс, и впервые за весь этот ужасный месяц Петя заснул не на 15 минут, а на несколько часов. Следующий день тоже прошел с компрессом и значительно спокойнее. На третий день мы вызвали отоларинголога, которая, осмотрев Петю, сказала, что никакого отита нет, а зря греть голову “такому ребенку” она не советует. Компрессы ставить перестали, и все началось снова. У меня тряслись руки.
Наблюдавшая в течение последних двух лет Петю невропатолог объявила, что она давно этого ждала: у ребенка развилась острая шизофрения. Предложила немедленно начать давать ему амитриптилин. Но сквозь Петин плач в мою ничего уже не соображавшую голову пробился мудрый голос интуиции: “Нет, это не шизофрения”, и антидепрессантами мы Петю пичкать не стали.
Мы решили, что я поеду с Петей на дачу: может быть, там ему станет лучше, а остальные члены семьи смогут учиться и работать. В то время Наталия Ивановна, уже хорошо знавшая Петю, после тяжелой операции тоже жила на даче, и я позвала ее на помощь. Как сейчас вижу, как она входит, протирая запотевшие очки. Сказала что-то приветливое, потом прошла к Пете и долго молча осматривала. Задала какие-то вопросы, помолчала. И неожиданно спросила: “Лизочка, а не было ли у него месяца два назад ветрянки?” Про ветрянку все уже и думать забыли. “Теперь ничего страшного уже не будет, – сказала она, – это такая реакция. Постепенно станет легче, а к весне и вовсе пройдет”. Так оно и случилось.
Мы до сих пор недоумеваем, почему врач-невропатолог не ведала о том, о чем была обязана. Между тем в любом медицинском справочнике можно прочитать, что одним из осложнений после ветряной оспы является ветряночный энцефалит, при котором у пациента возможны головная боль, тошнота и рвота, судороги и потеря сознания, нарушение координации движений и чувства равновесия.
Быстро! Весело! Коротко!Весной Петя окончательно оправился после болезни, и мы вернулись к занятиям. Однако ощущение, что традиционные методы приносят мало результатов, все усиливалось. Кроме того, стало ясно, что никакой специалист не может заниматься с Петей в том объеме, какой требуется. Согласиться с тем, что ничего нельзя сделать, и сидеть сложа руки мы не могли. Значит, приходилось полагаться на собственные силы и грести против течения.
Мы решили, что будем заниматься так, будто Петя – обычный мальчик: учить математике, литературе, истории, иностранным языкам, кататься на лыжах и на велосипеде, бегать и плавать. К тому времени мы уже были в состоянии сами разработать программу действий. Я могла учить Петю ежедневно столько, сколько считала необходимым, не тратить время и Петины силы на переезды по городу. Не говоря уже о финансовой стороне вопроса.
Теперь мы ежедневно по нескольку часов трудились дома. Занятия начинали с обсуждения вчерашнего дня, строили планы на наступивший и все подробно записывали: я водила Петиной рукой. Например, так: “После уроков мы едем кататься на лошади. Мы очень этому рады. Петя любит ездить в лес. Он совсем не боится упасть” или так: “Вечером мы поедем с папой и Полей на дачу. Будет темно. Петя сможет спать в машине”.
К нашему большому огорчению, он по-прежнему не хотел слушать чтение вслух, не мог слушать голый текст, хотя с радостью рассматривал с нами картинки в книжках. Мне вспомнилось вечернее развлечение из моего детства – диафильмы. Правда, не было никакой уверенности, что Петя согласится спокойно сидеть в темноте и ждать, пока один кадр сменит другой, но попробовать стоило. Собрали по знакомым завалявшиеся коробочки с пленками, нашли проектор и приступили. Вначале он недоверчиво смотрел из-за двери, но скоро вошел во вкус. Появились любимые истории, Петя радостно приносил коробку с диафильмами и усаживался на диване.
Анализируя сегодня этот опыт, могу сказать, что просмотр диафильмов – отличное упражнение не только для развития и коррекции зрения, но также для обучения чтению и пониманию речи. Неподвижная картинка (зрительный образ) соотносится с сопровождающим ее на кадре коротким текстом и одновременно с его проговариванием (подобно тому как это происходило в нашем лото). Отвлекающие моменты сведены к минимуму, ведь диафильмы смотрят в темноте.
Решив не обращать внимания на уверения специалистов, что Петя ничего не понимает и учить его чему-либо бесполезно, мы столкнулись с необходимостью придумывать свой, подходящий именно для него способ обучения. Я принялась изучать существующие учебные пособия и однажды наткнулась на книгу “Как обучить ребенка математике”, которая меня совершенно изумила.
Авторы, Гленн и Джанет Доманы, утверждали, что обучение ребенка, в том числе математике, следует начинать как можно раньше, желательно до годовалого возраста. Сегодня этим вряд ли можно удивить, но в 1990-х годах такие слова были откровением.
Доманы предлагали метод обучения, который позволяет быстро освоить счет и понимать смысл чисел и математических действий. Для этого малышу надо показывать карточки, на которых произвольно расположено какое-то количество (от единицы до ста) красных кружочков размером с монетку, и это количество называть. Одна картонка в секунду, десять – за урок, три урока в день. Ничего похожего ни в одном учебнике математики мы не видели, но наш мальчик был не такой, как все, и мы решили, что и необычный метод обучения может ему подойти – не пересчитывать же до бесконечности пять елочек.
Наделав карточек с кружочками, я с некоторой опаской приступила к обучению математике. К новой идее Петя, как всегда, отнесся с недоверием, но быстро увлекся. Ему понравилось, что все происходит быстро и самому делать ничего не надо, смотри себе на меняющиеся картинки.
Через две или три недели я решила проверить результаты. Положила перед Петей пять карточек и предложила показать “три” – с тремя кружочками. Показал. Поменяла карточки и попросила показать “четыре”. Показал и явно заинтересовался процессом. “Покажи восемь”, “покажи одиннадцать”, “покажи двадцать три”… Двадцать семь, тридцать пять, сорок девять. С трудом я удержалась от дальнейших исследований, напомнив себе один из главных заветов Доманов: “Быстро! Весело! Коротко! Заканчивать, пока ребенку интересно, чтобы в следующий раз он снова хотел заниматься”.
Мы были поражены. Хотя делали все так, как описывалось в книжке, в глубине души сомневались в успехе. Во-первых, немало специалистов учили Петю считать хотя бы до пяти и утверждали, что он неспособен это делать. Во-вторых, казалось неправдоподобным, чтобы он освоил счет так быстро, да еще и до ста…
Спустя еще две недели Петя так же безошибочно выбрал “96” из пяти предложенных ему карточек – “87”, “89”, “91”, “96” и “97”. Когда мы перешли к арифметическим действиям, чудеса повторились. И как же он был счастлив, когда ему предложили вычесть 18 из 71!
Оказалось, что Доманы написали и другие книги: “Как научить ребенка читать”, “Как развить интеллект ребенка”, “Как дать ребенку энциклопедические знания” – в конце 1990-х они были изданы в России без согласия авторов. Стало понятно, что именно так мы и учили Петю чтению: узнавать (прочитывать) не отдельные буквы и слоги, а сразу целое слово. Только следовало каждый день вводить новые слова и ни в коем случае не заставлять долго читать одно и то же, чего мы не знали. Доманы утверждали, что таким же способом – показывая разные картинки и давая объяснения – можно учить ребенка всему. Главное условие успеха – делать все как можно быстрее, никогда не переспрашивать и не контролировать, насколько малыш усвоил урок.
Книгу “Как сделать ребенка физически совершенным” мы тоже прочитали, но в тот момент не воспользовались рекомендациями, однако они очень пригодились позднее.
Из книг Доманов мы почерпнули немало полезной информации и, самое главное, узнали, что в США существует учреждение, где по предложенным методикам занимаются с детьми с проблемами. В русском переводе они назывались умственно отсталыми – термин, о который я каждый раз спотыкалась, читая. Когда мы познакомились с авторами, выяснилось, что в книгах, изданных без их ведома, допущено много ошибок в переводе. В частности, brain injuryозначает “поражение мозга”, а не “умственная отсталость”; brain-injured, соответственно, – “те, у кого поражен мозг”. Мозг – это не то же самое, что ум, а поражение мозга не есть поражение ума. Авторы этих книг никогда не считали детей с поражениями мозга умственно отсталыми. Их огромный опыт доказывает обратное: поражение мозга, как бы тяжело оно ни выглядело со стороны, во многих случаях совершенно не отражает уровня интеллекта; более того, часто у таких детей он выше, чем у обычного ребенка.
Конечно, нам захотелось узнать больше. В книгах Доманов не приводилось никаких контактных данных, и разыскать это таинственное учреждение помог мой брат, работавший в Америке.