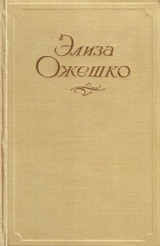
Текст книги "Марта"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
* * *
На следующее утро после переезда в мансарду Марта уже в десять часов вышла из дому.
Видимо, она очень торопилась; словно какая-то неотступная мысль, беспокойная надежда гнали ее вперед. Она шла быстро, пока не очутилась на Длугой улице. Теперь она пошла тише, слабый румянец появился на ее бледном лице, дыхание стало учащенным, как бывает, когда приближается долгожданная и вместе страшная минута, требующая напряжения всех сил, ума и воли, – минута, которой ждешь с надеждой, робостью, быть может, даже с чувством невольного стыда, порождаемого укладом всей прошлой жизни и новизной положения.
У ворот одного из самых красивых домов Марта остановилась, чтобы взглянуть на номер. Должно быть, это и был тот, который она искала: глубоко вздохнув, она начала медленно подниматься по широкой светлой лестнице.
Поднявшись на несколько ступенек, Марта заметила двух сходивших вниз женщин. Одна из них была одета тщательно, даже нарядно; манеры у нее были уверенные, выражение лица спокойное и самодовольное. Другая, помоложе, совсем юная, в темном шерстяном платье и довольно поношенной шали, в шляпке, видавшей уже не одну осень, шла, бессильно опустив руки и не поднимая глаз. Покрасневшие веки, бледность и хрупкая фигура придавали этой молоденькой и хорошенькой девушке грустный и усталый вид. По откровенному разговору, который вели между собой эти женщины, нетрудно было догадаться, что они хорошо знакомы.
– Боже мой, боже, – говорила младшая тихо и жалобно, – что мне, несчастной, теперь делать? Последняя надежда меня обманула. Когда я скажу матери, что и сегодня не получила урока, она расхворается еще сильнее… А нам, можно сказать, уже и есть нечего…
– Ну, ну, – отозвалась старшая тоном, в котором наряду с сочувствием чувствовалось и сознание собственного превосходства. – Не принимай этого так близко к сердцу! Вот позаймешься музыкой…
– Ах, если бы я умела играть так хорошо, как вы! – воскликнула младшая. – Но где уж мне…
– Таланта у тебя нет, милочка! – сказала старшая. – Что поделаешь? Таланта нет!
Беседуя так, женщины прошли мимо Марты. Они были настолько поглощены – одна своей радостью, другая – печалью, – что не обратили ни малейшего внимания на женщину в трауре. Но та вдруг остановилась и посмотрела им вслед. Это, должно быть, были учительницы, и шли они оттуда, куда она направлялась. Одна уходила сияющая, другая – со слезами на глазах. Через какие-нибудь полчаса и она, Марта, будет возвращаться оттуда. С радостью или со слезами? Сердце Марты сильно билось, когда она дернула звонок у двери, на которой сверкала медная табличка с надписью:
«Контора Людвики Жминской по найму учителей и учительниц».
Дверь открылась. Из тесной передней Марта вошла в большую комнату с двумя окнами, выходившими на шумную улицу.
Комната была хорошо обставлена, особенно бросалось в глаза новенькое, очень красивое и дорогое фортепиано.
В конторе находились три женщины, одна из них поднялась навстречу Марте. Это была особа средних лет, несколько чопорная, с волосами неопределенного цвета, гладко зачесанными под изящным белым чепчиком. В ее лице с правильными чертами, так же как в скромном сером платье с серыми же пуговицами на груди, не было ничего приметного. От этой женщины так и веяло официальностью. Быть может, в другом месте и при других обстоятельствах она умела непринужденно улыбаться, смотреть нежно, ласковым движением протягивать руку для пожатия, но здесь, в этой гостиной, где она принимала людей, ищущих у нее совета и помощи, и выступала как официальная посредница между ними и обществом, она была такой, кой ей полагалось быть: любезной, но сдержанной и осторожной. Эта комната, похожая на гостиную, на самом деле была лишь местом сделок, таких же, как всякие торговые сделки: хозяйка давала советы и указания тем, кто к ней за этим обращался, и получала за это соответственную плату. Это было нечто вроде чистилища, через которое проходили человеческие души, попадая оттуда в рай, если они получали работу, или в ад вынужденной безработицы.
Марта остановилась на минуту в дверях и оглядела шедшую ей навстречу женщину. Взгляд ее стал необычайно пытливым и острым, словно она пыталась сквозь внешнюю оболочку проникнуть в мысли того существа, от которого зависела ее судьба. Впервые в жизни Марта обращалась к кому-либо по делу; и дело это было важнейшим в жизни бедных людей – поиски заработка.
– Вы, сударыня, в справочную контору? – спросила хозяйка.
– Да, – ответила вошедшая и добавила: – Меня зовут Марта Свицкая.
– Присядьте, пожалуйста, и подождите минутку, пока я кончу разговор с дамами, которые пришли раньше.
Марта села в указанное ей кресло и теперь только обратила внимание на двух женщин, тоже находившихся в комнате.
Они сильно отличались друг от друга возрастом, одеждой и наружностью. Одна была девушка лет двадцати, очень красивая, с улыбкой на розовых губах, с голубыми глазами, смотревшими на мир ясно, почти весело. На ней было яркое шелковое платье, светлые волосы украшала маленькая шляпка. Очевидно, Людвика Жминская именно с ней разговаривала до прихода Марты, так как теперь, поздоровавшись, сразу обратилась к ней. Они говорили по-английски, и с первых же слов молодой девушки в ней можно было угадать коренную англичанку. Марта не знала этого языка и не понимала, о чем идет речь, но видела, что непринужденная улыбка не сходила с губ прекрасной англичанки, а ее осанка, манеры и выражение лица говорили о смелости человека, привыкшего к успеху, уверенного в себе и в своем будущем.
После короткой беседы хозяйка взяла листок бумаги и стала быстро писать.
Марта, следившая за этой сценой с напряженным вниманием, естественным в ее положении, видела, что Людвика Жминская, писавшая письмо по-французски, указала в нем сумму 600 рублей, а на конверте написала известную всей стране фамилию человека, носившего графский титул, и название одной из лучших улиц Варшавы. Кончив, она с любезной улыбкой вручила письмо англичанке, которая встала, поклонилась и вышла из комнаты легкими шагами, с высоко поднятой головой и радостной улыбкой.
«Шестьсот рублей в год, – думала Марта, – какое же это богатство, боже мой! Какое счастье столько зарабатывать! Если бы мне обещали хоть половину, я была бы спокойна за Яню и за себя!»
Думая так, молодая женщина с интересом и невольным сожалением смотрела на другую даму, с которой хозяйка вступила в разговор после ухода англичанки.
Это была женщина лет шестидесяти, маленькая, худенькая, с увядшим лицом, покрытым множеством морщин, с почти белыми волосами, зачесанными гладко на пробор, в старомодной черной, помятой шляпке. Черное же шерстяное платье и допотопная шелковая накидка свободно висели на тощем теле старушки; ее руки, прозрачные, белые и маленькие, нервно теребили лежавший у нее на коленях носовой платочек. То же нервное беспокойство отражалось и в ее некогда голубых, выцветших и потускневших глазах, которые то поднимались на хозяйку, то скрывались за покрасневшими веками или перебегали с предмета на предмет, выдавая этим тревогу и болезненные усилия измученной души, ищущей какой-нибудь точки опоры и успокоения.
– Вы когда-нибудь преподавали? – спросила по-французски Людвика Жминская, обращаясь к старушке.
Бедная женщина заерзала на стуле, не отводя глаз от противоположной стены, судорожным движением сжала скомканный платок и сказала тихо:
– Non, madame, c'est le premiere fois que je… je…[2]2
Нет, сударыня, это впервые… (франц.).
[Закрыть]
Она остановилась, очевидно с трудом подбирая слова малознакомого языка, которые ускользали из ее ослабевшей памяти.
– J'avais… – начала она опять через минуту, – j'avais la fortune… mon fils avait le malheur de la perdre[3]3
У меня было… было состояние… но сын мой, к несчастью, его потерял (франц.).
[Закрыть].
Хозяйка сидела на диване, слушая ее с холодным равнодушием. Ошибки старушки в французском языке, ее неправильное произношение не вызывали у хозяйки усмешки, так же как изможденный вид и волнение бедняжки не вызывали в ней, должно быть, сочувствия.
– Это печально, – сказала она. – И у вас только один сын?
– Его уже нет! – воскликнула по-польски старая женщина, но, вспомнив вдруг, что ей необходимо доказать свое уменье говорить на иностранном языке, добавила: – Il est mourru par désespoir![4]4
Он умер от отчаяния! (франц.).
[Закрыть]
В выцветших глазах старушки не появилось ни слезинки, когда она произносила последние слова, но бледные, узкие губы, окруженные сетью морщинок, задрожали и тяжелый вздох всколыхнул впалую грудь под старомодной мантильей.
– Вы играете? – спросила хозяйка по-польски, видимо, считая, что короткий разговор со старушкой дает уже достаточное представление о ее знании французского языка.
– Я играла когда-то, но… уж очень давно. Вряд ли я теперь сумею…
– Так вы, быть может, знаете немецкий язык?..
Вместо ответа старушка отрицательно покачала головой.
– Но чему же вы, сударыня, можете обучать?
Этот вопрос был произнесен вежливым, но таким холодным тоном, что мог сойти за явный отказ. Однако старая женщина не поняла или сделала вид, что не понимает. Знание французского языка было, видимо, тем, на что она больше всего рассчитывала, благодаря чему надеялась получить кусок хлеба, избежать нужды в последние дни своей безрадостной жизни. Чувствуя, что почва ускользает у нее из-под ног, что хозяйка конторы не намерена дать ей никакой рекомендации, она ухватилась за этот, по ее мнению, последний якорь спасения и, все сильнее комкая платочек дрожащими пальцами, быстро заговорила:
– La geographie, la histoire, les commencements de l'arithmetique…[5]5
Географию, историю, начальные правила арифметики… (франц.)
[Закрыть]
Старая женщина вдруг замолчала, неподвижным взглядом уставившись на противоположную стену, так как Людвика Жминская поднялась.
– Весьма сожалею, – медленно произнесла хозяйка, – но у меня нет сейчас ничего подходящего для вас…
Она стояла, сложив руки на строгом лифе серого платья, явно ожидая ухода посетительницы. Но старушка сидела как прикованная к месту; ее беспокойные руки словно замерли, а бледные губы раскрылись и нервно вздрагивали…
– Ничего нет! – повторила она шепотом. – Ничего! – И словно движимая какой-то посторонней силой, медленно встала и выпрямилась.
Однако она все еще не уходила. Только сейчас ее веки набухли и бесцветные глаза подернулись влагой. Опершись трясущейся рукой на спинку стула, она пробормотала:
– Может, в другой раз… Может, когда-нибудь позже… найдется какое-нибудь место…
– Нет, сударыня, ничего не могу обещать, – все так же вежливо и сухо возразила хозяйка.
Несколько секунд в комнате длилось молчание. Вдруг по сморщенным щекам старой женщины ручьем потекли слезы. Однако она не издала ни единого звука, не произнесла ни слова, поклонилась хозяйке и быстро вышла. Быть может, она стыдилась своих слез и хотела их скрыть или спешила с новой надеждой в другое место, где ее ожидало новое разочарование.
Марта осталась вдвоем с женщиной, от которой зависело исполнение ее самых дорогих надежд, самых горячих желаний. Она не робела, но испытывала чувство глубокой грусти.
Сцены, прошедшие перед ее глазами, произвели на нее особенно сильное впечатление потому, что они были для нее чем-то совершенно новым. Она не привыкла видеть людей, ищущих заработка, гоняющихся за куском хлеба, не догадывалась, не предчувствовала, что эта погоня таит в себе столько волнений, мук, разочарований. Прежде труд представлялся Марте чем-то таким, за чем стоит лишь протянуть руку, чтобы взять его. И вдруг, в самом начале этого нового пути, она увидела страшную изнанку жизни. Однако она не содрогнулась и мысленно уверяла себя, что ее, женщину молодую и здоровую, получившую в доме родителей хорошее воспитание, жену человека образованного, зарабатывавшего на жизнь умственным трудом, не может постигнуть судьба, постигшая бедную девушку, с которой она столкнулась на лестнице, и эту только что ушедшую, во сто крат более несчастную старушку.
Людвика Жминская начала с того вопроса, с которого она привыкла начинать разговор с приходившими к ней кандидатками на место учительницы.
– Вы уже занимались преподаванием?
– Нет. Я вдова чиновника. Мой муж умер несколько дней назад. И я хочу стать учительницей.
– Вот как! А у вас есть свидетельство об окончании высшего учебного заведения?
– Нет, пани, я воспитывалась дома.
Разговор велся на французском языке. Марта говорила на нем правильно и бегло. Да и ее произношение, хотя и не безупречное, не резало слух.
– Какие же предметы вы можете и желаете преподавать?
Марта ответила не сразу. Странное дело, она пришла сюда, чтобы получить место учительницы, но толком не знала, чему она хочет и может обучать. До сих пор она считала, что тех знаний, которыми она обладала, вполне достаточно для девушки из дворянской семьи, для жены чиновника. Однако раздумывать было некогда. Марте пришли на ум те предметы, которыми она в детстве больше всего занималась, которые составляли основу женского образования в ее среде.
– Я могла бы давать уроки музыки и французского языка, – сказала она.
– По-французски вы говорите достаточно бегло и произношение у вас неплохое. Хотя это еще не все, что требуется от преподавательницы, но я надеюсь, что вы знакомы и с грамматикой и с орфографией, а может быть, немного и с французской литературой… Ну, а что касается музыки… простите… мне необходимо выяснить степень вашего музыкального образования, раньше чем дать вам рекомендацию.
От смущения на бледных щеках Марты выступил румянец. Она и музыке училась дома, никаких экзаменов никогда не сдавала, ей даже не приходилось играть в присутствии посторонних, так как спустя несколько месяцев после свадьбы она забросила игру и открывала купленное мужем фортепиано очень редко, да и то тогда, когда ее слышали только четыре стены ее нарядной гостиной да маленькая Яня, подпрыгивавшая под музыку на коленях у няньки. Конечно, требование хозяйки справочной конторы не заключало в себе ничего оскорбительного. Это было весьма простое и распространенное в деловом мире правило: прежде чем определить цену и качество товара, надо его сначала осмотреть и решить, на что он годится. Марта понимала это. Она встала с кресла и, сняв перчатки, подошла к фортепиано. На миг она остановилась, опустив глаза на клавиатуру. Припоминая музыкальный репертуар своей юности, Марта не знала, какую же ей выбрать пьесу из тех, за исполнение которых ее некогда хвалили учительницы и родители. Даже и сев за фортепиано, она все еще предавалась воспоминаниям, как вдруг дверь с шумом распахнулась и с порога раздался резкий, пронзительный женский голос:
– Eh bien! madame! La comtesse arrive-t-elle a Varsovie?[6]6
Ну что, сударыня, графиня приедет в Варшаву? (франц.)
[Закрыть]
С этими словами в комнату вошла или, вернее, вбежала живая миловидная смуглянка среднего роста, в необычайного покроя плаще с красным капюшоном, яркость которого подчеркивала черноту ее волос и смуглость кожи. Черные блестящие глаза женщины быстро обежали комнату и остановились на сидевшей у фортепиано Марте.
– Ah, vous avez du mond'e, madame! – воскликнула она. – Continuez, continuez, je puis attendre![7]7
Ах, вы не одна! Продолжайте, продолжайте, я могу подождать! (франц.)
[Закрыть]
Она села в кресло, откинув голову на его спинку, вытянув изящные ножки в красивых ботинках, и устремила на Марту любопытный пронизывающий взгляд.
Молодая вдова покраснела еще больше; появление новой свидетельницы ее испытания отнюдь не уменьшило ощущаемой ею неловкости. Но Людвика Жминская посмотрела на нее с таким выражением, которое говорило: «Мы ждем!»
Марта начала играть «La priere d'une Vierge»[8]8
«Молитва девы» (франц.).
[Закрыть]. В ту пору, когда она училась музыке, среди молодых девушек была в моде эта меланхолическая, чувствительная пьеса, звуки которой сплетались в одно целое с льющимся в окна лунным светом и девичьими вздохами. Но «гостиная» пани Жминской была освещена трезвым дневным светом, не располагавшим к чувствительности, а вздохи женщины, исполнявшей «Молитву девы», были не из тех, которые взлетают в «заоблачные выси» или устремляются на «зеленый луг большой», где «мчится скакун вороной»; эти вздохи, которые она пыталась подавить, все поднимали ее грудь, в которой ширился, рос простой, земной, обыденный и вместе с тем трагичный, грозный, настойчивый, душераздирающий вопль: «Хлеба! Работы!»
Узкие брови Людвики Жминской чуть-чуть сдвинулись, и это придало ее лицу еще более холодное и суровое выражение. По смуглому же лицу француженки, развалившейся в кресле, то и дело пробегала лукавая усмешка. Марта и сама чувствовала, что играет плохо. Ее теперь уже не волновали эти нежные звуки, некогда казавшиеся ей ангельской музыкой; пальцы утратили прежнюю гибкость, путали клавиши. Она сбивалась с пассажах, слишком сильно нажимала педаль, пропускала целые такты, останавливалась.
– Mais c'est une petite horreur qu' elle joue lá![9]9
Но ведь это ужас! Как она играет! (франц.)
[Закрыть] – воскликнула француженка вполголоса, но все же настолько внятно, что Марта ее услышала.
– Chut! Mademoiselle Delphine![10]10
Т-с-с! Мадемуазель Дельфина! (франц.)
[Закрыть] – шепнула хозяйка.
Марта взяла последний аккорд и тут же, не отрывая от клавишей рук, стала играть ноктюрн Зентарского. Она сознавала, что ее игра произвела самое невыгодное впечатление на женщину, в чьих руках находилась ее судьба; она понимала, что теряет и этот шанс получить заработок, – что каждый фальшивый звук, выходящий из-под ее пальцев, обрывает одну из немногих нитей, на которых держится судьба ее и ее ребенка.
«Я должна играть лучше!» – сказала она себе мысленно, заиграв печальный ноктюрн. Однако она играла его не лучше прежнего, а, пожалуй, и хуже; пьеса была труднее, и в руках, отвыкших от игры, она чувствовала боль и напряжение.
– Elle touche faux, madame! he! he! comme elle touche faux![11]11
Она фальшивит, сударыня! Эге, как она фальшивит! (франц.)
[Закрыть] – снова воскликнула француженка, стреляя смеющимися глазами и положив красивые ножки на рядом стоявшее кресло.
– Chut, je vous en prie, mademoiselle Delphine![12]12
Помолчите, пожалуйста, мадемуазель Дельфина! (франц.)
[Закрыть] – повторила хозяйка, с легким неудовольствием пожав плечами.
Марта встала. Легкий румянец на ее щеках теперь запылал уже багровыми пятнами, глаза сверкали от волнения. Свершилось! Из ее рук ускользнуло одно из средств прокормить себя, на которое она рассчитывала. Она уже знала теперь, что не сможет получить уроки музыки; не опуская глаз, она уверенным шагом подошла к столу, у которого сидели обе женщины.
– У меня никогда не было способностей к музыке, – сказала она тихим, но не робким и не дрожащим голосом, – я училась девять лет, но то, к чему у человека нет призвания, забывается. К тому же за пять лет замужества я не играла ни разу.
Она сказала это с легкой улыбкой. Направленный на нее взгляд француженки был ей неприятен, она опасалась увидеть в нем жалость или насмешку. Но француженка не поняла слов Марты, произнесенных по-польски, и зевнула широко и громко.
– Eh bien! madame![13]13
Ну, сударыня! (франц.)
[Закрыть] – обратилась она к хозяйке. – Займитесь мной; мне нужно вам сказать только два слова. Когда приезжает графиня?
– Через несколько дней.
– Вы писали ей о моих условиях?
– Да, и графиня согласна.
– Значит, я могу рассчитывать на четыреста рублей?
– Вполне.
– И мне можно будет взять с собой маленькую племянницу?
– Да.
– И у меня будет отдельная комната, отдельная горничная, лошади для прогулок и два месяца каникул?
– Графиня согласилась на все ваши условия.
– Хорошо, – сказала француженка, вставая, – через несколько дней я снова зайду, чтобы справиться, приехала ли графиня. Но если она на этой неделе не приедет или не пришлет за мной, я отказываюсь от договора. Я не хочу дольше ждать и не нуждаюсь в этом. Я могу найти десяток таких мест. До свиданья!
Кивнув головой хозяйке и Марте, она вышла. У порога надвинула на голову свой красный капюшон и, открывая дверь, запела, фальшивя, французскую песенку. Марта впервые в жизни ощутила нечто вроде зависти. Слушая разговор француженки-гувернантки с хозяйкой конторы, она думала:
«Четыреста рублей и право жить в доме вместе с маленькой племянницей, отдельная комната, горничная, лошади, два месяца каникул! Боже мой, сколько льгот! Какая счастливица! А между тем она не кажется ни образованной, ни особенно привлекательной. Если бы мне обещали четыреста рублей в год и разрешили иметь Яню при себе…»
– Пани! – промолвила она вслух. – Я очень хотела бы получить какое-нибудь постоянное место.
Жминская задумалась на мгновение.
– Не скажу, чтобы это было невозможно, однако и не так это легко. К тому же я сомневаюсь, чтобы это было для вас выгодно. Откровенность с теми, кто обращается ко мне за работой, – мой долг. Поэтому должна вам сказать: при вашем среднем знании французского языка и не парижском произношении, при почти ничтожном музыкальном образовании вы можете учить лишь начинающих.
– Это значит?.. – с бьющимся сердцем спросила Марта.
– Это значит, что вы можете получать шестьсот, восемьсот, самое большее – тысячу злотых[14]14
В те времена злотый равнялся в Польше пятнадцати копейкам.
[Закрыть] в год..
Марта не раздумывала ни одной минуты.
– Я согласилась бы на эту плату, если бы меня приняли вместе с моей маленькой дочкой.
Глаза Людвики Жминской, только что подававшие надежду, стали холодными.
– А! – произнесла она. – Так вы не одиноки, у вас ребенок…
– Четырехлетняя девочка, тихая, она бы никому не доставила никакого беспокойства…
– Верю, – сказала Жминская, – однако вы не можете питать никакой надежды на получение места, имея при себе ребенка.
Марта посмотрела на нее с удивлением.
– Пани! Ведь вот эту даму, только что ушедшую отсюда, приняли вместе с племянницей… И на таких выгодных условиях! Разве она такая образованная?
– Нет, – ответила Жминская, – образование у нее не бог весть какое. Но она иностранка.
На губах суровой хозяйки конторы впервые промелькнула улыбка, а ее холодные глаза взглянули на Марту с выражением, говорившим: «Как! Ты даже этого не знаешь? Откуда же ты явилась?»
Марта явилась из отцовского поместья, в котором цвели розы и пели соловьи, из красивой квартиры на Граничной улице, из уютного, теплого гнездышка, и это заслоняло от нее окружающий мир; сперва наивная и неопытная девушка, потом веселая и неопытная молодая женщина, она жила в том кругу, где у женщины глаза стыдливо опущены, и, следовательно, она ничего не видит, где она ни о чем не спрашивает и, следовательно, ничего не знает… Она, вероятно, и не слыхивала или слышала лишь мельком поговорку: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»[15]15
Перевод латинской поговорки: «Quod licet lovi, non licet bovi».
[Закрыть]. Глаза Людвики Жминской, умные, холодные, с иронией устремленные на нее, казалось, говорили: «Та женщина в красном капюшоне, дерзкая, крикливая, задирающая ноги на стул, – Юпитер, а ты – бедное существо, рожденное на той же земле, на которой родятся матери всех наших детей, рабочая скотинка – и только».
– Если бы вы могли расстаться с вашей дочуркой и устроить ее куда-нибудь, то, возможно, нашли бы себе место на тысячу злотых в год.
– Никогда! – воскликнула Марта. – Ни за что я не расстанусь со своим ребенком, не отдам его в чужие руки. Мой ребенок – это все, что осталось у меня на свете.
Этот возглас вырвался у нее невольно, и она сразу поняла всю его неуместность и бесполезность. Сделав над собой усилие, Марта заговорила спокойно:
– Если я не могу надеяться на получение постоянного места, то, быть может, вы найдете для меня частные уроки…
– Уроки французского языка? – вставила хозяйка.
– Да, пани, а также и других предметов, например географии, истории, польской литературы… Я когда-то училась всему этому, а потом читала, хотя и немного, но все же читала. Я буду готовиться к урокам, пополнять свои знания…
– Это ни к чему, это вам нисколько не поможет, – прервала ее Жминская.
– Но почему?
– Потому что ни я, ни хозяйки других контор не могли бы вам обещать уроки по всем этим предметам…
Марта глядела на говорившую широко открытыми глазами, а та продолжала:
– Этим занимаются почти исключительно мужчины.
– Мужчины? – изумилась Марта. – А почему только одни мужчины?
Жминская опять посмотрела на нее так, как будто спрашивала: «Откуда же ты явилась?»
А вслух она сказала:
– Да, вероятно, потому, что мужчины – это мужчины.
Марта явилась из страны блаженного неведения, поэтому она призадумалась над словами хозяйки. Впервые в жизни смутно вставали перед ней социальные противоречия и проблемы; они бессознательно волновали и мучили ее, но она еще не могла разобраться в них.
– Пани, – сказала она после некоторого раздумья, – я, кажется, поняла, почему мужчинам отдается предпочтение, когда дело касается преподавания; они получают более полное, более серьезное образование, чем женщины… Однако это играет роль лишь тогда, когда от учителя требуются основательные знания, которые могут удовлетворить умственные запросы учеников. Но я на это и не претендую. Я хотела бы учить малышей…
– Для этого тоже всегда приглашают мужчин… – перебила ее Жминская.
– Они, верно, учат мальчиков?
– И девочек тоже.
Марта задумалась.
– Так что же остается женщинам-учительницам? – сказала она спустя минуту.
– Обучение языкам и изящным искусствам.
В глазах Марты сверкнула надежда. Эти слова Жминской напомнили ей, что у нее есть еще одна возможность, о которой она до сих пор не подумала.
– Искусствам? – сказала она торопливо. – Наверное, не только музыке?.. Я училась рисованию… мои рисунки даже когда-то хвалили.
Жминская задумалась, и это вселило надежду в душу Марты.
– Конечно, уменье рисовать может вам пригодиться, но рисовать детей учат гораздо реже, чем музыке…
– Почему?
– Вероятно, потому, что рисунок молчит, а музыка слышна всем… Во всяком случае, – добавила Жминская, – принесите мне свои рисунки. Если окажется, что вы обладаете незаурядными способностями, я смогу подыскать вам один или два урока…
– Способности у меня не такие уж большие, да и подготовка тоже недостаточная. Но давать уроки начинающим я смогу.
– В таком случае я не могу вам ничего обещать, – ответила Жминская спокойно, скрестив на груди руки.
Марта в тоске судорожно сплела пальцы.
– Но почему же, скажите? – шепотом спросила она.
– Потому что уроки рисования дают мужчины, – ответила хозяйка.
Марта склонила голову на грудь и минуты две просидела молча, погруженная в глубокое раздумье.
– Простите меня, – проговорила она, поднимая голову; на лице ее видно было мучительное беспокойство, – простите меня, что я отнимаю у вас столько времени. Я женщина неопытная, возможно, что я прежде слишком мало обращала внимания на взаимоотношения людей и на дела, не касавшиеся меня лично. Я не могу понять того, что вы мне говорите. Мой разум, которого я, думается, не лишена, не может согласиться с теми ограничениями для женщины, о которых вы говорите, так как я не вижу для них оснований. Получить работу, как можно больше работы – это для меня вопрос жизни, мне нужно вырастить и воспитать моего ребенка… У меня мысли путаются… мне бы хотелось правильно судить о вещах, понять… Но… я не могу… не понимаю…
Пока Марта говорила, хозяйка конторы смотрела на нее сначала равнодушно, потом внимательно, сосредоточенно, и, наконец, ее холодный взгляд потеплел. Она опустила глаза и некоторое время молчала. На лбу ее появилась морщина, грустная улыбка мелькала на губах. Оболочка официальности, в которую она облеклась, словно стала прозрачной: сквозь нее сейчас видна была душа этой женщины, вспоминавшей не одну страничку из собственной жизни, не одну сцену из жизни других женщин. Наконец она медленно подняла голову и встретилась с устремленным на нее взглядом глубоких, блестящих и беспокойных глаз Марты.
– Не вы первая, – заговорила Жминская уже менее сухим тоном, – не вы первая говорите со мной подобным образом. Вот уже восемь лет, с тех пер как я открыла эту контору, сюда постоянно приходят женщины различного возраста, разного общественного положения и разных способностей. Беседуя со мной, они твердят: «Мы не понимаем!» А вот я понимаю то, чего не понимают они, так как я много видела и много сама испытала. Однако я не берусь объяснять неопытным людям то, что им кажется темным и непонятным. Пусть им откроют глаза неустанная борьба, неизбежные разочарования, факты, ясные, как день, и мрачные, как ночь.
Какая-то горькая ирония прозвучала в словах этой немолодой женщины с суровыми чертами лица. Взгляд ее все еще не отрывался от побледневшего лица Марты. В этом взгляде была доля сочувствия, с каким взрослый человек, хорошо знакомый с темными сторонами жизни, смотрит на наивное дитя, у которого впереди еще вся жизнь. Марта молчала. Она сказала правду: мысли путались у нее в голове, она не могла охватить всего того, что вдруг встало перед ней. Одно лишь она хорошо понимала теперь: работа – это вовсе не такая вещь, за которой человеку, а в особенности женщине, достаточно лишь руку протянуть. И еще одно она видела отчетливо: белое личико и большие черные глаза Яни, взгляд которых ранил ей сердце, как неустанное настойчивое напоминание о великом, неизбежном горе…
– Напрасно вы мучаете себя этими мыслями, – продолжала Людвика Жминская, – они вам ничего не подскажут. Ведь вы не жили до сих пор в реальном мире, у вас был свой, сначала девичий, а потом семейный мирок, все остальное вас не касалось. Вы не знаете жизни, хотя вам уже, верно, больше двадцати лет, так же как не умеете играть, хотя девять лет учились музыке. Факты, которые обступят вас со всех сторон и будут управлять вашей жизнью, познакомят вас с окружающим миром, с людьми и обществом. А я хочу, могу и обязана сказать вам лишь следующее: в нашем обществе обеспечить себе существование и оградить себя от больших страданий и нужды может лишь та женщина, которая в совершенстве владеет какой-либо специальностью или обладает подлинным талантом и энергией. Начальные сведения и средние способности не дают ничего или, в лучшем случае, – черствый кусок хлеба, размоченный разве только в слезах и приправленный унижениями. Тут ничего не поделаешь, женщина должна достичь совершенства в какой-либо области, и лишь когда она создаст себе имя, тогда ей успех обеспечен. А той, что стоит одной, двумя ступеньками ниже по своим знаниям и таланту, – дороги не дадут и все будет против нее.
Марта жадно вслушивалась, и чем больше слушала, тем было очевиднее, что и ей приходят в голову те же мысли, те же слова готовы сорваться и с ее уст.
– Скажите, – спросила она, – мужчины тоже должны быть такими учеными и талантливыми, чтобы обеспечить себе жизнь без тяжких страданий и нужды?
Жминская тихонько засмеялась:
– Неужели писцы, переписывающие в учреждениях бумаги, продавцы в лавках, учителя, преподающие в начальных школах географию, историю, рисование, такие уж великие ученые?
– В таком случае, – воскликнула Марта с несвойственной ей живостью, – в таком случае я снова спрашиваю: почему, почему одним всюду дорога, а другим нигде не дают ходу? Почему мой брат, если б он у меня был, мог бы давать уроки рисования при таких же, как у меня, способностях и знаниях, а я не могу? Почему он мог бы переписывать в учреждениях бумаги, а я не могу? Почему ему разрешалось бы применять в жизни все свои знания, а мне разрешается лишь обучать музыке, к которой у меня нет способностей, и иностранным языкам, которыми я не так уж хорошо владею?


