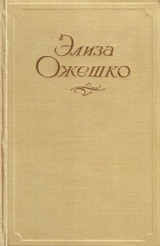
Текст книги "Марта"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Элиза Ожешко
Марта
– Жизнь женщины – это вечно пылающее пламя любви, – говорят одни.
– Жизнь женщины – в самоотречении, – твердят другие.
– Жизнь женщины – в материнстве, – восклицают третьи.
– Жизнь женщины – игра, – шутят некоторые.
– Добродетель женщины – ее слепая вера, – хором соглашаются все.
Женщины веруют слепо; они любят, жертвуют собой, растят детей, развлекаются… следовательно, делают все, чего от них требует общество, и все же на них посматривают как-то косо и время от времени бросают им не то упрек, не то предостережение:
– Неладно вы живете!
И наиболее вдумчивые, разумные или наиболее несчастные женщины, вглядываясь в свою жизнь и в то, что их окружает, твердят:
– Да, неладно мы живем!
Если неладно, значит надо искать выход. Одни видят его в одном, другие – в другом, но все эти рецепты не помогают излечить недуг.
Недавно один писатель, который пользуется заслуженным уважением в нашей стране (Захариасевич), в своем романе «Альбина» пытался доказать, будто женщины страдают физически и нравственно только оттого, что не умеют сильно любить (конечно, мужчину!).
О, небо! Какая вопиющая несправедливость!
Пусть слетит к нам на помощь розовый божок Эрос и подтвердит, что вся наша жизнь – фимиам, который мы непрестанно курим в его честь!
Едва выйдя из детского возраста, мы уже слышим, что наш удел – любить одного из этих «царей природы»; в юности мы мечтаем об этом повелителе и вечерами, когда на небе светит луна или сверкают звезды, и по утрам, когда белоснежные лилии раскрывают навстречу солнцу благоухающие чашечки. Мечтаем и вздыхаем, вздыхаем о том мгновении, когда нам можно будет, как лилиям к солнцу, устремиться навстречу тому, кто встает в нашем воображении, словно Адонис в утреннем тумане или в потоках лунного света… Затем… что же затем? Адонис спускается с облаков, находит себе телесное воплощение, мы меняемся с ним кольцами и выходим за него замуж… Это тоже доказательство любви, и, хотя вышеупомянутый писатель в своих прекрасных романах утверждает, что это всегда и неизменно делается по расчету, мы не можем с ним полностью согласиться. Брак по расчету – обычное явление лишь в определенных кругах и при определенных обстоятельствах. Как правило же, брак – следствие любви. Какой любви? Это уже другой вопрос, сложный, об этом пришлось бы много говорить. Достаточно того, что, когда девушка в подвенечном платье, стыдливо закрыв лицо белоснежной фатой, идет к алтарю, прекрасный Эрос летит впереди, держа над ее головой свой факел, горящий розовым пламенем.
Затем… Что же затем? Мы снова любим… Если и не того царя природы, который девочке-подростку являлся в мечтах, а юной деве надел на палец обручальное кольцо, – так иного; а когда не любим никого, то жаждем любви… сохнем, чахнем; частенько эта неудовлетворенная жажда любви делает нас злыми ведьмами…
И что же происходит? Одни порхают в жизни, осененные крыльями бога любви, они честны, добродетельны и счастливы; другие – и таких больше, гораздо больше – ступают по земле окровавленными ногами, борясь за кусок хлеба, за свой душевный мир, за честь свою; их удел – горькие слезы, безумные страдания, они тяжко грешат, падают в пропасть позора, умирают с голоду…
Итак, рецепт «любите!» не во всех случаях помогает.
Видно, в лекарство следует добавить еще кое-что, тогда оно скорее поможет. Чего же в нем недостает?
На это, быть может, ответит страница из жизни одной женщины…
* * *
Граничная улица – одна из оживленных улиц Варшавы. Несколько лет тому назад, в прекрасный осенний день по этой улице шло и ехало множество людей. Все были поглощены своими делами, спешили, никто не смотрел по сторонам и не обращал ни малейшего внимания на то, что происходило в глубине одного двора на этой улице.
Это был чистый, широкий двор, окруженный с четырех сторон высокими каменными строениями. Дом, стоявший в глубине двора, был меньше остальных, но большие окна, широкая лестница и красивое крыльцо наводили на мысль, что квартиры в нем удобные и нарядно отделаны.
На крыльце стояла молодая, очень бледная женщина в трауре. Бледненькая девочка лет четырех, тоже в трауре, цеплялась за бессильно повисшие руки женщины, словно говорившие о великой печали и усталости.
По чистой, широкой лестнице с верхнего этажа то и дело сходили грузчики в грубой одежде и запыленной обуви. Они выносили всякую мебель и вещи, все, что можно найти в квартире, если и не слишком большой и роскошной, то по крайней мере красиво и комфортабельно обставленной. Были тут кровати красного дерева, диваны и кресла, обитые красным штофом, дорогие шкафы и комоды, какие-то мраморные постаменты, большие зеркала, цветы в кадках – два высоких олеандра и датура, на ветвях которой висело несколько еще не совсем отцветших белых венчиков.
Грузчики проходили мимо женщины на крыльце и, вынося вещи во двор, ставили их на землю или грузили на две телеги, стоявшие недалеко от ворот, а некоторые выносили на улицу. Женщина стояла неподвижно и провожала взглядом каждую вещь. Видно было, что все эти предметы, с которыми она расставалась, дороги ей не только как материальная ценность: она прощалась с ними, как прощаются с чем-то, неразрывно связанным с безвозвратно ушедшим прошлым, как прощаются с немыми свидетелями утраченного счастья. Черноглазая девчурка дернула мать за платье.
– Мама! – шепнула она. – Смотри! Папин стол!
Грузчики снесли с лестницы и поставили на телегу большой письменный стол, крытый зеленым сукном, с красивой резной решеточкой вокруг. Женщина в трауре окинула его долгим пристальным взглядом.
– Мама, – продолжала девочка тихо, – видишь большое чернильное пятно на сукне? Я помню, как это было… Папа сидел за столом и держал меня на коленях. А ты, мама, пришла и захотела меня отнять. Папа смеялся и не отдавал. Я стала шалить и разлила чернила… Отец не сердился… Отец был добрый. Он никогда не сердился ни на меня, ни на тебя.
Ребенок шептал эти слова, пряча личико в складках траурного платья матери и всем своим маленьким телом прижимаясь к ее коленям. Видно, и этим детским сердечком уже овладели воспоминания, сжимая его безотчетной болью. Из сухих глаз женщины выкатились две тяжелые слезы; картина прошлого, вызванная в ее памяти словами дочери, затерявшаяся среди миллионов других подобных ей будничных картин, казалась теперь несчастной женщине горькой и сладостной, как воспоминание об утерянном рае. А, быть может, она подумала, что за беззаботную радость той минуты она сегодня расплачивается потерей чуть не последнего куска хлеба, оставшегося у нее и ребенка, а завтра – заплатит за нее голодом: ведь пятно от чернил, разлитых когда-то под смех ребенка и поцелуй родителей, уменьшит на несколько десятков злотых стоимость письменного стола.
Вслед за столом на дворе появилось красивое фортепиано, но женщина в трауре, посмотрела на него уже равнодушнее. Она, видимо, не была настоящей музыкантшей, и этот инструмент вызывал у нее меньше всего сожалений и воспоминаний. Зато кроватка красного дерева с вязаным пестрым одеяльцем, вынесенная из дома и поставленная на телегу, привлекла взгляд матери и вызвала слезы на глазах ребенка.
– Мама, моя кроватка! – крикнула девочка. – Они забирают мою кроватку! И одеяльце, что ты мне сама связала! Я не хочу, чтобы они их увезли! Мама, отними у них мою кроватку и одеяльце!
Вместо ответа женщина только прижала к себе голову плачущего ребенка; ее глаза, черные, прекрасные, но несколько ввалившиеся, были уже снова сухи, а бледный, нежно очерченный рот крепко сжат.
Изящная детская кроватка была последней вещью, вынесенной из квартиры. Ворота открылись настежь, нагруженные вещами телеги выехали на улицу, за ними вышли грузчики с остальными вещами, а любопытные, наблюдавшие из окон соседних домов, покинули свои посты.
С лестницы сошла девушка в пальто и шляпке и остановилась перед женщиной в трауре.
– Пани, – сказала она, – я все сделала… расплатилась, с кем следовало… Вот что осталось…
Говоря это, она подала женщине в трауре несколько кредиток.
Та медленно повернулась к ней лицом.
– Спасибо, Зося, – сказала она тихо, – ты всегда была добрая девушка.
– Это вы были всегда добры ко мне! – воскликнула девушка. – Я служила у вас четыре года, и мне нигде не было и не будет так хорошо, как у вас.
Она отерла мокрые глаза рукой, на которой видны были следы иголки, и утюга. Женщина схватила эту огрубевшую руку и крепко сжала ее своими белыми маленькими ручками.
– А теперь прощай, Зося! Будь здорова!
– Я вас отвезу на новую квартиру! – сказала девушка. – Сейчас позову извозчика. ……
Через четверть часа обе женщины с девочкой вышли из пролетки у дома на Пивной улице.
Этот узкий, высокий, четырехэтажный дом имел вид дряхлый и довольно мрачный. Маленькая Яня широко открытыми глазами смотрела на его стены и окна.
– Мама, мы здесь будем жить?
– Здесь, детка, – тихо ответила мать и обратилась к стоявшему у ворот дворнику.
– Дайте, пожалуйста, ключ от квартиры, которую я наняла два дня тому назад.
– А! Это, должно быть, мансарда! – отозвался дворник и добавил: – Идите наверх, сейчас открою.
Пройдя квадратный дворик, с двух сторон огороженный глухой кирпичной стеной, а с двух – ветхими дровяными сараями, они стали подниматься по узкой, темной и грязной лестнице. Зося взяла девочку на руки и пошла вперед, а мать медленно следовала за ней.
Комната, которую им отпер дворник, была довольно просторная, но низкая и темная. Одно небольшое оконце, выходившее на крышу, освещало ее плохо, а скошенный потолок, казалось, давил на стены, пахнувшие сырой известкой, – они, видимо, недавно были побелены.
В углу, у грубо сложенной из кирпича печи, была и небольшая плита, а напротив, у стены, стояли шкафчик, койка, кушетка, обитая рваным ситцем, стол, покрашенный черной краской, и несколько стульев с соломенными сиденьями, местами продавленными и продранными.
Женщина в трауре остановилась на мгновение у порога, медленно обвела глазами это жилище и, шагнув вперед, села на кушетку.
Девочка подошла к матери и, неподвижная, бледная, осматривала комнату взглядом, в котором читался испуг и удивление.
Зося между тем отпустила извозчика, внесшего наверх два небольших чемодана, и занялась разборкой вещей.
Вещей было немного, и она быстро управилась с этим делом. Не снимая пальто и шляпки, она уложила в один из чемоданов несколько детских платьиц и немного белья, а второй, пустой, поставила в углу. Потом застлала кровать шерстяным одеялом, положила на нее две подушки, завесила окошко белой занавеской, поставила в шкаф несколько тарелок и кастрюль, глиняный кувшин для воды, такой же таз, медный подсвечник и маленький самоварчик. Сделав все это, она достала из-за печки вязанку дров и развела под плитой веселый огонь.
– Ну вот, – сказала она, наконец, вставая и повернув разрумяненное огнем лицо к неподвижно сидевшей женщине, – я затопила, сейчас тут станет и теплее и светлее. Дрова за печкой, пани. Недели на две вам хватит. Платье и белье в чемодане, а посуда кухонная и столовая – в шкафу. Подсвечник со свечой я тоже поставила в шкаф.
Добрая девушка старалась говорить все это веселым тоном, но улыбка сбежала с ее губ, на глаза навертывались слезы.
– А теперь, – промолвила она тише, сжав руки, – теперь, моя дорогая пани, мне надо идти!
Женщина в трауре подняла голову.
– Да, тебе пора, пора, Зося. – Она взглянула в окно: – Уже начинает смеркаться… тебе страшно будет идти по городу вечером.
– Нет, не в том дело, дорогая пани! – воскликнула девушка. – Для вас я бы в самую темную ночь пошла на край света… Но… мои новые хозяева уезжают из Варшавы завтра рано утром и велели мне прийти до темноты. Мне надо поторопиться, потому что я им нужна еще сегодня…
При последних словах Зося наклонилась и, взяв белую руку своей пани, хотела поднести ее к губам. Но женщина быстро встала и обняла ее. Обе расплакались. Девочка заплакала тоже и ухватилась за пальто служанки.
– Не уходи, Зося! – кричала Яня. – Не уходи! Здесь так страшно и так скучно!
Зося поцеловала свою бывшую хозяйку в плечо и в руку, прижала к груди плачущую девочку.
– Мне нужно, нужно идти! – повторяла она, рыдая. – У меня мать и маленькие сестры, я должна работать, чтобы их прокормить.
Женщина в трауре подняла бледное лицо и выпрямила тонкий стан.
– И я тоже, Зося, буду работать, – сказала она голосом более уверенным, чем говорила до сих пор. – Ведь у меня есть ребенок, которого я должна кормить…
– Благослови вас бог, моя добрая, дорогая пани! – воскликнула молодая служанка, поцеловала еще раз руки женщины и заплаканное личико ребенка и, не оглядываясь, выбежала из комнаты.
После ухода Зоей наступила полная тишина, которую нарушало лишь потрескивание горящих дров да отдаленный, неясный уличный шум, глухо доносившийся в мансарду. Женщина в трауре все сидела на кушетке, а ее дочурка поплакала, потом, прижавшись к матери, утомленная, заснула. Мать, подпирая голову одной рукой, другой обняла уснувшего у нее на коленях ребенка и устремила неподвижный взгляд на мигающее пламя. С уходом преданной и верной служанки она лишилась последнего человеческого существа, бывшего свидетелем ее прошлого, последней опоры, ибо все, в чем она прежде находила поддержку и защиту, исчезло из ее жизни. Теперь она совсем одинока, брошена на произвол судьбы и может рассчитывать лишь на собственные силы. С ней осталось это маленькое, слабое существо, которое у нее одной может искать утешения, только от нее ждать ласки, существо, которое она должна своим трудом прокормить. В дом, некогда обставленный для нее заботливым и любящим мужем и теперь покинутый ею, вошли теперь новые жильцы, а добрый и любимый человек, до сих пор окружавший ее нежным вниманием и заботами, уже несколько дней лежит в могиле…
Все миновало… любовь, благополучие, покой, ясные дни счастья, и единственным следом исчезнувшего, как сон, прошлого были для несчастной женщины горестные воспоминания да этот бледный и хрупкий ребенок, который, проснувшись в эту минуту, обхватил ее шею ручонками и, прильнув губками к ее щеке, прошептал:
– Мама, дай мне поесть!
В этой просьбе пока еще не заключалось ничего такого, что могло бы вызвать тревогу или печаль в сердце матери. Вдова опустила руку в карман и достала кошелек, в котором лежало несколько кредиток – все богатство ее и дочки.
Набросив на плечи платок и наказав девочке спокойно дожидаться ее, она вышла из комнаты.
На лестнице она встретила дворника, несшего вязанку дров в одну из квартир второго этажа.
– Послушайте, голубчик, – попросила вдова вежливо и несмело, – не можете ли вы принести из какой-нибудь, соседней лавки молока и булок для моего ребенка?
Дворник выслушал ее, не останавливаясь, отвернулся и ответил с плохо скрытой досадой:
– Как же, есть у меня время ходить за молоком да за булками!.. Я здесь не для того, чтобы носить жильцам продукты.
С этими словами он исчез за поворотом лестницы. Вдова пошла дальше.
«Не хочет оказать мне услугу, – подумала она. – Видно, догадался, что я бедна. А тем, кто ему может хорошо заплатить, он несет тяжелую вязанку дров».
Она вышла во двор и огляделась вокруг.
– Что это вы так озираетесь? – раздался рядом с ней женский голос, хриплый и неприятный.
Вдова заметила женщину, стоявшую у низенькой двери около ворот. Лица ее она в сумерках не могла разглядеть, но по короткой юбке, большому полотняному чепцу и теплому платку, небрежно наброшенному на плечи, а также по ее голосу и тону в ней легко было узнать простолюдинку. Вдова догадалась, что это жена дворника.
– Скажите, дорогая, – обратилась она к ней, – не найдется ли тут кого-нибудь, кто мог бы сходить за молоком и булками?
Женщина задумалась на минуту.
– А с какого вы этажа? – спросила она. – Я что-то вас не знаю.
– Я только сегодня поселилась здесь… в мансарде.
– А, в мансарде! Так что ж вы просите, чтоб вам приносили? Сами-то разве не можете в лавку сходить?
– Я заплатила бы за это, – прошептала вдова, но жена дворника не расслышала или сделала вид, что не слышит, закуталась поплотнее в платок и скрылась за низенькой дверью.
Вдова постояла минутку, вздыхая, бессильно опустив руки. Она не знала, видимо, что делать и к кому обратиться; но через минуту она, подняв голову, пошла к воротам и открыла калитку на улицу.
Было еще не поздно, но уже темно. Немногочисленные фонари слабо освещали узкую улицу, по которой сновало множество людей. Во многих местах тротуар был почти сплошь погружен в темноту. Холодный осенний ветер ворвался в открытую калитку, ударил в лицо вдове, рвал концы ее черного платка. Грохот извозчичьих пролеток и смешанный шум голосов оглушили ее, темнота испугала. Она отступила к воротам и остановилась на мгновение, опустив голову, потом вдруг выпрямилась и двинулась вперед. Быть может, она вспомнила о голодной дочке, ожидавшей еды, или почувствовала, что ей необходимо проявить волю и мужество, что теперь придется проявлять их ежедневно, ежечасно. Накинув платок на голову, она вышла за калитку и, не зная, где искать лавку, прошла довольно большое расстояние, внимательно разглядывая витрины, миновала несколько табачных лавок, какие-то кафе, мануфактурный магазин и повернула обратно. У нее не хватило смелости идти дальше или обратиться к кому-либо с вопросом. Она пошла в другую сторону и через четверть часа уже возвращалась с булками, завернутыми в белый платочек. Молока она не купила, не найдя его в той лавке, где брала булки. Она не хотела, не могла искать дольше и шла домой торопливо, почти бежала, беспокоясь за ребенка. Она была уже недалеко от ворот, когда услышала за спиной мужской голос, напевавший: «Не спеши, постой немножко, ах, зачем так мчаться, крошка?» Она пыталась убедить себя, что это не к ней относится, прибавила шагу и уже коснулась рукой калитки, как пение вдруг оборвалось и она услышала:
– Куда это вы так спешите? Куда? Такой прекрасный вечер! Погуляли бы со мной немного!
Запыхавшись, дрожа от испуга и обиды, молодая вдова вбежала во двор и захлопнула за собой калитку. Через несколько минут Яня, увидев входящую в комнату мать, бросилась ей навстречу и крепко прижалась к ней.
– Как долго ты не шла, мама! – воскликнула она, но вдруг замолкла и внимательно всмотрелась в лицо матери. – Мама, ты опять плачешь! Ты теперь опять такая… такая, как тогда, когда папу выносили в гробу из нашего дома…
Молодая женщина действительно дрожала всем телом, слезы дождем текли по ее пылающим щекам. То, что она пережила, выйдя на четверть часа из дому, – борьба с собственной робостью, быстрая ходьба на холодном ветру, по скользкой улице, в густой толпе, а главное – оскорбление, хотя и нанесенное незнакомым человеком, но испытанное впервые в жизни, все это потрясло ее до глубины души. Но она, видимо, решила отныне взять себя в руки и поэтому быстро успокоилась, вытерла слезы, поцеловала девочку и, раздувая огонь под плитой, сказала:
– Я принесла тебе булок, Яня, а сейчас поставлю самовар и будем пить чай.
Она взяла из шкафа глиняный кувшин и, наказав дочке быть осторожной с огнем, снова спустилась во двор, к колодцу. Вернулась она быстро; усталая, с трудом переводя дыхание, согнувшись под тяжестью кувшина, наполненного водой, однако, не отдохнув ни минуты, принялась ставить самовар. Делать это ей приходилось, должно быть, впервые в жизни: работа не спорилась. Все же через час чай был уже выпит, Яня – раздета и уложена. Ее ровное дыхание показывало, что она спит спокойно. С бледного личика исчезли следы слез.
А молодая мать не спала. Подперев голову рукой, она в своем траурном платье, с распущенными черными косами неподвижно сидела у догоравшего огня и думала. Сперва мучительная душевная боль высекла на ее белом лбу глубокие морщины, глаза наполнились слезами и тяжкие вздохи поднимали грудь. Но скоро она тряхнула головой, словно желая отогнать нахлынувшие воспоминания и тоску, встала и, выпрямившись, тихо промолвила:
– Новая жизнь!
Да, эта молодая, красивая женщина с белыми руками и тонким станом сегодня вступила в новую жизнь. Этому дню суждено было стать для нее началом неизвестного будущего.
Каково же было ее прошлое?
* * *
Марта Свицкая еще немного лет прожила на свете, и ее прошлое было небогато событиями.
Марта родилась в шляхетской усадьбе, не слишком роскошной и богатой, но красивой и уютной.
В имении ее отца, расположенном всего лишь в нескольких милях от Варшавы, было десятка два влук[1]1
Влука – 16,8 гектара.
[Закрыть] плодородной земли, были и усеянные цветами обширные луга, прекрасная березовая роща, доставлявшая топливо зимой, а летом служившая местом приятных прогулок. Большой плодовый сад окружал красивый домик с шестью окнами по фасаду, выходившими на круглый двор, покрытый ровно подстриженной травой. Зеленые жалюзи и крыльцо с четырьмя колоннами, обвитыми красными цветочками фасоли и большими лиловыми венчиками повилики, придавали домику еще более веселый вид.
Над колыбелью Марты пели соловьи, старые липы задумчиво качали головами, цвели розы и разливались золотые волны зреющей пшеницы. Склонялось над ней и прекрасное лицо матери, покрывавшей горячими поцелуями черноволосую головку ребенка.
Мать у Марты была красивая и добрая, отец – человек образованный и тоже добрый. Их единственное дитя росло в довольстве, окруженное всеобщей любовью.
Первым горем, ворвавшимся в безоблачное до тех пор существование красивой, веселой, жизнерадостной девушки, была смерть матери. Марте было тогда шестнадцать лет. В первое время она предавалась отчаянию, долго тосковала, но юность была целительным бальзамом для первой раны ее сердца; румянец снова заиграл на лице, она повеселела, вернулись надежды и мечты.
Однако вскоре обрушились на нее новые беды. Отцу Марты, отчасти по его собственной неосмотрительности, но главным образом из-за происшедших в стране перемен, угрожала потеря имения. Здоровье пошатнулось. Он предчувствовал разорение и близкую смерть. Впрочем, будущее Марты в то время казалось уже обеспеченным. Девушка любила и была любима.
Ян Свицкий, молодой чиновник, занимавший довольно видную должность в одном из государственных учреждений Варшавы, полюбил прекрасную черноокую панну и вызвал в ней ответное чувство уважения и любви. Свадьба Марты опередила лишь на несколько недель смерть ее отца. Разорившийся шляхтич, когда-то мечтавший, быть может, о более блистательной судьбе для своей единственной дочери, с радостью выдал ее за человека, хотя и небогатого, но трудолюбивого, и, думая, что брак этот будет для Марты достаточной защитой от одиночества и нужды, он умер спокойно.
Так Марту второй раз в жизни постигло большое горе. Однако на этот раз ее боль умерялась не только молодостью, но и любовью к мужу, а вскоре к ребенку. Родительское имение было навсегда для нее потеряно, оно перешло в чужие руки. Но любящий и любимый муж устроил ей в шумном городе уютное, теплое и удобное гнездышко, в котором вскоре зазвенел серебристый голосок ребенка.
Счастливо и быстро прошли для молодой женщины пять лет семейных радостей и обязанностей.
Ян Свицкий работал добросовестно и умело и получал за свой труд столько, что мог окружить любимую женщину всем, к чему она привыкла с колыбели, мог сделать для нее радостной каждую минуту, обеспечить ей мирное благополучие на все дни ее жизни.
Все ли? Нет! Только на ближайшее будущее. Ян Свицкий был недостаточно предусмотрителен, чтобы заботиться о более далеком будущем и хоть в чем-нибудь отказывать себе в настоящем.
Молодой, здоровый и трудолюбивый, он рассчитывал на свою молодость, силы, работоспособность, воображая, что они неисчерпаемы. Между тем они истощились слишком быстро. Мужа Марты неожиданно сразила тяжелая болезнь, от которой его не спасли ни врачи, ни заботы приходившей в отчаяние жены. Он умер. С его смертью кончилось не только семейное счастье Марты – она лишилась также всяких средств к существованию.
Таким образом, брак не навсегда спас молодую женщину от мук одиночества и нужды. Старая, как мир, истина «ничто не вечно на земле» оправдалась в той степени, в какой она верна: ибо истина эта верна не вполне. Да, то, что приходит к человеку извне, не вечно и изменяется под влиянием тысяч всяких обстоятельств, перемен в общественных отношениях и законах и – что самое ужасное – иногда под влиянием слепого случая, которого нельзя ни предвидеть, ни устранять. Судьба человека была бы поистине достойна сожаления, если бы все, чем он силен и богат, зависело от одних лишь окружающих стихий, изменчивых, как волны, покорные власти ветров. Да, на земле нет ничего постоянного, кроме того, что заключено в сердце и в голове человека – знания, которое указывает путь и ведет вас вперед, и любви к труду, который скрашивает одиночество и гонит прочь нужду, опыта, который учит, и возвышенных чувств, охраняющих от всего дурного. Все же и здесь постоянство до некоторой степени относительно, так как его сокрушает мрачная и неодолимая сила болезни и смерти. Но до тех пор, пока неуклонно и закономерно идет тот процесс движения мысли и человеческих чувств, который называется жизнью, человек остается самим собою, сам себе помогает, опираясь на то, что успел приобрести в прошлом, что служит ему оружием в борьбе с трудностями жизни, с изменчивостью судьбы, с жестокостью случая.
Марте изменило, покинув ее, все то, что, приходя извне, защищало ее и оберегало от всяких невзгод. В судьбе ее не было ничего исключительного, причиной ее несчастья был не какой-либо необычайный случай или катастрофа, редкая в истории человечества. До этого времени роль разрушителей спокойствия и счастья в ее жизни играли разорение и смерть. А что может быть обычнее разорения, особенно в нашем современном обществе, и что закономернее и неотвратимее смерти?
Марта столкнулась лицом к лицу с тем, с чем сталкиваются миллионы людей. Кому из нас не приходилось в жизни много раз встречаться с людьми, плачущими на реках вавилонских, омывающих развалины утраченного благополучия? Кто сосчитает, сколько раз в жизни приходилось ему видеть вдовьи одежды, бледные лица, померкшие от слез глаза сирот?
Итак, все то, что до сих пор сопутствовало молодой женщине в ее жизни, исчезло, изменило ей. Правда, она не изменила себе. Однако что могла она сделать, чем помочь себе? Что она сумела накопить в прошлом? Достаточно ли у нее воли и опыта, чтобы они могли служить ей оружием в борьбе с социальной несправедливостью, с нуждой, случайностями, одиночеством? Это было тайной ее будущего, вопросом жизни и смерти для нее – и не только для нее, но и для ее ребенка.
У молодой матери не было никаких или почти никаких средств. Несколько сот злотых, вырученных от продажи мебели, вернее, то, что осталось от них после уплаты мелких долгов и расходов на похороны мужа, немного белья, два платья – вот и все. Особенно дорогих украшений у нее никогда не было, а те, что были, пришлось продать во время болезни мужа, чтобы оплатить бесполезные советы врачей и столь же бесполезные лекарства. Даже убогая обстановка ее нового жилища не была ее собственностью, она принадлежала домовладельцу, и за пользование этой рухлядью, так же как и за мансарду, Марта должна была платить первого числа каждого месяца.
Таково было ее настоящее, печальное, неприглядное, но вполне уже определившееся. Неопределенным оставалось пока будущее. Его надо было завоевать, или, вернее, создать.
Обладала ли нужными для этого силами молодая красивая женщина со стройным станом, белыми руками и шелковистыми волосами цвета воронова крыла? Взяла ли она от прошлого нечто такое, из чего можно было бы создать будущее? Вот о чем она думала, сидя на низенькой табуретке у догоравшего огня. Взгляд ее, полный невыразимой любви, был устремлен на личико ребенка, спокойно спавшего на белых подушках.
– Для нее, – сказала она вслух, – для нее, для себя я буду работать! Чтобы был у нас кусок хлеба, кров, чтобы мы могли спокойно жить.
Она подошла к окну. Ночь была темная, Марта не видела ничего: ни крыш, громоздившихся под ее мансардой, ни темных, закоптелых труб, торчавших над этими крышами, ни уличных фонарей, тусклый свет которых не доходил до ее оконца. Она не видела даже неба, потому что оно было покрыто тучами и на нем не светила ни одна звезда. Но шум большого города, не прекращавшийся даже ночью, шум и оглушительный, хотя и умеряемый расстоянием, достигал и сюда. Час был не очень поздний: по широким нарядным улицам и тесным и мрачным переулкам еще ходили люди – одни в погоне за развлечениями, другие искали наживы, спешили туда, куда влекла их любознательность, страсть или надежда на добычу.
Марта опустила голову на скрещенные руки и закрыла глаза. Она вслушивалась в тысячи голосов, слитые в один мощный голос, хотя и невнятный, монотонный, но полный лихорадочных взрывов, неожиданных пауз, глухих выкриков и таинственных шумов. Большой город представал перед ее мысленным взором в виде огромного улья, где живет, движется, шумит множество человеческих существ. У каждого из них есть свое место для работы и отдыха, есть цель, к которой оно стремится, есть средства, с помощью которых оно прокладывает себе путь в толчее. Какое будет у нее, бедной, одинокой женщины, место для работы и отдыха? Где та цель, к которой она будет стремиться? Как ей проложить себе дорогу, ей, нищей и всеми покинутой? И как отнесутся к ней люди, которые шумят там внизу, люди, чье дыхание жаркими волнами, казалось, доходило до нее? Будут они к ней справедливы или жестоки, встретит ли она сочувствие или только жалость? Расступятся ли перед ней сплоченные ряды людей, которые гонятся за счастьем и благополучием, или сомкнутся еще плотнее, чтобы вновь прибывшая не оттеснила, не обогнала кого-либо из них в этой изнурительной погоне? Какие законы и обычаи общества будут для нее благоприятны, а какие – враждебны, и каких окажется больше – первых или вторых? А главное, главное – сумеет ли она преодолеть все враждебное, использовать все благоприятное? Сумеет ли каждое мгновение, каждое биение сердца, каждую мысль, промелькнувшую в голове, собрать в одну разумную, упорную, неисчерпаемую силу, которая одна лишь сможет отогнать нужду, защитить от унижений ее человеческое достоинство, уберечь от напрасных страданий, отчаяния и – голодной смерти?
На этих вопросах были сосредоточены все помыслы Марты. Воспоминания, приятные и вместе с тем мучительные, воспоминания женщины, которая некогда прелестной, веселой девушкой бродила по цветущим лугам родительской усадьбы, потом, с любимым мужем, проводила счастливые дни без забот и печалей, а теперь сидит во вдовьей одежде у оконца мансарды, закрыв бледное лицо руками, воспоминания, весь день реявшие перед ней сонмом заманчивых видений лишь для того, чтобы терзать и мучить, теперь рассеялись, спугнутые грозной, еще неясной, но уже ощутимой действительностью. Это настоящее поглощало сейчас все ее мысли, но, видимо, не страшило ее. Была ли источником этого мужества материнская любовь, наполнявшая ее сердце? Или Марта отличалась той гордостью, которая презирает трусость? Или… она не знала жизни и самой себя? Как бы то ни было, она не испытывала праха. Когда она отняла руки от лица, на нем видны были следы слез, на нем было выражение горя и тоски, но страха и сомнений не было.


