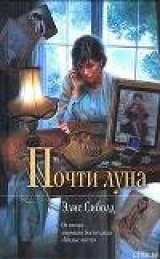
Текст книги "Почти луна"
Автор книги: Элис Сиболд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
ЧЕТЫРЕ
Джейка я встретила, учась на первом курсе колледжа. Мне было восемнадцать, ему – двадцать семь. Он преподавал нам историю искусств.
Он говорил, что может точно указать миг, когда его сердце начало беспомощно чертить курс к моему паху.
Во время лекции о Караваджо и концепции потерянной работы он отвернулся от доски и увидел, как я тереблю свои новые очки. Словно живого богомола, я держала их за тонкую золотистую оправу, казавшуюся ужасно незнакомой и изящной.
– Той ночью ты мне приснилась. Я вошел в спальню и увидел тебя. Ты сидела и читала в своих тонких золотистых очках и облаке длинных черных волос. Когда я потянулся к тебе во сне, ты исчезла.
– Извини, – выдохнула я, плотно прижатая его телом к двуспальной кровати в моей студенческой спальне.
– А потом вместо тебя возник пес, которого я назвал Танком и которого родители не разрешили оставить.
– Гав! – дурашливо тявкнула я.
Но я не знала о его снах до первого позирования ему.
На мне было розовое шерстяное платье, мохер мягко касался кожи. Я облачилась в лучший наряд, только чтобы дойти до комнаты в корпусе искусств, пахшей раскаленной спиралью древнего электрического камина, и раздеться. В конечном счете мои сорочка и нижняя юбка оказались в руках Джейка, помогавшего мне одеваться, чтобы мы могли вернуться в мою спальню и снова раздеться. Его пальцы, широкие, точно шпатели, были способны на невероятную нежность, но когда они протянули мне атласный топик и сорочку, то показались странно чужими – обгрызенные ногти, черные от угля и краски, выглядели грубыми на фоне кружевной отделки, на которую я запала в «Маршалл Филд».[14]14
«Маршалл Филд» – сеть универсальных магазинов.
[Закрыть] После я часто связывала их образ с утратой девственности.
Когда настало время разрисовывать первую спальню Эмили, Джейк вспомнил ослика, которого дедушка нарисовал на стене его собственной детской. Верхом на ослике ехал смуглый мужчина с грубыми чертами, а через спину животного была перекинута большая двойная корзина с цветами. Больше всего Джейку запомнилось то, что, несмотря на удила во рту, ослик, казалось, улыбался и глаза его были закрыты, словно он спал на ходу.
Пока Эмили лежала, свернувшись, во мне и время от времени пиналась, Джейк приступил к рисунку – набросал эскиз углем на стенах. Мы еще не были женаты и отказывались признать, что оба втайне боимся, как бы свадьба не стала ошибкой.
– Говорят, лучше всего большие разноцветные фигуры, – наставлялая. – Они стимулируют мозг ребенка, но не перегружают его.
Джейк перетащил наш матрас на середину комнаты, так что я могла лежать на нем и излагать подобные теории, пока он рисовал. Он помешался на размере моего живота – того, как Эмили объявляла о своем присутствии, дюйм за дюймом.
– Безграничная власть, – сказал он, прижав руку ко мне. – А ведь ребенок еще даже не здесь. Иногда мне кажется, он глумится над нами.
– Так и есть, – сухо подтвердила я. – Округлые края успокаивают ребенка.
Я читала вслух из книги, которую прислал мистер Форрест.
– С чего это мы вдруг начали следовать правилам? – удивился Джейк.
– Ладно. – Я бросила книгу на пол, она проехала несколько футов и замерла. – Зазубренные края радуют ребенка.
– Умница.
– Ножи, пистолеты и картины насилия ведут ребенка в царство сна.
Джейк плюхнулся на матрас рядом со мной.
– Лиззи Борден[15]15
Лиззи Борден – школьная учительница из Новой Англии. В1892 году была обвинена в жестоком убийстве отца и мачехи, но оправдана судом присяжных.
[Закрыть] – любимый персонаж ребенка. Почему бы не доставить младенцу радость и не нарисовать ее всю в крови?
– Продолжай, – попросил он.
– Обитые стены в детской, если понадобится. Вощеный ситец – то, что надо. И гвозди. Много гвоздей.
– Я хочу тебя, – прошептал Джейк.
– Ничья.
После нашей свадьбы то недолгое время, что я притворялась, будто люблю готовить, я отрезала белый жир от скользкой цыплячьей грудки и распластывала мясо по лотку для курицы, лишь чтобы представить, будто держу сердце матери. Таращась в окно дома, который мы снимали в Мэдисоне, и видя уходящую от кампуса линию машин, освещенную огнями светофора, я видела линию гудящих крупинок в артерии. Вернуться в реальность и засунуть цыпленка в духовку мне помогало лишь знание, что одна из машин едет во временный корпус факультета, где находится мой муж, и что он скоро будет дома.
Я всегда тщательно мыла нож и разделочную доску, а руки держала под струей горяченной воды, пока они не краснели: так боялась отравить Джейка или случайно коснуться ободка бутылочки Эмили или голубой плошки с яблочным пюре.
Убедившись, что вымыла и высушила всю утварь, а ароматы специй, выбранные среди запасов пожалевшей нас профессорской жены, начали заполнять кухню, я вознаграждала себя походом в комнату Эмили. Там я сидела и ждала, пока моя новая семья вновь оживет с приходом Джейка. Эмили лежала в колыбельке, лицом вниз, в позе мертвеца, которую любила больше всего. Подгузник торчал сзади, точно плохо сделанная бумажная шляпа. В эти короткие промежутки между сном ребенка и приходом мужа, в тишине, я отдыхала лучше всего от обязанностей жены, что выполняла, как умела. Школа тогда казалась чем-то бесконечно далеким, а до так и не полученного диплома мне совершенно не было дела.
Набирая номер, я повернулась спиной к телу матери. Почему-то она не вызывала у меня доверия. Казалось, стоит мне оглянуться, ее труп будет сидеть, поносить меня и одергивать юбку.
В газете я читала, что Эйвери Бэнкс, один из последних помощников-аспирантов Джейка в Мэдисонском университете, в настоящее время – адъюнкт-профессор и преподает скульптуру в Тайлере, Филадельфия. Я постаралась сообразить, в каком же городке, если верить статье, он и его жена купили дом. У него было двое детей – две девочки, – но, чтобы найти его, мне придется побывать в беспорядочном аду справочных столов. Три попытки не увенчались успехом. Наконец запись нашлась в Джермантауне.
– Это Эйвери Бэнкс? – спросила я, услышав голос в трубке.
– Сперва позвольте узнать, кто вы.
– Хелен Найтли.
Я легонько касалась пальцем цифр на корпусе телефона и считала в уме, чтобы успокоиться.
– Я не знаю никакой Хелен Найтли, – сказал он.
– Вы Эйвери или нет?
Он молчал.
– Вы знали меня как Хелен Тревор, жену Джейка Тревора.
– Хелен?
– Да.
Хелен, чертовски рад, что вы позвонили. Как поживаете?
– Мне надо поесть.
За часы, прошедшие после того, как я пришла к матери и убила ее, я ничего не съела.
– С вами все хорошо, Хелен?
Почему-то представлялось, как он стоит у телефона, а на лице – лыжная маска. Эйвери предпочитал полностью экипироваться, когда выходил на мороз с Джейком.
– Нет, не все, – ответила я.
Мне хотелось рухнуть на пол, проболтаться кому-нибудь, что я натворила, где нахожусь, что лежит рядом со мной на полу.
– Подождите минутку, Эйвери.
Я резко обернулась, положила трубку на заклеенный высокий стул и подошла к телу. Слава богу, она не пошевелилась. Даже не дернулась. Я вернулась к телефону и включила свет, прежде чем снова взять трубку. Миссис Левертон уже должна спать. А со светом как-то спокойнее. Пока флуоресцентное сияние с жужжанием оживало над головой матери, я глубоко вдохнула и собралась с мыслями. Не нужно, чтобы он услышал дрожь в моем голосе.
– Мне нужно связаться с Джейком, – сказала я.
– Я давно не говорил с ним, – ответил он. – У меня есть его номер, если хотите.
– Хочу.
Эйвери назвал номер, и я методично повторила его. Код был мне незнаком.
– Спасибо. Я вам очень признательна, – поблагодарила я.
– Осмелюсь сказать, Хелен, что Джейк остался без бессрочного контракта не по вашей вине. Я всегда боялся, что вы, возможно, корите себя.
Я вспомнила его в нашей гостиной в Мэдисоне, когда Джейк собирал вещи. К белому пикапу мой муж нес коробки, а Эйвери – подержанную плетеную колыбельку.
– Сара, наша младшая, – джазовая певица в ночном клубе в Лондоне, – солгала я. – Она вполне довольна жизнью.
– Чудесно.
Повисло молчание, которое никто из нас не спешил нарушить.
– Еще раз спасибо, Эйвери.
– Удачи.
Он отключился, запищали короткие гудки.
Я закрыла глаза и держала телефон у уха, пока не раздался голос, сообщающий, что трубка снята с рычага.
Висконсин. Я выхожу из-за ширмы деревьев, которые окружали ледяного дракона Джейка. Все профессора колледжа собрались посмотреть на него, пока не наступила оттепель, даже декан. Я разрушила дракона, случайно сломав прозрачный гребень на его спине. Позже в тот же вечер началась ссора, разлучившая нас.
Внезапно я не смогла представить себя звонящей ему.
Пальцами нашарила на стене выключатель жужжащего света. Снова встала на колени, чтобы заняться делом, и с влажной губкой в руке зависла у края нижнего белья матери.
Я стащила вниз старомодные кальсоны. Эластичная ткань на обеих штанинах протерлась до дыр. Запах – смесь фекалий, нафталина и капельки талька – уже стал привычным.
Чтобы снять с нее трусы, пришлось их порвать. При этом тело чуть колыхнулось. Я подумала о бронзовых статуях, которых художники отливают похожими на людей, занятых повседневными делами. Бронзовый гольфист встречает вас на поле. Бронзовая парочка сидит на одной скамейке с вами в городском парке. Два бронзовых малыша играют в чехарду на лужайке. Это стало кустарным промыслом. «Женщина средних лет срывает трусы с мертвой матери». По мне, так прекрасно. Ее могли бы заказать для школьного двора, куда выбегают ученики, посвятившие все утро числам и словам. Они могли бы карабкаться на нас на переменах или топить мух в лужицах росы, собравшихся в глазах матери.
А вот и она, дыра, что подарила мне жизнь. Щель, которая сорок лет поглощала таинство любви отца.
Я не впервые находилась лицом к лицу с материнскими гениталиями. В последние десять лет мне приходилось быть официальной клистирщицей матери. Она ложилась, принимала позу, не слишком отличную от нынешней, а я массировала ей бедра, уверяя, что больно не будет, и раздвигала ей ноги. Я работала быстро, выполняя распоряжения врача. В одиночестве спускалась по лестнице, как робот, шла к холодильнику, сметала недоеденные кубики лимонного желе и глазела в окно на задний двор.
Положив губку обратно в голубовато-зеленый поддон для рвоты, я встала с пола. Вылила грязную воду, налила свежей горячей, выдавила еще мыла. Затем взяла кухонные ножницы с магнитной держалки для ножей над раковиной и снова опустилась на колени, чтобы продолжить работу.
Зеленый ночник над плитой и свет луны, проникающий в окно, были единственными моими товарищами.
Я разрезала ножницами юбку матери, от подола до талии. Развернула ее по бокам. Очень осторожно начала обмывать таз и живот, бедра и практически безволосую щель. Я постоянно окунала ткань и губку в обжигающую мыльную воду и вновь и вновь прерывалась, чтобы сменить ее, мечтая о ванне в сарае, о месте, где мы могли бы лежать вместе, словно я снова дитя, а она заходит за моей спиной в воду.
Наконец, смыв все следы ее неприятности и достав новую губку с холодильника, где хранились запасные, я расстегнула свободную хлопковую блузку матери. Отрезала лямки ее старого серовато-бежевого лифчика. Выжала чистую воду из губки на грудную клетку.
Без поддержки лифчика единственная грудь матери стекла так далеко на сторону, что сосок почти касался пола. Шрам после операции, некогда темный разрез, был теперь лишь сморщенной ниточкой плоти.
– Я знаю, что ты страдала. – Поцеловав кончики своих пальцев, я провела ими по шраму.
Я, наверное, была подростком. До смерти отца оставалось еще много лет. Много лет до того, как мать вызвала меня пощупать уплотнение у себя в подмышке. Я стояла в двери и смотрела на родителей.
– Ты знаешь, как мне тяжело, – говорила мать отцу, слезы текли по ее лицу. – Только ты знаешь.
Она расстегнула блузку и распахнула ее перед ним. «Клер!» – выдохнул он.
Она протерла себе грудь до крови. Я всегда полагала ее действия взрослой версией «слабака», игры, которой мы баловались в школе. Кто-нибудь из ребят проводил двести раз по внутренней стороне твоего запястья. Если ты не в силах был терпеть после того, как появлялась ленточка крови, то выкрикивал: «Слабак!», и так тебя потом и звали.
– Принеси матери теплое полотенце, – велел отец, и я кивнула.
Достала ключ от бельевого шкафа из тайника, вынула чистое полотенце и пустила воду в ванной нагреваться.
Шрам от того, что Джейк называл ее «мученическим стигматом», я не собиралась ни обмывать, ни трогать.
Я подняла ее руки и вымыла безволосые подмышки. Обмахнула губкой плечи. Просунула свободную руку под стекшую одинокую грудь. Некогда мать с гордостью несла ее и ее соседку, теперь же она превратилась в непарный мешочек весом с комок перьев, сбившийся в обвислом углу старой подушки. Прилив вожделения, чистого, как голод младенца, накатил, пока я держала ее.
Розовые шпалеры позади нашего дома буйно ветвились и цвели, когда мне было лет шесть или семь. Шпалеры окружали оба маленьких окошка моей спальни, так что в разгаре вёсны матери приходилось искусно подстригать цветы и побеги. Я любила наблюдать за этим занятием, и отец тоже, как я позже поняла. Они вместе пришли ко мне в спальню. На руке у нее висела корзина. Внутри лежали секатор и рабочие перчатки.
– Смертельный номер под куполом цирка, – произнес отец, и оба подошли к первому окну над пустой двуспальной кроваткой, стоявшей рядом с моей.
Я лежала на мягком брюхе матраса и смотрела, как отец глядит на мать, которая наполовину высунулась из окна. Окно отрезало ее голову, кисти, руки и плечи, затем она высунулась еще дальше, выгнув спину и прижав бедра к подоконнику, и отец придержал ее, похотливо, как я понимала уже тогда. Время от времени он проводил рукой по ее бедру. Раз или два мне показалось, что я различила в ее голосе улыбку, а не только увещевание.
Снаружи донеслось шуршание листвы, затем низкий кошачий рык. Шалунишка отгонял другого кота от границы наших владений.
Я снова встала и подошла к кухонной раковине, чтобы вылить воду и набрать новой. А сколько неприбранных тел разбросаны по улицам и полям Руанды и Афганистана. Тысячи сыновей и дочерей хотели бы оказаться на моем месте. Знать точное время смерти своих матерей и оказаться наедине с их телами до того, как вломится мир.
От деревьев рядом с рабочим сараем доносился прерывистый мяв. Когда я была маленькой, к нам во двор прилетала полосатая неясыть и садилась на дуб. Отец, взяв меня на закорки, вставал во дворе и ухал сове. Если смеркалось, а мы не шли домой, мать присоединялась к нам с лимонадом для меня и неразбавленным виски для себя и мужа.
Надо закончить поскорее. Зазвонил телефон, и я уронила поддон. Горячая мыльная вода расплескалась по полу.
– Алло? – тихо сказала я, словно в доме все спали.
– Ты здесь!
– Джейк, – удивилась я, – как ты узнал?
– Я не смог дозвониться к тебе домой, а номер твоей матери еще записан у меня в книжке. Как поживаешь?
Тело матери почти светилось в темной кухне.
– Хорошо? – предположила я.
– Эйвери только что позвонил мне. Он сказал, что у тебя, возможно, неприятности.
– И ты позвонил сюда?
– Казалось разумным начать отсюда, – ответил он. – Что случилось, Хелен? Что-то с девочками?
– Моя мать умерла.
На другом конце линии повисло молчание. Он вместе со мной боролся с ней все восемь лет наших отношений.
– Ах, Хелен, мне ужасно жаль.
Я обнаружила, что не могу говорить. Только громко сглотнула.
– Я знаю, как много она для тебя значила. Где ты?
– Мы на кухне.
– Кто – мы?
– Мать и я.
– О господи! Ты должна кому-нибудь позвонить, Хелен. Что случилось? Ты должна повесить трубку и набрать девять-один-один. Ты уверена, что она мертва?
– Абсолютно.
– Тогда набери девять-один-один и сообщи об этом.
Мне хотелось бросить трубку и вернуться в ничто, в котором я только что пребывала, в котором никто ничего не знал и мы с матерью были наедине. Непросто сказать то, что предстояло сказать.
– Я убила ее, Джейк.
Молчание было достаточно долгим, чтобы мне пришлось повторить:
– Я убила свою мать.
– Опиши, что ты имеешь в виду, – сказал он. – Расскажи мне все, и помедленнее.
Я рассказала Джейку о звонке миссис Касл, о миске «Пиджин-Фодж» и о маминой неприятности. Когда я произнесла «с ней случилась неприятность», он остановил меня и с надеждой в голосе переспросил:
– Какая именно неприятность, Хелен?
– Она непроизвольно облегчилась.
– О господи. До или после?
– А потом назвала миссис Касл сукой и начала орать, что люди у нее воруют.
– А они воруют, Хелен?
Его голос осторожно уводил в смежное помещение, где мог обитать здравый ум.
– Нет, – ответила я. – Она лежит прямо передо мной на полу. Я сломала ей нос.
– Ты ударила ее?
Я понимала, что шокировала его. Прекрасно.
– Нет, надавила слишком сильно.
– Хелен, ты сошла с ума? Ты слышишь, что говоришь?
– Она все равно умирала. Весь последний год она сидела и умирала. Разве лучше, если бы ей пришлось отправиться в богадельню, лепетать и сдохнуть в луже собственных испражнений? По крайней мере, я забочусь о ней. Мою ее.
– Ты – что?
– Я на кухне, мою ее.
– Минутку, Хелен. Только никуда не уходи.
Я слышала возню собак Джейка. Эмили сказала, что всякий раз, когда навещает его с детьми, всю следующую неделю Дженин лает как собака.
– Хелен, послушай.
– Да.
– Я хочу, чтобы ты прикрыла тело матери и оставалась дома, пока я не приеду, хорошо? Я найду кого-нибудь присмотреть за собаками и позвоню тебе из аэропорта.
– Миссис Касл придет утром.
– У нее есть ключ?
– Вряд ли. Несколько месяцев назад сюда вломился парень, который делает мелкую работу по дому. Мы сменили замки, и, думаю, миссис Касл так и не получила новый ключ.
– Хелен?
– Да.
– Внимательно меня послушай.
– Хорошо.
– Никому больше об этом не говори и никуда не выходи. Сиди в доме со своей матерью, пока я не приеду.
– Я не глухая, Джейк.
– Ты только что убила свою мать, Хелен.
Псы скулили на заднем фоне.
– Сколько времени там, где ты? – спросила я.
– Еще достаточно рано, чтобы вылететь сегодня вечером.
– Откуда?
– Из Сайта-Барбары. Работаю над одним заказом.
– Для кого?
– В частном владении. Ни с кем не встречался. Хелен?
– Да.
– Сколько у вас градусов?
– Не знаю. Я закрыла все окна.
– Тело еще… гибкое?
– Что?
– Прости. Я хотел спросить, твоя мать уже окоченела? Как давно ты… Извини.
Мгновение мне казалось, что Джейк повесил трубку, но нестройный звон собачьих ошейников разубедил меня.
– Когда она умерла?
– Незадолго до темноты.
– А сколько у вас времени?
Я подняла взгляд на часы.
– Без пятнадцати семь.
– Хелен, у меня второй звонок. Я должен ответить. Я тебе перезвоню.
В трубке раздались гудки. Мне хотелось смеяться.
– У художников суете нет конца, – сказала я, повернувшись к матери.
Кратчайшее из мгновений я ожидала ответа.
Я ждала у телефона и смотрела на нее. Лицо, должно быть, мокрое под полотенцем, и это беспокоило меня. На четвереньках я подкралась к ней. Не глядя, поскольку не была готова увидеть ее лицо, быстрым росчерком запястья сдернула полотенце. И услышала, как она кричит. Зовет меня по имени.
Я вскочила и вылетела из комнаты через задний коридор в гостиную, где мой день начался во второй раз миллион лет назад.
Что я делала до звонка миссис Касл? Ходила по городскому рынку. Купила волокнистую фасоль у пожилой армянской пары, которая продавала всего три сорта овощей из багажника пикапа. Сходила на урок танцев.
Рядом с камином стояла медная урна. Я встала над ней. Жаль, меня не стошнит.
Нелепо рассчитывать на чью-то поддержку. Что может сделать Джейк, сидя в богатом доме за три тысячи миль отсюда? Он принял второй звонок, пока я стояла на кухне со своей мертвой матерью!
«Сама ввязалась, сама и выбирайся».
Когда же это стало моей философией?
Джейк спрашивал меня о температуре, о времени и об окоченении, и, очевидно, его беспокоило гниение. Он высек довольно ледяных скульптур в холодных столицах мира, чтобы знать то, о чем я и не подумала бы. Не могла бы подумать. Я мельком попыталась припомнить сюжет фильма, который смотрела прошлой осенью с Натали. Он вращался вокруг того, было убийство непредумышленным или нет. Я помнила лицо актрисы, ее невинную красоту в тот миг, когда она потеряла самообладание, выступая в суде, но больше я не помнила ничего.
Мать умерла слишком давно, чтобы легко это скрыть, и я сломала ей нос – роковая улика. Теперь, покинув кухню с ее телом, я четче видела, в какой беде оказалась.
У меня никогда не получалось выполнять упражнения Джейка для медитации. Я сидела на крошечной круглой черной подушечке и пыталась тянуть «о-о-о-м-м-м», пока мои ступни и руки колюче покалывало. В голове появлялись и исчезали странные фигуры, словно мозг был популярным кафе.
Я вышла на крыльцо и расставила ноги. Через мягкую влажную кожу джазовок чувствовались соломинки циновки. Я представляла, как рушится старый викторианский дом. Десять раз вдохнула и выдохнула, считая очень медленно и издавая шум, над которым насмехалась на уроках йоги. То, что я намерена сделать, невозможно истолковать превратно. То, что я намерена сделать, не оставит мне пути назад.
Стемнело; цикады гудели в деревьях. В нескольких милях по кромке шоссе тарахтели грузовики. Я знала, что, несмотря ни на что, не смогу остаться сегодня ночью дома. Не смогу часами ждать приезда Джейка. Кроме того, время шло, а он так и не перезвонил.
Я дышала и считала, широко распахнув глаза, смотрела в дом и видела передний коридор, лестницу, что вела в три маленькие спальни, и толстый подбитый ковер, который сын Натали настелил, чтобы предотвратить падение.
– Чтобы с вами не случилось того же, что и с вашим мужем, – довольно глупо заявил Хеймиш.
Он знал о случившемся со слов Натали – что мой отец умер, упав со ступенек из твердого дерева. Я тихо стояла рядом в тот день, кивала и была не в силах заглянуть в глаза матери.
Тело матери вывезли бы из этого дома на каталке, подумала я. Ее бы несли почти вертикально по крутой передней лестнице. Она стала бы очередной одинокой старой дамой, умершей в своем доме. Как печально. Как беспомощно. Как высоко-высоко она забралась бы по кривой людского сочувствия.
Но этому не бывать. Я прослежу.
Войдя в дом, я устояла перед соблазном остановиться в гостиной и вместо этого промаршировала дальше. Мои мышцы затекли от сидения на полу кухни, но, позируя в Уэстморе, я знавала и худшее и умела восстанавливаться. Поднявшись наверх, я взяла простую белую простыню. Затем спустилась, перескакивая через ступеньку.
Старательно не глядя на лицо матери, я встала у ее ног, быстро наклонилась, чтобы прикрыть их, а затем сыграла в игру, о которой сперва Эмили, а потом и Сара умоляли меня, когда я подтыкала им на ночь одеяла. Игру, которую для меня придумал отец.
Мы называли ее «взмах». Я вставала у изножья детских кроваток, зажав концы верхних простыней в руках, выбрасывала их вперед, и они медленно опускались на детские тельца. Особенно Сара была готова играть в эту игру до бесконечности.
«Мне нравится, как воздух разбегается от меня», – как-то раз призналась она.
Для матери хватило и одного взмаха, и двуспальная простыня укрыла ее лицо. Она прилипла к телу почти как призрак. Поспешно я снова упаковала мать в мексиканское свадебное одеяло и в «Гудзон-Бей», словно труп был подарком, который я возвращаю в магазин.
Я встала, вышла в маленький задний коридор и открыла подвальную дверь. Поддерживая мать под мышки, дотащила ее головой вперед до лестницы.
В почти непроницаемой темноте я спустилась на несколько ступенек и замолотила по стене в поисках выключателя. Загорелась голая лампочка у подножия лестницы. Я спустилась до конца. Когда я была маленькая, эта лестница бросала вызов мне и соседским детям. После первых трех ступенек обе стены расступались, а перила, как в них ни нуждались все эти годы, так и не поставили. Хеймиш даже вызвался соорудить их из старых труб, после того как настелил ковер наверху.
«Эта лестница – настоящее гиблое место», – прошептал он мне, когда я отвела его в подвал выбрать за труды одно из старых дедовских ружей.
Но что всегда придавало смысл подвигу спуска в темный подвал, так это гигантский коричневый холодильник. В нем мать хранила жестянки круглых конфет с бренди, запасы шоколадок «Хёрши», завинчивающиеся банки орехов пекан и миндаля, нетронутые рождественские коробки арахисовых козинаков и гадкие, пропитанные хересом кексы с цукатами, которые нам дарили на праздники.
Левертоны раздавали коробки мятных помадок «После восьми». Миссис Доннелсон, пока не умерла, приносила матери окорока.
Окорока отправлялись в особое место – длинный, низкий морозильник для мяса, который гудел справа от лестницы. Мать разбирала на нем белье для стирки и складывала журналы, которые не жалела выбрасывать. При жизни отца по морозильнику для мяса промаршировала целая вереница предметов. Он надеялся, что мать займется прикладным искусством, поэтому на нем стояли корзины с кусками зеленого пенопласта и огромными бутылками из-под дешевого вина, которые она превратила бы в прекрасные террариумы, если бы нашла время. Желуди, конские каштаны, коробки игрушечных глаз и веточки причудливой формы. Речные камешки, отполированные в отцовской мастерской. Необычные кусочки плавника, которые он собирал. И нетронутый клей «Элмере» в экономичной упаковке, который царил надо всем.
Мысль о ружье пришла в голову матери.
– Зачем ему ружье? – прошептала я ей, пока Хеймиш умывался. – Почему не наличные?
– Он взрослый парень, – ответила мать. – Эмили только что родила ребенка.
Но к тому времени как я проследила мыслительный процесс матери и поняла, что это был ее способ указать, что и Хеймиш, и Эмили уже взрослые, поезд безумия отъехал от станции и я очутилась в подвале, показывая Хеймишу стойку с ружьями.
Мы стояли перед морозильником для мяса, парень брал одну винтовку за другой и покачивал в руках, прикидывая вес.
– Я ничего не знаю о ружьях, кроме того, что они крутые, – сказал он.
Я не могла помочь. Просто смотрела, как он вынимает винтовку за винтовкой из деревянной стойки и неумело держит за приклады, словно сорняки с очень толстыми стеблями, которые только что выдернул из земли. Хеймиш, как и Натали, составлял идеальный светлый контраст моей темноте. Пока у нее не появилось довольно седины, чтобы начать красить волосы в чуждый, на мой вкус, оттенок рыжего, Натали была блондинкой, негативом меня, брюнетки. Когда я стояла рядом с ее сыном, то видела карие глаза его матери, слышала ее беззаботный смех.
– Почему она их не продаст? – спросил Хеймиш. – Могла бы кучу денег выручить.
Но я его почти не слышала. Он достал единственный пистолет из войлочного мешочка «Краун ройял»[16]16
«Краун ройял» – канадское виски, выпускается с 1939 г. К каждой бутылке прилагается фирменный пурпурный мешочек.
[Закрыть] и широко расставил ноги, как в ковбойских фильмах. Когда он прицелился в противоположную стену и положил палец на спусковой крючок, я завизжала и схватилась за дуло.
Он не отпустил, и мы столкнулись. Хеймиш схватил меня свободной рукой за правое плечо.
– В чем дело? Ты, похоже, ужасно расстроилась. Что случилось?
С моих губ готовы были сорваться слова, которые я не говорила никому, кроме Джейка.
– Отец учил меня не целиться в людей.
– Я целился в тень от лампы!
Он положил пистолет на морозильник за своей спиной. Погладил меня по щеке, как если бы я была ребенком, а он родителем.
– Все хорошо, – сказал он. – Никто не пострадал.
Меня трясло. Он повернулся, засунул пистолет обратно в пурпурный мешочек и затянул сверху золотой шнурок.
– Я беру его, – сказал он.
При помощи Хеймиша я убрала винтовки, намного более ценные, обратно в крепления. Пистолет лежал на стопке накрахмаленных льняных салфеток, которые я сложила и оставила на морозильнике. Помню, как обернулась и увидела его, представляя тусклый серый барабан, исцарапанную коричневую рукоять; отца, который поднимает его, заряжает и подносит к голове.
Я расположила тело матери так, чтобы, спустившись на три ступеньки в подвал, суметь обхватить ее за плечи и, двигаясь вслепую и нашаривая каждую очередную ступеньку ногой, собственным телом предотвратить ее падение в ничейные земли внизу.
Я вдохнула и постаралась сделать свои мышцы сильными, а не негнущимися. Стащила верхнюю половину тела с края лестницы, спустилась на одну ступеньку, затем на другую. Мать становилась все тяжелее с каждым шагом. Я слышала сквозь простыни сиреневый запах ее волос. Чувствовала, как мои глаза начинают слезиться, но не моргала. Вниз: два, три, четыре, пять. Ее связанные ноги отмечали каждую ступеньку стуком.
Кокон с матерью разматывался. Никаких тебе подоткнутых уголков. Ее вымытые ступни выглянули из простыней на середине лестницы. Мне показалось, что пальцы ног несколько посинели, и я гадала, не играет ли со мной шутки подвальное освещение. Еще шаг. Другой. Я точно знала, что ступенек шестнадцать, поскольку десятки раз считала их еще ребенком. Слева показался гудящий морозильник для мяса. На нем лежала стопка журналов «Сансет», потрепанных запасов миссис Касл, у которой были родственники на Западном побережье. Еще остались бутафорские подарочные коробки от прошлого Рождества, они выстроились рядами во всем своем выцветшем на солнце великолепии лент и бантов. Я представила, как миссис Касл несет их по лестнице, а может, это сделала я. Мать вполне могла приказать мне снести их вниз и положить в огромные пластиковые пакеты, в которых хранила их одиннадцать месяцев в году. Я могла бы почему-либо уклониться от задания. Я могла бы провести отведенное на него время в старом шезлонге из лозы и железа рядом со стиральной машиной и сушилкой, подсчитывая, сколько именно минут в состоянии себе позволить, прежде чем подняться наверх и составить компанию матери.
Пока ей не исполнилось восемьдесят шесть, мать настаивала на использовании подвала. Мысль о том, что она заблудится или будет не в силах подняться обратно, вдохновила меня купить ей сотовый телефон. До тех пор мать преодолевала первые три ступеньки по одной за раз, хватаясь руками за стену и готовясь к самостоятельному спуску. Затем, сжав зубы, поворачивалась и спускалась боком, ступенька за ступенькой. У нее уходило до получаса на то, чтобы добраться вниз, поэтому, достигнув пола подвала, она могла уже забыть, зачем пришла.
Но как отец Натали боялся, что банкомат сожрет его руку, так и она, после того как в восемьдесят шестой день рождения я положила ей в ладонь самый примитивный телефон, перевела взгляд с него на меня и спросила:
– Это что, граната?
– Это телефон, мама. Можешь брать его с собой, куда захочешь.
– Зачем это мне?
– Чтобы всегда быть со мной на связи.
Она сидела в своем кресле с подлокотниками. Я смешала ее любимый напиток «Манхэттен»[17]17
«Манхэттен» – коктейль из виски, сладкого вермута и биттера.
[Закрыть] и надругалась, по ее словам, над ее рецептом сырной соломки.
– Не представляю, как тебе это удалось, Хелен. – Она изящно выплюнула недожеванную соломку в салфетку из-под бокала. – У тебя талант.








