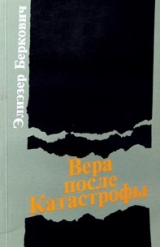
Текст книги "Вера после Катастрофы"
Автор книги: Элиэзе Беркович
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Иудаизм в постхристианскую эру
Экуменизм имеет прямое отношение к евреям, поскольку и их пригласили участвовать во «вселенской церкви» ради общего религиозного наследия. Но что интересно, это приглашение последовало именно тогда, когда христианская эра вступила в период заката. Она началась не с рождения Иисуса; а в первой половине четвертого века, когда Константин Великий провозгласил христианство в качестве государственной религии Римской империи. Молодая религия отличалась воинственностью. Она завоевала Европу не силой убеждения, а мечом императора. Как только христианство окрепло, иудаизм был объявлен еретической сектой и его распространение запретили под страхом смерти. Остальные верования безжалостно преследовались и были вскоре уничтожены. Началось победное шествие христианства по Европе. Перед саксами, франками и другими племенами ставился выбор: крещение или смерть! Тем не менее, многие предпочли умереть. «Cuius regio eius religio»[1][1]
Чья власть – того и религия (лат.)*.
[Закрыть] – принцип, который определял вероисповедание побежденных в религиозных войнах, разрывавших Европу в средние века. После Реформации тем же принципом руководствовались христиане в распространении своей веры по всей земле. Проповедники Евангелия шли по дороге, проложенной быстрым и свирепым мечом Константина. Даже широкая миссионерская деятельность в Азии и Африке стала возможной только благодаря тому, что западные державы силой оружия поработили туземные народы.
Сегодня "золотой век" христианства закончился. Меч Константина попал в другие руки. Его перехватил СССР, коммунистический Китай, миллионы язычников-африканцев, сотни миллионов мусульман, буддистов, индуистов. Христианство уже больше не является решающей силой. Теперь ход мировой истории определяется взаимодействием различных нехристианских цивилизаций.
На изменение соотношения сил на мировой арене чутко откликнулась церковь, особенно римская. Лозунг "Крещение или смерть!" исчез навсегда. Зато более молодые религии, завладев мечом Константина, стали орудовать им не менее умело, чем это делали раньше христиане. Теперь настала очередь более многочисленных преследовать, притеснять, искоренять огнем и мечом.
Именно новое распределение религиозных сил и является причиной появления экуменизма. Это подтверждает провозглашенный недавно Ватиканом принцип свободы совести. В связи с этим вспоминается притча о мельницах Всевышнего, которые мелют медленно, но очень тонко. Парадоксально, что свобода совести существовала в Римской империи в начале правления Константина Великого. В сущности, церковь подтвердила эдикт о терпимости, изданный самим Константином. Но это было до того, как он сам принял христианство. Когда же христианство стало государственной религией империи, терпимость отменили за ненадобностью. Наступила мрачная эпоха инквизиции с ее избиением инакомыслящих, сожжением книг и людей. Но теперь все изменилось. После шестнадцати веков тоталитарного правления церковь готова принять идеалы, которые уже были известны человечеству во времена языческих Греции и Рима. Что уж говорить об иудаизме или Просвещении!
Почему же церковь изменилась? Только потому, что христианство больше не правит миром. Когда церковники говорят о свободе религии, они прежде всего имеют в виду право христиан придерживаться своей веры в коммунистических странах. Когда они провозглашают свободу совести, то подразумевают право церкви на распространение христианства в Азии и Африке среди мусульман, буддистов, индуистов и последователей различных племенных культов. Церковь выступает за терпимость, потому что вступила в постхристианскую эру и старая политика нетерпимости себя изжила. В нашу эпоху нетерпимость может обернуться против самих христиан, поскольку она оправдает агрессивность нехристианских сил, бумерангом ударит по головам сотен миллионов христиан во всем мире. Поэтому экуменизм, официальное дружелюбие к другим религиям и философиям стали практической политикой церкви.
Как же евреи должны относиться к христианству в постхристианскую эру? Прежде всего мы обязаны убедиться, что сейчас действительно наступил закат христианства. Мы должны понять значение этой революционной перемены. Теперь церковь может рассчитывать только на методы убеждения. Все реверансы церкви в сторону евреев и иудаизма следует понимать в свете этих внешних изменений. Сказанное относится и к постановлению Ватиканского Собора о снятии вины с евреев за кровь Иисуса. Церковь была вынуждена его принять, учитывая расстановку сил на мировой арене. Конечно, немало христиан испытывают стыд за страшные преступления, совершенные церковью против еврейского народа. Тем не менее, на Соборе велись серьезные споры по поводу окончательной формулировки. Уже только поэтому ясно, что одно чувство стыда никогда бы не привело к принятию даже такого чрезвычайно сдержанного и дипломатичного заявления.
Понимание ситуации поможет тем евреям, которые находятся в контакте с церковными властями. Часто они выступают от имени всего еврейского народа, хотя их никто на это не упол-номачивал. Пусть же по крайней мере они держатся смело и уверенно, со всем достоинством, которое заслужили евреи шестнадцативековым мученичеством. Первый раз с начала четвертого века евреи могут говорить с христианами, не опасаясь за свои жизни. Пусть же на самом деле это будет свободная дискуссия!
Открытый спор предполагает, что его масштаб не будет ограничен провинциальными рамками христианско-еврейского сосуществования в США. Его значение не должно раздуваться ради дешевых политических соображений. Это вселенский диалог, достойный мессианской истории Израиля. В нем наше поколение должно представлять и всех предков, которые страдали в христианских странах, всех тех, кто не появился на свет, так как их отцы и матери погибли в кровавых погромах. Мы должны предстать перед христианами как дети вечного народа, рассматривая историческое развитие "sub specie aeternitatis"[2][2]
С точки зрения вечности (лат.)*.
[Закрыть].
Никогда я еще так остро не чувствовал, что мы в самом деле вечный народ, как в эти дни, когда можно охватить взглядом все века христианской истории. Мы пережили христианство, мы одни знаем, что это значило. Наш долг – правильно оценить значение эпохи, исходя только из нашего опыта. С еврейской точки зрения, итог христианской эры – духовное банкротство. После девятнадцати веков безраздельного христианского правления хладнокровное убийство шести миллионов евреев и среди них полутора миллионов детей в самом сердце Европы, поддержанное преступным молчанием почти всей христианской церкви, включая непогрешимого святого отца в Риме, – это ли не кульминация страшного спектакля! Первый акт затянувшейся драмы европейского еврейства, сыгранной в четвертом веке, прямым путем ведет к Катастрофе двадцатого века. Говорят однако, что нацисты не христиане. Но ведь они – дети христиан. Они – продукт почти двухтысячелетней христианской эры. Они естественно впитали дух нетерпимости, ненависти, зависти и презрения по отношению к евреям, царивший в Европе со времен Константина Великого. Без этого дьявольские планы нацистов не только не могли быть осуществлены, но даже задуманы.
То, что началось шестнадцать веков назад, получило логическое завершение в концентрационных лагерях и в крематориях. Только наш опыт, опыт вечного народа, показывает полный крах христианской цивилизации и религии. Понимание этого и должно определять наше отношение к современному христианству и различным проблемам, возникающим в ходе свободной дискуссии между двумя религиями.
Эдикт Ватиканского Собора торжественно объявил всему миру, что евреи более не проклятый Богом народ и на них не лежит коллективная ответственность за смерть Христа. Неужели, по мнению церкви, мы до сих пор живем в средних веках? Ведь это не кто иной, а христиане веками преследовали евреев, а теперь они снисходят до того, чтобы сообщить миру о нашей возможной невиновности! За этим полупризнанием стоит варварское представление о том, что страдание является доказательством вины. Так, христианские теологи веками серьезно утверждали: утрата евреями родины и всеобщее к ним презрение убеждают, что они действительно проклятый Богом народ, наказанный за предательство Иисуса. Еще в 1947 году это можно было прочесть в учебниках по истории, предназначенных для студентов христианских университетов.
Если какому-нибудь христианину и приходило в голову, что это "доказательство" не слишком убедительно, поскольку не Бог, а люди причиняли евреям зло, он легко мог успокоить свою совесть, применив логику отца Иоанна Хрисостома. Этот ученый утверждал, что все-таки евреев наказывает Бог. Ведь если бы не воля Всевышнего, разве человек мог причинить евреям столько страданий?! Пользуясь той же логикой, инквизиторы бросали подозреваемых в колдовстве в костер или в реку. Если те сгорали или тонули – значит виновны.
Папский эдикт о евреях показывает, как глубоко укоренилась логика Хрисостома в психологии христиан. Но и снятие вины с евреев за смерть Христа – уже прогресс. Правда, нехристианин не обязательно придет в восторг от этого достижения. Он может предпочесть логике христиан учение язычника Сокра-та, который утверждал, что лучше страдать, чем причинять страдания, благороднее самому быть мучеником, чем мучить других. Последователи Сократа склонны считать, что скорее притеснители прокляты Богом, чем притесняемые. В этом вопросе евреи куда ближе к языческой традиции Сократа, чем к христианству. Много столетий назад еврейские мудрецы так толковали слова Коэлета (Екклесиаста) "Бог с тем, кого преследуют": "Если злодеи преследуют праведников, то Бог с теми, кого преследуют; если праведники преследуют праведников – Бог с теми, кого преследуют; если злодеи преследуют злодеев – Бог с теми, кого преследуют; и даже когда праведники преследуют злодеев, Бог с теми, кого преследуют"[3][3]
Мидраш Коэлет раба, 3:19.
[Закрыть]. Творец всегда на стороне преследуемых. И когда после шестнадцати веков угнетения христиане заявляют, что жертвы не виноваты, это не столько оскорбляет евреев, сколько Всевышнего.
Сейчас многие христиане и евреи выступают за еврейско-христианский диалог. Папский эдикт рекомендовал такие контакты для установления "взаимопонимания и доверия". Мы должны проанализировать их целесообразность с разных точек зрения: эмоциональной, философской, теологической и практической. Я убежден, что эмоционально мы еще не готовы вступить в "братский диалог" с той церковью, той религией, которая повинна в стольких преступлениях против еврейского народа. Конечно, есть евреи, только и мечтающие о таком диалоге. Это или лишенные памяти, или те, кто использует подходящий момент для политических спекуляций, или запутавшиеся, бесхребетные евреи, которые не в состоянии оценить значение свободного спора. Для еврейства в целом честный диалог с христианством пока эмоционально невозможен. Большинство еврейского народа еще пребывает в глубоком трауре. Может быть, лет через сто мы будем готовы к такому диалогу. Это, пожалуй, целиком зависит от дальнейшего поведения христиан.
На уровне философской мысли контакт и обмен идеями, конечно, желателен. Евреи знакомы с Бартом и Тиллихом, Маритэном и Габриэлем не меньше чем с Сартром и Радхакришнаном. Но это обычный интеллектуальный обмен, который иудаизм всегда вел со всеми культурами. В еврейско-христианском диалоге нужды не больше, чем в диалоге между евреями и мусульманами, евреями и индуистами. Область мысли универсальна.
Что касается чисто теологического спора, то нет ничего более бесплодного. То, что обычно называют еврейско-христианской традицией, существует только в воображении христиан и атеистов. Для евреев совершенно достаточно иудаизма. В христианстве для них нет ничего нового. Все, с чем евреи могут согласиться в христианстве, взято из иудаизма. Нам незачем обращаться к Новому завету. Все нееврейское в христианстве для евреев неприемлемо.
Многие полагают, что хотя бы Ветхий завет у евреев и христиан общий. Это глубокое заблуждение. У евреев нет "ветхого" завета. Сам факт, что у христиан Тора называется Ветхим заветом, свидетельствует: это для них другая книга. И дело не только в названии. "Ветхость" Торы предполагает, что есть "новый" завет. Но еврейское учение самодостаточно. С его христианской интерпретацией евреи не согласны. Христианин, читая Ветхий завет, видит в нем совсем не то, что видели еврейские мудрецы в Торе. С точки зрения христианина Ветхий завет – это preporatio evangelice – подготовка к "благой вести", к Евангелию, к Новому завету. Христианин вкладывает в термин "иудео-христианский" особый смысл. Для него иудейская традиция означает нечто иное чем для еврея. И библейские патриархи, и пророки воспринимаются христианами совсем иначе. Ведь Бог Авраама не имеет ничего общего с триединым божеством христиан.
Кроме всего прочего евреям трудно поверить в искренность христианской церкви. Так, с одной стороны, Ватикан поощряет "братские диалоги", а с другой – утверждает, что римская католическая церковь – единственно истинная. Да, христиане допускают, что на другие религии падают отблески Божественного света. Но его лучи сконцентрированы, конечно, на католической церкви. Зачем же тогда нужен диалог? Он невозможен, когда один из участников считает, что единолично владеет истиной. Выходит, для христиан "диалог" – только тактический прием, чтобы научить "заблуждающихся" уму-разуму.
В средние века еврейским мудрецам приказывали предстать перед папами, епископами и королями, чтобы защищать свои убеждения на религиозных "диспутах". Церковники выступали в роли судей. Евреи никогда не знали, что для них лучше: победить или потерпеть поражение. Было также принято заставлять евреев слушать проповеди священников, поносящих их традиции. Теперь такие методы "общения" с евреями христианам недоступны. Отсюда и призывы к "братскому диалогу". Но евреи в нем вовсе не заинтересованы. Иудаизм не претендует на спасение человечества. Иудаизм – это единственно возможный путь для евреев. Что касается неевреев, то Тора говорит, что "праведники всех народов имеют удел в мире грядущем". Еврейская религия чужда миссионерства. И нам нет никакого смысла вступать в диалог с религией, по догматам которой все нехристианские народы идут по неверному пути. Такой подход отрицает любую возможность диалога.
Но, может быть, иудео-христианский диалог имел бы практическое значение: наладил бы взаимопонимание между двумя религиями? Дело в том, что в отличие от христиан – сторонников диалога, среди которых преобладают теологи, среди еврейских энтузиастов межрелигиозного общения верующих крайне мало. Трудно ожидать взаимопонимания от столь разных людей, когда отсутствуют интеллектуальная честность и искренность.
Чем больше на такой диалог возлагается надежд, тем сильнее будет разочарование. Впрочем, даже независимо от всех политических причин, мы отвергаем эту идею из этических соображений. Прежде всего она несовместима с исторической правдой. Ведь диалог предполагает какое-то разделение ответственности за трагедию еврейства. Мы будем вынуждены согласиться, что "трения" возникли из-за недостаточного знакомства друг с другом. Будто бы христиане и евреи враждовали, не зная благородных религиозных доктрин друг друга. Конечно, это не так. Конфликтов не было. "Просто" христиане угнетали и преследовали евреев. "Диалог", как понимают его христиане, невозможен, ибо это будет попытка замазать преступное прошлое.
Некоторые полагают, что в наше время, когда религии угрожают воинствующие материалисты, иудаизм и христианство должны единым фронтом выступить на защиту вечных моральных ценностей. Да, людям разных вероисповеданий необходимо объединяться в борьбе за свободу совести, за мир и социальную справедливость. Но в интеллектуальной сфере иудаизм обязан сохранять полную независимость. Более того, союз с христианством для него невыгоден. Как менее догматичный он легче выдерживает натиск секуляризма.
У нас свой путь. Конечно, следует стараться сделать еврейскую философию более заметной в интеллектуальных течениях современности. Нужно показать, что иудаизм не. чуждается сложных проблем нашей эпохи. Если мы обнаружим, что другие религиозные направления поддерживают нашу этическую, интеллектуальную и теологическую позицию, – тем лучше. Если этого не произойдет – мы не будем огорчаться. Перед нами стоят куда более сложные задачи по внедрению иудаизма в жизнь современного общества. Мы должны идти своим путем с верой и надеждой. Ведь мы переживаем один из тех немногих поворотных пунктов в истории, когда чувствуется дыхание вечности. Израиль выжил вопреки всему. Загадочность нашего народа лишь усилилась после возвращения на землю предков, во что евреи верили всегда. Никто не знает, что принесет новая эпоха человечеству.
Но мы, пережившие христианскую эру, ее начало и ее страшный конец, когда в еврейской крови утонула мораль западной цивилизации, мы встречаем ее с надеждой. Мы знаем, что переживем и эту эпоху, ведь евреи – свидетели Самого Всевышнего, вечный народ, вечный свидетель истории.
Глава третья Бог и катастрофа
Брат Иова
Многих евреев Катастрофа привела к кризису веры. «Где был Бог в это время? – спрашивали они. – Как Он мог терпеть страдания миллионов беспомощных людей, среди которых были невинные дети?» Да, вера многих, прошедших лагеря, не выдержала смрада крематориев. И сегодня, через двадцать лет после разрушения последней немецкой фабрики смерти, эти вопросы по-прежнему требуют ответа. Они все больше привлекают внимание по мере того, как ощущение остроты трагедии проходит. Не ответив на эти вопросы, невозможно верить в особую миссию еврейского народа. Но вопрос о роли Бога в Катастрофе можно задать с разной целью. Тот, кто представляет Всевышнего в виде безличной космической силы, равнодушной к индивидуальной судьбе, ищет в молчании Творца лишь подтверждение своей концепции. Я считаю, что к проблеме веры в Освенциме можно подходить лишь с чистыми намерениями. Кризис веры в лагерях мог испытать только тот, кто верил в живого Бога Израиля. Лишь с таких позиций можно вопрошать «Где был Бог?» и даже спорить с Ним.
Этот горький вопрос, исходящий из самого сердца, – потребность веры. В книге Эли Визеля "Ночь" описывается, как немцы вешают маленького мальчика. Кто-то спрашивает: "Где же сейчас Бог?" Этот вопрос правомерен. Не задать его было бы святотатством. Вера несовместима с таким ужасом. Полагающийся на Бога требует от Него справедливости. Верующий не может согласиться с тем, что Бог способен на жестокость. В то же время он знает, что Творец управляет всем, что существует под солнцем. Человек пытается понять механизм Божьей власти. Вопрошать Господа – это наша прерогатива еще с древних времен. Авраам спорил с Богом по поводу Содома и Гомор-ры. Смиренный праведник все же осмелился бросить вызов самому Всевышнему: "Неужели судья всей земли не рассудит справедливо?" Тут нет противоречия. Верующий вопрошает Бога именно потому, что верит. Авраам не мог вынести, чтобы Творец совершил несправедливость. В этом же суть дилеммы Иова. Он страдал не потому, что на него обрушились несчастья, а потому, что поколебался его идеал справедливости. Иов не мог принять аргументы своих друзей не из-за преувеличенного самомнения и не из-за того, что считал себя непогрешимым праведником. Его возмутило, что они защищали зло, доказывая, будто оно и есть справедливость. Сами того не понимая, они оскорбили достоинство Творца, в Которого верил Иов.
Поиск Божьего присутствия в лагерях смерти – в классических традициях иудаизма. К несчастью, в отличие от истории с Иовом Всевышний так и не показал Свое лицо узникам Освенци-ма, и миллионы людей, предоставленных самим себе, испытали беспредельное отчаяние. До сегодняшнего дня теологи спорят о том, что же ответил Творец Иову. Но ясно одно: Бог ему открылся. И Иов примирился с Господом: "Я слышал о Тебе, но теперь я воочию вижу Тебя. И я отказываюсь от своих слов и раскаиваюсь, ибо я прах и пепел"[1][1]
Иов, 42:5,6.
[Закрыть]. В Катастрофу такого не произошло. До самого конца лицо Бога было сокрыто. Миллионы взывали к Нему, но тщетно. Они слышали о Всевышнем, но глаза их видели только прах и пепел, в который превращались они и все, что было им дорого.
В Освенциме на самом деле было два Иова: один в конце концов послушался совета жены и повернулся к Богу спиной, другой сохранил веру до конца, вплоть до дверей газовой камеры. Да, в лагерях уничтожения вера многих сломалась. Но были и те, кто шел на смерть с '"ани маамин!" ("я верю!") на устах. Они не видели Бога, но веру свою сохранили. И отвернувшиеся от Него, и славившие Его до самого конца – святы. Это трудно понять постороннему, брату Иова. Мы обязаны принять в своем сердце и восставших, и смирившихся. Свидетельство не потерявших веру не заставит забыть восставших, но и восставшие не заслонят веривших. Наследие Катастрофы вопрошает в святом восстании и в восстающей вере.
На что может надеяться брат Иова? Он не пытается украдкой увидеть руку Всевышнего, чтобы понять трансцендентный смысл Катастрофы. Понять – это значит принять и оправдать. Он всматривается в себя. Он хочет жить осмысленно, но не делая вид, будто Катастрофы никогда не было. Он знает, что его поколение должно жить и верить, не забывая о Катастрофе. Ему нужно этому научиться. Если он хочет, чтобы его вера была осмысленной, он обязан освободить в своей душе место для непроницаемой тьмы лагерей. Тьма останется, но в ее "свете" он утвердит свою веру. Необъяснимое не будет объяснено, но оно поможет осознать то, что может быть понято человеком. Горе останется, но оно будет смягчено обещанием того, что настанет для Израиля день, когда он сможет продолжить свой вечный путь с уверенностью и достоинством. Может быть, в страшном несчастье откроется нам вселяющая ужас тайна Бога? И когда это произойдет, мы будем знать, что сами в поисках примирения с Ним, успокаивая Его, нашли свое утешение.








