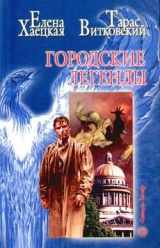
Текст книги "Пришельцы и единороги (Городские легенды)"
Автор книги: Елена Хаецкая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Дым родного очага
Возле самой станции метро, перегораживая подходы к ней, стоял саксофонист. Он был чуть пьян, но развязен совершенно несообразно своему состоянию. Сидевший поблизости, на парапете подземного перехода, старик-бомж поглядывал на него с осуждением.
Вполне приличный саксофон был прилеплен к его рту, как мятая «беломорина», и обращался музыкант с ним соответственно: дул, как ни попадя, отчего и самый инструмент выглядел замусоленным и мятым, сходно со своим хозяином.
Музыки не получалось, но саксофониста это не смущало. Обрывая тему на любой ноте, он набрасывался на прохожих и требовал с них денег. Те брезгливо шарахались и некоторые откупались монеткой, что вызывало у получившего презрение:
– Что, бумажку дать было нельзя?
Женщина, проходившая мимо под руку с мужем, гордо, громко проговорила:
– Я подаю только тем, кто мне нравится!
Саксофонист закричал:
– Нужна ты мне! Больно ты мне нравишься!
Женщина и бровью не повела. Она хорошо знала, что нравится своему мужу. Ее не интересовал какой-то там мятый саксофонист.
– Он монстр, – сказал ее муж. – Измельчавший орк, который явился сюда топтать музыку.
При упоминании о монстрах старик-бомж чуть шевельнулся, двинул бровью и усмехнулся. Этот бомж часто околачивался здесь. Как и многие, он приходил сюда только отдыхать, а попрошайничал где-то в другом месте. Поэтому, видимо, он и позволял себе улыбаться и тем самым слегка разрушать образ несчастного бездомного старца.
Оба супруга уселись чуть в стороне, игнорируя стоны обиженного саксофона.
Это была не слишком молодая супружеская пара – из тех, у которых уже позади первая половина жизни, со всеми ее бурями, скандалами, «зудом седьмого года» и прочими неприятностями. Впереди расстилалась вторая половина – ровная, уютная равнина с купами кудрявых кустов и чудесными шумными рощами, где между корнями деревьев непременно прячется родник.
Они сбежали из дома, от детей, от забот и немытой посуды, – на целых два или даже три часа они удрали, и дети не успели их остановить. Теперь они бродили возле станции метро, намереваясь просто погулять, держась за руки, и выпить пива – наедине, без телефонных звонков, без внезапных появлений ребенка с разбитой коленкой.
В Александровском парке можно встретить немало таких супружеских пар. Здесь старичок со старушкой кушают мороженое, как делали почти пятьдесят лет назад. Изменилось мороженое, изменились даже пролетающие в воздухе птицы – прибавилось чаек и уток, – изменились и сами влюбленные, – но только не восхитительное чувство свободы и любовного свидания. Вот что осталось неизменным и передалось по наследству более молодым завсегдатаям.
И почтенные супруги тянут темное пиво и болтают, как школьники, сидящие после уроков на заборе возле школы, и снисходительно посматривают на молодежь, проносящуюся по парку бесформенными стайками.
Постепенно темнело. Осень дышала протяжно, и листья прилетали откуда-то из глубин парка, чтобы мазануть по ногам и прибиться к разноцветному кудрявому подолу, что вьется возле музыкального киоска. Бессвязная песенка булькает из динамика, и уже появился сумасшедший с невидимой гитарой.
Он был оборван и чумаз, но не это обособляло его от остального человечества: маленькое, изжеванное лицо не оборачивалось навстречу той реальности, которую предлагала обычная жизнь; оно было вечно обращено к чему-то иному, чего прочие не видели.
Широко расставив ноги и заранее исказившись в страдании творчества, он принимался бить кистью руки по струнам, которые могли бы располагаться у него на животе. И хотя струн никто не видел, это вовсе не означало, что их не существует.
Он гримасничал и извивался всем телом, и плоская гитара сильно била его по плоскому животу. Он был из числа тех, кого процесс творчества искажает и обезображивает.
Осень постепенно растворялась в портере и вместе с ним хмельно расходилась по жилам, превращая людей в своих агентов: у них делались осенние глаза, они вели осенние разговоры, и сумерки становились для них хрустальными, ломкими. Все сплеталось в прозрачном синеватом воздухе: голоса и разрозненные музыкальные ноты.
Сумасшедший с невидимой гитарой принадлежал парку, мятый саксофонист был пришлым. Поэтому саксофонист мог стать опасным.
Устав от пустой беготни за прохожими, он бросил инструмент в футляр, бешено огляделся по сторонам и снова увидел тех супругов, что так презрительно прошли мимо него. Негодующе двинув сытым ртом, он двинулся к ним.
Муж встал.
– Ну, – сказал он, сжав кулаки, – что тебе надо?
Было очевидно, что он предвидел такой поворот событий и готовился заранее. Саксофонист произнес несколько бессвязных слов. Он захлебывался от злости.
Женщина с восхищением смотрела на своего мужа. Потом она случайно встретилась глазами с саксофонистом, и тот содрогнулся всем телом: во взгляде женщины появилась скука. Она не боялась, даже не досадовала – просто скучала.
И тут случилась очень странная вещь.
Из полумрака высунулась рука. Длинная, с костлявыми пальцами, поросшими рыжей шерстью. Рука схватила саксофониста за бок. Когти вышли из пальцев и впились в мятый коричневый костюм. На костюме проступили капельки крови. Саксофонист завизжал. Звук был похож на тот, что выдавливался из несчастного саксофона. Затем все пропало: и незадачливый музыкант, и футляр с инструментом, и волосатая лапа.
Сумерки были полны света фонарей, люди шли к станции метро, и часть их оседала возле ларьков, чтобы глотнуть осени перед расставанием.
Старик-бомж по-прежнему сидел на парапете возле подземного перехода возле станции. Задрав рукав своего бесформенного пиджака, он чесал локоть. Затем вдруг расхохотался и быстрым движением пересел поближе к супругам.
Старик-бомж был здешний, поэтому супруги не стали ни возмущаться, ни отходить от него подальше. Скука ушла из глаз женщины. Мужчина снова уселся, разжал кулаки. Ему было досадно за то, что он так сорвался. Как-то несолидно все это получилось.
– И он еще говорит о монстрах! – сказал старик-бомж.
Мужчина уставился на него.
– Вы обо мне?
– Нет, я о монстрах! Вы видели монстра?
– На картинке, – сказал мужчина. – В чем дело?
– Я – монстр, – пояснил бомж. – По вашим меркам, во всяком случае.
И снова скромно почесал руку, после чего опустил рукав.
– Это вы его утащили? – удивилась женщина. И быстро добавила: – Ну, я почему-то так и решила!
– Да, моих рук дело, – сказал бомж. – Говорю вам, я – монстр. Собственно, я не стал бы вмешиваться. Отнюдь. Вы абсолютно в полном состоянии его были изгнать. Но…
– Вы не бомж, – сказал мужчина.
Старик поднял лохматые брови и задержал их в этом положении минут на пять. Собственно, все то время, пока шел разговор, брови его торчали в совершенно неестественном месте, почти под самыми волосами.
– У меня нет своего жилья, – возразил старик. – Нет уж, я бомж. Я вот и в газете читаю…
Он вытащил из кармана мятую газету. Это был «Коммерсантъ».
– Я – часть города, я должен знать, чем дышит город, – пояснил старик. – Я хорошо знаю, кто я такой.
– Вам дать денег? – спросила женщина. Она задала свой вопрос очень просто, поэтому старик ответил ей так же просто:
– У меня достаточно денег. Могу даже угостить вас пивом.
– Это излишне, – произнес мужчина.
Женщина замолчала.
Старик вернулся к первой теме:
– Я бы хотел, чтобы вы отнюдь не неправильно смотрели на проблему монстров. Истинные чудовища могут встречаться. Не следует недооценивать возможность подобной встречи. Ее выгоды и недостоинства. Я хорошо говорю по-русски?
– Для монстра – великолепно, – сказала женщина.
– Тата! – одернул ее муж.
Она поджала губы, метнула в него хитрый взгляд и тихонько засмеялась, отвернув лицо в сторону.
– Не все из нас так хорошо устроены, как я, – сказал старик. Он поднял руку и некоторое время возился со своими бровями, возвращая их на правильное место, ближе к глазам. – Кожа слушается плохо. Особенные мышцы. У меня не хорошо развиты. Требуется тренировка, тренировка! Я прочитал это слово в газете.
Он задумался.
– Здесь я вспоминаю дом, – сказал он наконец, после долгой паузы, и показал на станцию метро. – Дым родного очага. Что-то в такой родословной.
– В таком роде, – машинально поправила женщина. И спохватилась: – Извините!
– Ничего. Я должен практиковаться. Еще одно слово из газеты. Тренироваться и практиковаться.
Станция метро «Горьковская» похожа на перевернутую суповую тарелку. Суп из нее не вылился, а застыл, образуя полукольцо. Там горят огни: внутри станции кипит жизнь, люди покупают жетоны – только ради того, чтобы тотчас расстаться с ними и ступить в совершенно иной мир, где лестницы двигаются вниз, а лампы медленно плывут вверх. Везде тепло и ярко, деловито стучат механизмы, можно сесть и читать, или разговаривать, или купить у поздней торговки букет цветов и глупую книжку в яркой обложке. И поезд услужливо повезет тебя домой.
Старик-бомж показал на станцию рукой, немного более торжественно, чем она заслуживала, и повторил:
– Дым родного очага. Это здесь.
И замолчал, прикрыв глаза совершенно гладкими синеватыми веками.
Это случилось в самом начале шестидесятых, подумал старик. И проговорил, не поднимая век:
– Это случилось в начале ваших шестидесятых… Мы разбились.
Было очень тихо. Негромкая спокойная музыка вечера уже разливалась повсюду, она состояла из множества звуков, которые звучали в таинственном, почти невозможном согласии, – очень большой, непрерывно импровизирующий джазовый оркестр: упорядоченный хаос, производимый талантливыми хулиганами.
– В каком смысле – вы разбились? – уточнил мужчина, потому что старик на мгновение замолчал.
Бомж повернул к нему голову и открыл глаза. Светящиеся голубые плошки повисли в темном воздухе, но это не выглядело страшным. Затем огонек погас – веки снова упали.
– Наш челнок, – сказал старик. – Да, это называется челнок. Я смотрел фильм. В больших магазинах телевизоры стоят возле витрин, и там показывают фильмы. Челнок.
– Еще их называют шаттлы, – блеснула познаниями женщина.
Муж быстро сжал ее руку: он боялся, что старик, если его перебивать, не закончит свою историю. Но этого не случилось.
– Наш большой корабль находился на орбите. Для исследования был направлен челнок. Челнок. Два десятка научных. Так это называется?
– Научных? – переспросила женщина.
Муж догадался:
– Вы хотели сказать – ученых?
– О! Не вполне понятная разница, но хрен с ним – пусть будет «ученых», – обрадованно кивнул старик. – Нам было весьма любопытственно. Мы нетерпенственно ждали соприкосновения с вашей почвой. Земля чрезвычайно симпатичная, если смотреть из космоса. При ближнем рассмотрении – тоже. Весьма. Ее леса раскудрявились и летели к нам навстречу… А потом мы разбились.
Он нахмурился. Некоторое время собеседники явственно слышали только его сопение. Оно становилось все громче, в нем что-то хлюпало, и вообще звук казался обиженным. Затем он оборвался.
Старик заговорил снова:
– Пилот не справился, и мы разбились. Катастрофа произошла в Ленинградской области. Это было начало ваших шестидесятых. Я потом многое узнал о ваших шестидесятых. Я читаю газеты. Я нахожу книги.
– А как вы научились читать?
– Нужда, блин, заставит, – сказал старик. – Кстати, мне очень нравится блин. Я неоднократно покупаю блины в блинных. Дешево и сердито. Научиться читать было нетрудно. Найти книги – тоже. Газеты приклеивают к стенам – очень достохвально. Наш челнок валялся в болоте. Мы пребывали в полном отчаянии. Наше состояние приближалось к катастрофическому, ибо челнок был уничтожен при соприкосновении с почвой при помощи взрыва, и средства связи погибли ко всем хренам! Садить корабль не представлялось никаким возможным, вследствие его аномального размера. Да и как бы он отыскал нас в болотах Ленобласти? Спрашивается?
Он снова замолчал.
Пилот погиб. Погибло еще несколько членов экспедиции. Было очень больно. Конечно, все знали, что полеты на чужую планету сопряжены с немалым риском. Конечно, были готовы к потерям, к возможной смерти. Но – если уж говорить честно! – как можно быть готовым к такому? Разве что теоретически.
Они похоронили погибших. Пытались починить челнок. Потом начали подходить к концу запасы еды, и возникла новая проблема: как не умереть на этой незнакомой планете, которая, по всей видимости, станет их новым пристанищем навсегда?
Они разошлись группами по пять человек. Челнок остался в болоте.
Спустя несколько лет его обнаружили работницы совхоза «Шушары». Доложили секретарю горкома партии.
Секретарем горкома КПСС товарищ Прогудин был в те годы человек буйный, эксцентричный и непредсказуемый. Он был достаточно могуществен, поскольку возглавлял мощную партийную организацию в большом городе и крупной области. Москва далеко не всегда могла дотянуться до него и призвать к порядку. Ленинградские секретари всегда были вольнодумцы и самодуры, это традиционное. Призрак имперского могущества не позволял им жить спокойно. На них давило могучее культурное наследие царской России. Призраки Гришки Распутина и Феликса Юсупова неоднократно посещали их спальню, и наутро там неизменно находили заляпанные кремом бумажки от пирожных-птифуров из Елисеевского магазина.
Узнав о том, что в шушарских болотах застряла самая настоящая летающая тарелка, секретарь горкома первым делом вступил в битву с секретарем обкома и отсудил у него добычу: Шушары, вроде как, еще входили в черту города и находились во власти товарища Прогудина, а не какого-то другого товарища. Затем следовало не допустить появления на объекте военных.
Наши военные сильно завидовали американским военным, которые держали в Ангаре-18 настоящую тарелку и даже сняли про это кино – «Ангар-18». Уж если бы к нашим в руки попала такая штука, не то что кино снять – вообще бы никто ничего не узнал.
А товарищ Прогудин желал заграбастать таинственный предмет и установить его в своем городе на всеобщее обозрение. Заодно и иностранных гостей пошокировать.
В Ленинграде уже начали строить метрополитен. И это была не обшарпанная подземка, как где-нибудь в Нью-Йорке, а настоящие подземные дворцы, почти как в Москве. «Горьковская» же располагалась на трассе, по которой обычно всех иностранных дипломатов возили из всяких там резиденций в Эрмитаж – показывать сокровища имперской России и таким образом давить на нервы.
Если они, проезжая по правительственной трассе, увидят настоящую летающую тарелку, то будут потрясены. И спросят – через переводчика, разумеется:
– Товарищ Прогудин, что это там, по правую руку?
– А, – скажет товарищ Прогудин, – это станция метро «Горьковская». При создании павильона, а также проектировании части подземных сооружений станции наши инженеры воспользовались летающей тарелкой. Дружественные инопланетяне доставили агрегат прямо к совхозу «Шушары». Там безопасная посадка – мягкое болото. А что, в Америке нет летающих тарелок? Даже странно как-то…
И тарелку доставили в Александровский парк и установили так, чтобы ее можно было видеть с правительственной трассы. И в 1963 году открыли станцию для пассажиров.
– У нас наука имеет другое развитие, нежели у вас, – сказал старик своим слушателям. Он помолчал еще немного, подбирая слова, и вдруг улыбнулся совершенно по-человечески, чуть беспомощно: – У меня сейчас больше чувств, чем выражений. Как бы это высказать? Вы для науки считаете цифры и думаете, думаете. Чертите. – Он нарисовал пальцем в воздухе несколько кривых геометрических фигур. – Мы – нет. Мы ждем озарения. И вот одного из нас настигло озарение. Он странствовал в области города Выборг. Он там рабочествовал.
– Работал, – сказала женщина, опять машинально.
Старик энергично кивнул.
– Работал на укладке одной трубы. Там очень странные трубы. Их все время укладывают. Он укладывал ее, укладывал при помощи лопаты, других приборов, и вдруг является то самое озарение. И он понимает, как чинить челнок при помощи туземных материалов. Он обдумывает технологию. Он ее чувствует! Она пронизывает все его сосуды и вены, она входит в кровь, она бьется в голове и глазах, и глаза у него выпучиваются – вот так… – Старик мгновенно выкатил глаза, которые сделались в несколько раз больше, чем были секунду назад, и перестали помещаться в орбитах, а затем медленно втянул их обратно в череп. – Словом, это было истинное озарение, а не иллюзия его, поскольку истинное озарение всегда приводит к временному изменению физиологии. Вы не знали? – Он тихо засмеялся, заквохтал и затрясся всем телом. – Ну! Именно поэтому все озарения должны реализовываться. Иначе они остаются в физиологии озаренного, и он больше не делается прежним. У нас нет ленивых гениев, как у вас. Открытие прет наружу! Нагло, блин, прет!
Он бросает лопату, он бросает работу, он бежит по дороге, он едет по дороге, он возле болота… Но нашего челнока там нет, поскольку полгода назад его забрал товарищ Прогудин! Черт побери его со всеми его кишками! Он в отчаянии, он плачет. Он едет в Ленинград и бродит вокруг станции метро «Горьковская», но – поздно, поздно…
– Какая печальная история, – сказала женщина.
Мужчина обнял ее. Он был с нею согласен.
– Вон он, – добавил старик, кивнув на безумца с невидимой гитарой. – Он никогда далеко от нее не отходит.
Некоторое время все смотрели на гитариста. Он тяжело переводил дыхание – ждал, пока в киоске поставят новую композицию. Иногда специально для него заводили «металл», тогда он неистовствовал: подпрыгивал, тряс головой, бил ногами о землю. И все это – без единого звука. Никто никогда не слышал, чтобы он хотя бы вскрикнул или промычал. И никто не знал, где и как он живет. Он возникал из-под земли с наступлением вечера и приникал к киоску, жадно требуя музыки. Как будто от этого зависела его жизнь.
– Именно, – сказал старик, с кряхтеньем потягиваясь. Он подслушал последнюю мысль женщины. – Его жизнь зависит от этой музыки. Чем отвратительнее, тем лучше. Внутри него гремит какофония. Я предлагал ему вернуться к упорядочиванию труб. Это успокаивает. Трубы, тянущиеся под землей. Но он не может. Гармония сломлена. Озарение претворено в яд. Необратимый процесс.
– А кем были вы? – спросил мужчина. – Там, на корабле?
– Моя научная задача – изучение языков, – сказал старик. – Я исследую социальные связи. Между словами есть связь. Между людьми – тоже. Приблизительно одинаковая сложность. Кое-какие слова предсказуемы. Например, слово «молоко». Слово «водка». Слово «манная». Слово «паровоз». Слово «прогресс». Они всегда ведут себя одинаково. Их поступки можно стабильно предвидеть. Слово «камень». Слово «трава». В них есть надежность. Некоторые считают надежность скучной, но не я. Хотя иногда это утомляет. Слово «скамейка». Слово «кошка». Слово «жопа».
– Боже! – сказала женщина и засмеялась.
Старик посмотрел на нее удивленно:
– Я сказал что-то неправильное?
И, не дождавшись ответа, продолжил:
– Есть непредсказуемые слова и таковые же люди. Но интереснее всего связи между словами и людьми. Между нотами и словами. Связи, – тут его рука снова стала длинной, когти выпустились из ногтевых лунок и медленно царапнули густой ночной воздух, – они как нити тянутся через Вселенную. Я изучаю эти нити. Я наблюдаю за ними. У меня еще не было озарения. Это хорошо для меня.
Он встал и, обернувшись, пристально посмотрел на супругов.
– В свете ее огней иногда видны наши… Если вы присмотритесь с хорошим вниманием, вы начнете их распознавать. Между нашими – другие связи. Между нами и станцией. Но иначе и быть не может, ведь здесь пахнет дымом родного очага…
Он закряхтел и заковылял прочь, и скоро веселое пылание ночных огней станции метро «Горьковская» совершенно съело его.
Бежать среди внезапного тумана
Андрей Степанович Маюр объяснял свою странную фамилию тем, что у его предков были алеутские корни. И действительно, иной раз, кажется, проскальзывало в его наружности нечто совершенно алеутское. Но в обычное время он выглядел довольно заурядным, незаметным человеком: средних лет, среднего возраста, среднего сложения. Серенький.
«Наверное, тяжело быть таким – сереньким, – думала какая-нибудь романтично настроенная девушка, если встречала на своем пути Маюра. – Никто не оборачивается тебе вслед. Никто не вспоминает о тебе. Скользнув по касательной в чужой памяти, ты исчезаешь навсегда».
Для романтично настроенных девушек это казалось ужаснее всего.
Но Маюр не унывал. Он пользовался своей внешностью особым образом.
Дело в том, что Андрей Степанович был ювелиром. Его работа состояла в том, чтобы чинить старинные ювелирные изделия. И не просто чинить, а по-настоящему возвращать их к жизни. Его вызывали в дома и показывали золотые и серебряные обломки, купленные по случаю драгоценные камни – а после просили сделать с этим «что-нибудь».
Андрей Степанович обычно брал вещи в ладонь, снимал очки, сгибался и долго смотрел на несчастные обломки. Так долго, что они начинали согреваться. Затем поднимал глаза и спрашивал: «А фото не оставалось?»
Иногда случалось чудо – вытаскивали портрет какой-нибудь прабабушки с той самой брошкой на груди или с тем самым кольцом, которое – если посмотреть в толстую лупу – кое-как заметно на пальце. Но чаще приходилось довольствоваться только более поздними портретами той самой прабабушки, которая, возможно, и была владелицей предмета.
Андрей Степанович снова снимал очки и наклонялся над изображением. Ему было важно понять некоторые потаенные особенности человека, некогда имевшего влияние на драгоценное украшение.
Затем Андрей Степанович вновь водружал стекла себе на нос и важно произносил:
– Я, пожалуй, займусь.
И преспокойно препровождал серебро, золото и драгоценные камни себе в карман. Он даже не заворачивал их в платок.
Маюр всегда возил их с собой. Он боялся, что могут обокрасть его квартиру. Соседи знали о его работе. А вот заподозрить такого незаметного, бедненько одетого человечка в том, что он держит при себе дорогие вещи, не мог бы ни один карманник. У Маюра за всю его жизнь не вытащили даже десяти рублей.
Новый заказ ему понравился. Он получил это задание позавчера. Квартира, где обломки старинной броши перекочевали в маюровские руки, была совершенно новой – в новом доме, после нового евроремонта, с крашеными шероховатыми стенами и продуманно развешанными в гостиной и прихожей картинами – интеллектуальной мазней какого-то модного абстракциониста.
Хозяин квартиры был невысоким, хрупким, легким – таких Маюр определял для себя как «человек с режущим краем»: он умел держаться властно и, при случае, мог дать понять очень неприятные вещи. В частности, Маюр был подвергнут нескольким быстрым, прямым взглядам, в которых недвусмысленно прочел предостережение: лучше бы ему, Маюру, сделать работу хорошо – и ни в коем случае брошку не потерять!
Маюр криво пожал плечами. Он привык иметь дело с богатыми людьми. Они не страшили его и не вызывали у него зависти. У богатых свои заботы, и Маюр не был уверен в том, что поменялся бы с ними.
– Ладно, – сказал он. – Придется повозиться, но, думаю, сделаю правильно. А фотографии у вас не сохранилось?
– Нет, – сказал хрупкий богач.
Маюр вытянул губы трубочкой и немного пожевал ими. Он не любил, когда не оставалось никаких снимков. Ему постоянно требовались визуальные образы.
– Можно без брошки, – сказал он наконец. – Просто бабушку.
– Не сохранилось бабушки, – тем же тоном повторил заказчик. И снова пустил в Маюра ледяной взор: – Что-нибудь еще?
– Скажите хотя бы, ваша это была бабушка или…
– Возможно, – сказал богач.
Маюр снял очки и стремительно приблизил лицо к лицу заказчика.
Тот отшатнулся.
– Что вы делаете?
– Пытаюсь понять… – пробормотал Маюр. – Не мешайте. Тихо!
Вблизи глаза Маюра пугали: они были очень похожи на рыбьи. Круглые расширенные зрачки плавали в выпуклых глазных яблоках, каждый в своем направлении.
Клиент положил руки на плечи Андрея Степановича. Очень сильные, аккуратные руки. Отодвинул его от себя.
– Я вас убедительно прошу, – сказал он. – Возьмите вещь и уходите. Через месяц я ожидаю получить ее обратно восстановленную. Никаких контактов с вами во время вашей работы я не желаю. Вам ясно?
– Ясно, ясно… – бормотал Андрей Степанович чуть рассеянно. На него мало впечатления произвела эта тирада. – Ну что ж, – со вздохом облегчения выговорил он, отодвигаясь наконец от предмета своего созерцания и шаря вокруг в поисках очков, – конфигурация в общем и целом ясна. Понимаете, мне необходимо осознавать, каким было окружение вещи, какое влияние оказывала на вещь внешность носителя…
– При чем здесь я? – осведомился заказчик.
– Не вы, а ваша бабушка… Я пытался рассмотреть ее в ваших чертах.
– Удалось?
– Нет, – сказал Маюр. – Вы соврали. Вы это либо украли где-то, либо купили.
– Уходите, – сказал богач. – Я утомлен вами. Делайте с этой брошкой что угодно. Сделайте ее под свою бабушку, под чертову бабушку – мне это безразлично, лишь бы через месяц она была у меня годная к употреблению. Я хочу подарить ее женщине. Вам доступно такое желание?
– Какое? – удивился Маюр.
– Желание что-либо подарить женщине?
– Ну… – сказал Маюр. Он никогда об этом не задумывался. Если ему было что дарить и находилась подходящая женщина, то иногда случалось… но нечасто.
– Все. Разговор окончен. Убирайтесь.
Маюр пожал плечами и вышел, забыв попрощаться.
Он долго бродил по городу, пытаясь представить себе ту женщину, для которой предназначался подарок. Какой она может быть? Какая женщина полюбит «человека с режущим краем»? Может быть – тощая, плоская, с мертвыми бледными волосами? Нет, такие вышли из моды и куда-то исчезли с улиц… Теперь по улицам ходят кругленькие особы, весьма ухватистые и аппетитные на вид. Один у них недостаток – коротковатые ноги. Такое вот уродилось племя в нынешней генерации.
Стоп. Маюр, вы – болван, сказал себе ювелир. Разве такой человек, как этот клиент, станет искать себе подругу на улице?
А где он станет искать ее?
Маюр стал размышлять об этом, но скоро у него разболелась голова, и он решил оставить тему как совершенно бесперспективную.
«Сделаю брошку ради брошки», – подумал он. Иногда он становился эстетом чистой воды и начинал исповедовать принцип «искусство ради искусства». Это его забавляло. Хотя клиенты, конечно, ни о чем не догадывались.
Работа заняла у него всего неделю. Он быстро начертил красивый завиток, отдаленно похожий на райскую птицу с длинным хвостом. «Клюв» этой птицы должен был размещаться в начале женской груди, изящный изгиб предназначался для того, чтобы обхватывать соблазнительную выпуклость, а в самой таинственной области, возле соска, будет находиться «хвост» птицы, длинная вытянутая спираль с маленькой сапфировой звездочкой в центре. Сапфир был ценный, звездчатый, именно это обстоятельство и навело Маюра на подобную идею.
Вещь выглядела благородно и заставляла вспоминать о стиле модерн. О времени, когда по Петербургу расхаживали чахоточные террористки и восторженные поклонницы поэтов, а женская ножка, обутая в ботик и случайно завязшая в сугробе, рождала предельные эротические грезы, после которых молодые люди делались бледными и некоторые даже кончали с собой.
Маюр чуть улыбался углами рта, когда рассматривал результат своих стараний. Если уметь читать в линиях вещей – так, как иные умеют читать в линиях рук, – то в брошке таился вызов. Она умела, как всякая интеллигентка, быть абсолютно непристойной. Более непристойной, чем простодушный армейский фельдфебель. Все зависит от того, как носить ее: вдоль груди или поперек. Брошка – сигнал. Если женщина нацепит ее под горлом – о такой женщине лучше забыть: в постели она скучна, в быту невыносима, но хуже всего то, что у нее отсутствует чувство стиля. Почему-то Андрею Степановичу казалось, что его заказчик, «человек с режущим краем», отлично разбирается в подобных вещах и будет ему признателен.
Как всякий художник, Маюр любил лесть. Особенно – искреннюю.
Ясным осенним днем, сунув, по обыкновению, бесценную вещь просто в карман, Маюр вышел из дома. Александровский парк, возле которого он обитал, выглядел так, словно у него начинался бесконечный день рождения: воздушные шарики казались почти ослепительными рядом с синим небом, и замерзшие юные продавцы смеялись ярко и шумно. Дети в пестрых курточках скакали по аллее, курточки раздувало ветром, и оттого дети и сами были похожи на воздушные шарики. Степенно цокали пони с бантиками в гривах – они занимались важным делом, катали девочек и мальчиков. Угрюмая старуха, обмотанная пестрой ажурной шалью, трясла блестящими «раскидайками», мячиками на резиночках, и было слишком очевидно, что нарядные обертки «раскидаек» сделаны из карамельных фантиков. Сегодня старуха как никогда напоминала разбойничью атаманшу из «Снежной Королевы».
Маюр шел, чувствуя невероятную легкость. Он любил такие дни. Он даже остановился возле тележки, чтобы купить чебурек. Рядом с тележкой, возле дерева, уже стоял какой-то человек и ел, и при виде него Маюру еще больше захотелось чебурека.
Тот человек обладал очками, бородкой, тепленькой немаркой курточкой, из которой торчали тонкие ноги, упакованные в тоненькие брючки. Человек не просто кушал, он как-то удивительно глубокомысленно познавал продукт. Откусывал, задумывался, медленно жевал и поправлял очки, словно желал рассмотреть повнимательнее нечто у себя во внутренностях. Ибо там, во внутренностях, происходил глубоко неоднозначный процесс пищеварения.
Вид этого жующего мыслителя завораживал, и Маюр нарочно остановился так, чтобы видеть его. Андрей Степанович считал невежливым просто таращиться, поэтому поглядывал на интеллектуала украдкой.
Сам Маюр не умел поглощать продукты осмысленно и долго. Его чебурек закончился в считанные секунды, и Маюр вынужден был снова двинуться в путь – о чем, впрочем, он ни секунды не сожалел.
Но за эти секунды произошло нечто.
Неожиданно впереди мелькнула женщина. Нечто в ее походке показалось Маюру странным. Он даже не успел еще ничего понять, когда вдруг двинулся за нею.
Она была высокая, в очень короткой юбке. Сейчас такие не носят. Такие носили году в семьдесят втором. Красная прямая юбочка, почти ничего не прикрывающая. Удивительно стройные ноги в сапожках. (Сапожки сейчас тоже не носят, во всяком случае, не такие). Волосы забраны в высокий «конский хвост». Темные, не слишком густые. При каждом шаге «хвост» дерзко покачивается, точно маятник. Время уходит.
Она шла быстро, уверенно, слегка виляя бедрами. Ей идеально подошла бы брошка, неожиданно понял Маюр. И невольно ускорил шаги.
Женщина вдруг обернулась. Он не увидел ее лица, потому что в тот же миг перед ним мелькнуло нечто такое, что заставило его вздрогнуть: у нее на груди была та самая брошь, застегнутая самым вызывающим образом, наискось, с сапфировой звездочкой на чуть выпуклом соске, который явственно просвечивал сквозь ткань белой блузки.








