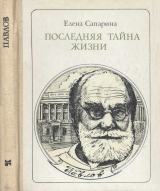
Текст книги "Последняя тайна жизни (Этюды о творчестве)"
Автор книги: Елена Сапарина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Я, конечно, не буду сейчас погружаться в тончайшие психологические исследования об уме. Я ко всему вопросу отнесусь чисто практически. Я опишу вам ум в его работе, как я это знаю по личному опыту и на основании заявлений величайших представителей человеческой мысли…
Что такое научная лаборатория? Это маленький мир, маленький уголочек действительности. И в этот уголочек устремляется человек со своим умом и ставит себе задачей узнать эту действительность: из каких она состоит элементов, как они сгруппированы, связаны, что от чего зависит и т. д. Словом, человек имеет целью освоиться с этой действительностью так, чтобы можно было верно предсказывать, что произойдет в ней в том случае или в другом, чтобы можно было эту действительность даже направлять по своему усмотрению, распоряжаться ею, если это в пределах наших технологических средств. К изображению ума, как он проявляется в лабораторной работе, я приступлю и постараюсь показать все стороны его, все приемы, которыми он пользуется, когда постигает этот маленький уголочек действительности.
Первое самое общее свойство, качество ума – это постоянное сосредоточие мысли на определенном вопросе, предмете… Когда ум направлен к действительности, он получает от нее разнообразные впечатления, хаотически складывающиеся, разрозненные. Эти впечатления должны быть в нашей голове в постоянном движении, как кусочки в калейдоскопе, для того, чтобы после в вашем уме образовалась наконец та фигура, тот образ, который отвечает системе действительности, являясь ее верным отпечатком.
…Припомним хотя бы о Ньютоне. Ведь он со своей идеей о тяготении не расставался ни на минуту. Отдыхал ли он, был ли одиноким, представительствовал ли на заседании Королевского общества и т. д., он все время думал об одном и том же.
Или вот великий Гельмгольц… Он говорит, что когда ставил перед собой какую-нибудь задачу, то не мог уже от нее отделаться, она преследовала его постоянно, пока он ее не разрешал.
Я перейду теперь к следующей черте ума. Действительность, понять которую ставит своей задачей ум, как говорится, спрятана за семью замками, за семью печатями. Она может быть удалена от наблюдателя, и ее надо приблизить, например, при помощи телескопа. Она может быть чрезвычайно мала, и ее надо увеличить, посмотреть на нее в микроскоп. Она может быть летуча, быстра, и ее надо остановить или применить такие приборы, которые могут за ней угнаться, и т. д. и т. п. Таким образом, между нами и действительностью накапливается длиннейший ряд сигналов… И вот ум должен разобраться во всех этих сигналах, учитывать возможности ошибок, искажающих действительность, и все их устранить или предупредить.
Но это лишь часть дела… Что такое наши слова, которыми мы описываем факты, как не новые сигналы, которые могут, в свою очередь, затемнить, исказить истину. Слова могут быть подобраны неточные, неподходящие, могут неверно пониматься и т. д. И вы опять должны остерегаться, чтобы не увидеть благодаря словам действительность в ненадлежащем, неверном виде… И задачей вашего ума будет дойти до непосредственного видения действительности, хотя и при посредстве различных сигналов, но обходя и устраняя многочисленные препятствия, при этом возникающие.
Следующая черта ума – это абсолютная свобода мысли, свобода, о которой в обыденной жизни нельзя составить себе даже и отдаленного представления. Вы должны быть всегда готовы к тому, чтобы отказаться от всего того, во что вы до сих пор крепко верили, чем увлекались, в чем полагали гордость вашей мысли… Действительность велика, бесконечно и беспредельно разнообразна, она никогда не укладывается в рамки наших признанных понятий, наших самых последних знаний. Без абсолютной свободы мысли нельзя увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым выводом из того, что вам уже известно. Позвольте мне привести пример из моей науки.
Вы знаете, что центральным органом кровообращения является сердце, чрезвычайно ответственный орган, держащий в своих руках судьбу всего организма. Физиологи много лет интересовались найти те нервы, которые управляют этим важным органом…
Надо сказать, что человеческому знанию прежде всего дались нервы скелетной мускулатуры, так называемые двигательные нервы. Отыскать их было очень легко. Стоило быть перерезанному какому-нибудь нерву, и тот мускул, к которому шел данный нерв, становился парализованным. С другой стороны, если вы этот нерв искусственно вызываете к деятельности, раздражая его, например, электрическим током, вы получаете работу мышцы – мышца на ваших глазах двигается, сокращается. Так вот такого же нерва, так же действующего, физиологи искали и у сердца…
Нерв, идущий к сердцу, было отыскать нетрудно. Он идет по шее, спускается в грудную полость и дает ветви к различным органам, в том числе и к сердцу. Это так называемый блуждающий нерв. Физиологи имели его в руках, и оставалось лишь доказать, что этот нерв действительно заведует работой сердца…
Почему же так? Действие этого нерва на сердце состоит в том, что если вы его раздражаете, то сердце начинает биться все медленнее и медленнее и наконец совсем останавливается. Значит, это был нерв совершенно неожиданно действующий, не так, как нервы скелетной мускулатуры. Это нерв, который удлиняет паузы между сердечными сокращениями и обеспечивает отдых сердцу. Словом, нерв, о котором не думали и которого поэтому не видели.
Это поразительно интересный пример! Гениальные люди смотрели и не могли увидеть действительности, она от них скрылась. Я думаю, вам теперь понятно, почему от ума, постигающего действительность, требуется абсолютная свобода. Только когда ваша мысль может все вообразить, хотя бы это и противоречило установленным положениям, только тогда она может заметить новое.
И мы имеем прямые указания, идущие от великих мастеров науки, где этот прием применяется полностью в самой высшей мере. О знаменитом английском физике Фарадее известно: он делал до такой степени невероятные предположения, так распускал свою мысль, давал такую свободу своей фантазии, что стеснялся в присутствии всех ставить опыты. Он запирался и работал наедине, проверяя свои дикие предположения.
Крайняя распущенность мысли сейчас же умеряется очень тяжелой чертой для исследующего ума. Это – абсолютное беспристрастие мысли! Как бы вы ни возлюбили какую-нибудь вашу идею, сколько бы времени ни потратили на ее разработку, вы должны ее откинуть, отказаться от нее, если встречается факт, который ей противоречит и ее опровергает. И это, конечно, представляет страшные испытания для человека. Этого беспристрастия мысли можно достигнуть только многолетней, настойчивой школой…
Я отлично помню свои первые годы. До такой степени не хотелось отступать от того, в чем ты положил репутацию своей мысли, свое самолюбие. Это чрезвычайно трудная вещь, здесь заключается поистине драма ученого человека…
Когда действительность начинает говорить против вас, вы должны покориться, так как обмануть себя можно, и очень легко, и других, хотя бы временно, тоже, но действительность не обманешь. Вот почему в конце очень длинного жизненного пути у человека вырабатывается убеждение, что единственное достоинство твоей работы, твоей мысли состоит в том, чтобы угадать и понять действительность, каких бы это ошибок и ударов по самолюбию ни стоило.
Дальше. Жизнь, действительность, конечно, крайне разнообразны. Сколько мы знаем, все ничтожно по сравнению с разнообразием и бесконечностью жизни. И все это должно быть охвачено изучающим умом.
Как в случае с пристрастием ума, совершенно так же и здесь необходимо очень тонкое балансирование. Вы должны, сколько хватит вашего внимания, охватить все подробности, все условия, и, однако, если вы все с самого начала захватите, вы ничего не сделаете, вас эти подробности, обессилят. Сколько угодно есть исследователей, которых эти подробности давят, и дело не двигается с места. Здесь надо уметь закрывать до некоторого времени глаза на многие детали, для того чтобы потом все охватить и соединить…
Идеалом ума, рассматривающего действительность, есть простота, полная ясность, полное понимание. Хорошо известно, что до тех пор, пока вы предмет не постигли, он для вас представляется сложным и туманным. Но как только истина уловлена, все становится простым. Признак истины – простота, и все гении просты своими истинами.
Но этого мало. Действующий ум должен отчетливо сознавать, что чего-нибудь не понимает, и сознаваться в этом. И здесь опять-таки необходимо балансирование. Сколько угодно есть людей и исследователей, которые ограничиваются пониманием. Победа великих умов в том и состоит, что там, где обыкновенный ум считает, что им все понято и изучено, великий ум ставит себе вопрос: "Да на самом ли деле это так?" И сплошь и рядом одна уже такая постановка вопроса есть преддверие крупного открытия…
Но это балансирование ума идет еще дальше. В человеке можно даже встретить некоторый антагонизм к такому представлению, которое слишком много объясняет, не оставляя ничего непонятного. Тут существует какой-то инстинкт, который становится на дыбы, и человек стремится, чтобы была какая-нибудь часть неизвестного. И это совершенно законная потребность ума, так как неестественно, чтобы все было понято, раз мы окружены таким бесконечием неизвестного… Это – ревность ума к истине, ревность, которая не позволяет сказать, что все уже исчерпано и больше незачем работать.
Для ума необходима привычка упорно смотреть на истину, радоваться ей. Мало того, чтобы истину захватить и этим удовлетвориться. Истиной надо любоваться, ее надо любить. Когда я был в молодые годы за границей и слушал великих профессоров-стариков, я был изумлен, каким образом они, читавшие по десяткам лет лекции, тем не менее читают их с таким подъемом, с такой тщательностью ставят опыты? Тогда я плохо это понимал. А затем, когда мне самому пришлось сделаться стариком, это для меня стало понятно…
И вот теперь, когда я ставлю опыт, я думаю, едва ли есть хотя один слушатель, который бы с таким интересом, с такой страстью смотрел, как я, видящий это уже в сотый раз. Про Гельмгольца рассказывают, что, когда он представил, что вся разнообразная энергия жизни на земле есть превращение энергии, излучающейся на нас с Солнца, – он превратился в настоящего солнцепоклонника. Я слышал от Циона, что Гельмгольц, живя в Гейдельберге, в течение многих годов каждое утро спешил в пригород, чтобы видеть восходящее солнце. И я представляю, как он любовался при этом на свою истину.
Последняя черта ума, поистине увенчивающая все, – это смирение, скромность мысли. Примеры этому общеизвестны. Кто не знает Дарвина, кто не знает того грандиознейшего впечатления, которое произвела его книга во всем умственном мпре. Его теорией эволюции были затронуты буквально все науки. Едва ли удастся найти и другое открытие, которое можно было бы сравнить с открытием Дарвина по величию мысли и влиянию на науку, разве открытие Коперника.
И что же? Известно, что эту книгу он осмелился опубликовать лишь под влиянием настойчивых требований своих друзей, которые желали, чтобы за Дарвином остался приоритет, так как в то время к этому же вопросу начал подходить другой английский ученый – Уоллес. Самому же Дарвину все еще казалось, что у него недостаточно аргументов, что он недостаточно знаком с предметом. Такова скромность мысли у великих людей. И это понятно, так как они хорошо знают, как трудно, каких усилий стоит добывать истины.
Вот основные черты ума, вот те приемы, которыми пользуется действующий ум при постижении действительности. Я вам нарисовал этот ум, как он проявляется в своей работе, и я думаю, что рядом с этим совершенно не нужны тонкие психологические описания. Этим все исчерпано. Вы видите, что настоящий ум – это есть ясное, правильное видение действительности…
КИПЕНИЕ СЕРДЦА
«Я вовсе не ученый сухарь», – как-то мимоходом заметил И. П. Павлов. Собственно, и сомневаться-то вряд ли кому из знавших его пришло бы в голову. Никакая пунктуальность, строгая размеренность жизненного уклада никого не могли ввести в заблуждение. Иван Петрович Павлов был очень эмоциональным, живым, увлекающимся человеком. И четкость рабочего ритма, безупречное соблюдение собственноручно выработанного режима были ему необходимы, чтобы держать свой неукротимый темперамент в рамках.
Да и сама наука не была для него только обязательным делом, работой. Это была его страсть, увлечение, бессменная пожизненная любовь.
"Он больше всего в жизни любил свою науку, свою физиологию", – писала его многолетняя сотрудница М. К. Петрова. "Ему незачем было искать развлечений вовне, – вторил ей один из ближайших учеников И. П. Павлова – академик А. Д. Сперанский, – ибо наука удовлетворяла запросы и его ума, и его эмоций. Все виды искусственного возбуждения и аффекты были ему чужды, ибо служили лишь помехой высшей из доступных ему радостей – ясности представлений".
И научные истины он постигал не только холодным рассудком. "Дар его интуиции, – вспоминал ушедший от него в "физическую физиологию" А. Ф. Самойлов, – дар нащупывания, отгадывания истин в области сложных реакций и соотношений организма совершенно исключителен и единствен в своем роде – кажется, что сама истина идет ему навстречу. Мы встречаемся здесь с даром непосредственного, как бы поэтического откровения".
Поэтическое откровение – в строгой науке: возможно ли такое? Принято считать, что наука действует строго логически: наблюдение, гипотеза, экспериментальная проверка ее, окончательно сформулированный закон – таков путь добывания истин учеными. Художник тоже постигает истины, но иначе – интуитивно, непосредственно из жизненного опыта выуживая внутренние связи и аналогии между предметами и явлениями окружающего нас мира.
Но всегда ли ученый действует только логически, а поэт лишь интуитивно? Ведь высказал же великий Гёте в своих поэтических откровениях зачатки вполне научных идей, подробно развитых впоследствии Ч. Дарвином. А один из величайших физиков – Фарадей – открытые им закономерности нашел интуитивно, так как все его понимание физических явлений было основано не на точном знании, а на непосредственном "видении" явлений.
Чувство и разум не разделены стеной. Фантазия, интуиция необходимы ученому не меньше, чем человеку искусства. У Ивана Петровича Павлова эти "поэтические" качества были особенно развиты."…Он, как и Фарадей, способен совершенно оторваться от предвзятых или, во всяком случае, официально признаваемых и общепринятых учений и смотреть, и смотреть на окружающий мир своим открытым взглядом, непосредственно, по-своему воспринимая игру живой природы", – писал один из его давних сотрудников.
Наукой Иван Петрович занимался увлеченно, даже с азартом, внося в лабораторные будни неожиданное оживление. Ставится, к примеру, опыт. Просто дожидаться результатов скучно. Иван Петрович горазд на выдумку: тут же пускает по рукам подписной лист. Каждый должен написать свое предсказание да еще внести 20 копеек. Получилось чрезвычайно интересное и веселое состязание, в котором приняли участие и сотрудники соседних лабораторий.
Иван Петрович вообще обожал всякого рода соревнования. Живя на даче в Силломягах, он организовал велосипедную компанию. И не было для него большего удовольствия, чем в очередной раз обогнать своих более молодых соперников. Грибы и те собирали не просто так, а кто больше. В многолетнем соревновании с профессором Андреем Сергеевичем Фоминцыным Иван Петрович неизменно выходил победителем. Однажды, накануне отъезда в Петербург, тот приходит и заявляет, что вчера напоследок собрал грибов больше рекордного числа. Мог ли Иван Петрович спокойно пережить такое поражение?
Отъезд был отложен, железнодорожные билеты сданы. А профессор И. П. Павлов отправился в лес за своим "101-м грибом". И не успокоился, пока не набрал больше соседа. После чего, умиротворенный, уехал в Петербург.
Он умудрялся устраивать соревнования даже там, где к этому не было никакого повода. Будучи академиком, вздумал состязаться с шофером подаваемого ему "форда": кто окажется точнее. Условие было прибыть на место не раньше и не – упаси бог – позже, а тютелька в тютельку. Втянутый в азартное соревнование, его шофер Андрей Николаевич Потемкин подъезжал к институту чуть заранее и "прятал" огромный лимузин (что было не так просто) за углом, чтобы в нужный момент подкатить ко входу. Где его, конечно же, встречал опередивший на секунду-другую Иван Петрович с неизменными часами в руках. Щелкнув крышкой часов и довольно смеясь, он усаживался в автомобиль.
Отдыху Иван Петрович предавался так же упоенно, как и работе. Лето – все три месяца он не прикасался к делам: надо было "дать летний отдых условным рефлексам". Когда всего один раз академик И. П. Павлов вынужден был провести отпуск иначе, он не преминул пожаловаться на это в письме к сотруднице:
"Дорогая Марья Капитоновна!
Вот уже истекает срок моего отдыха, а я им совершенно недоволен. Во-первых, не было никакого дела, никакой цели, а без этого мне скучно, неприятно. Спорт также не шел. Не было компании для городков, а велосипеда так себе здесь и не нашел. Книги под руками были совершенно пустые. И наконец, купания все время остаются теплые, что мне неинтересно и неполезно. В силу всего этого не занятая ничем голова частенько обращалась к условным рефлексам, и таким образом от них не отдохнул…"
Помимо пеших и велосипедных прогулок, обязательных купаний и чтения, непременным условием отдыха были работы в саду.
Любовь к земле И. П. Павлов сохранил с далеких рязанских времен. Ничто другое не могло ему заменить удовольствия от работы в саду. С ранней весны в городской квартире Павловых появлялись ящики с рассадой. Иван Петрович ежедневно проверял всходы. На даче никому не доверял обрезку кустов, цветы высаживал непременно сам. Срезанных цветов в вазах не признавал: "Это же умирающая природа". Зато обожал цветущие растения на клумбах, особенно душистые левкои. Поливал их, таская воду ведрами. Заложив руки в карманы, подолгу молча смотрел на цветы.
Дорожки в саду и те сам посыпал свежим песком, поднимая его с берега моря по крутому обрыву. "Он любил всякую работу и делал ее с большим удовольствием, – говорила Серафима Васильевна. – Со стороны казалось, что данная работа для него самая приятная, настолько она его радовала и веселила. В этом и заключалось счастье его жизни".
А сам он говорил: "Всю мою жизнь я любил и люблю умственный труд и физический, и, пожалуй, даже больше второй. А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хорошую догадку, т. е. соединял голову с руками".
Устав от "непрерывного думания", Иван Петрович иногда сожалел, что не одарен хотя бы малым талантом лепить или рисовать, чтобы за такой работой отдохнуть от "возни в мозгу". Ему мало было научного дара, необходим был еще и художнический! Разнообразие и разносторонность занятий и наклонностей И. П. Павлова буквально поражают.
Купив для детей атлас звездного неба, Иван Петрович так увлекся астрономией, что позже в своем научном городке под Ленинградом на башне главного здания велел установить телескоп и частенько рассматривал в него звездное небо.
Занявшись коллекционированием бабочек (столовая его квартиры сплошь была увешана плоскими ящиками с жуками и бабочками, пойманными на даче и привезенными знакомыми из дальних стран – с острова Мадагаскар и то был экземпляр), он стал со временем настоящим специалистом-энтомологом; сам выводил бабочек из куколок.
Неутоленное желание рисовать нашло свое выражение в коллекции картин, которые он стал собирать. Стены гостиной большой академической квартиры от пола до потолка занимали полотна И. Репина, В. Сурикова, И. Левитана, К. Маковского, В. Серова, А. Васнецова и других известных художников. Многие – в подлинниках или этюды к подлинникам.
Иван Петрович любил подолгу внимательно рассматривать картины мастеров. Когда болел – просил снять какую-нибудь и поставить рядом с кроватью на стул, чтобы иметь возможность любоваться знакомым изображением вблизи. Очень любил "Золотую осень" и "Над вечным покоем" И. Левитана, "Не ждали" И. Репина. С Ильей Ефимовичем Репиным был знаком лично. "Это Толстой в живописи, – утверждал Иван Петрович, – он понимал крупные душевные переживания".

Если науку И. П. Павлов постигал поэтически, то живопись воспринимал скорее умственно.
Ждал с нетерпением открытия выставок картин, приходил на выставки по нескольку раз, словно не просто любовался, а изучал каждое произведение. Не прочь был поспорить о появившейся новинке.
Когда стал знаменитым, его самого стали рисовать и лепить. Скульптор Сергей Тимофеевич Коненков, живший тогда в Америке, несколько раз встречался там с И. П. Павловым, работая над его бюстом. "Иван Петрович не скрывал своих горячих симпатий к художникам-передвижникам, к древним русским иконописцам, – вспоминал С. Т. Коненков позже, вернувшись на Родину, – одновременно он был большим знатоком эпохи Возрождения, хвалил Тициана и как мастера, и как человека, горячо доказывал, что светлый дух Возрождения никогда не иссякнет, и тут же с присущим ему юмором бичевал всякие "измы" и декадентские "опусы" в искусстве".
Художник М. В. Нестеров, создавший целую серию живописных портретов Павлова, не сразу решился писать его. Все же он "набрался храбрости" и поехал в Ленинград познакомиться с И. П. Павловым. Дверь открыла Серафима Васильевна. Не успел художник поздороваться, как неожиданно и стремительно с громким приветствием появился сам Иван Петрович.
"Целый вихрь слов, жестов неслись, опережая друг друга. Более яркой особы я и представить себе не мог. Я был сразу им покорен, покорен навсегда. Иван Петрович ни капельки не был похож на те "официальные" снимки, что я видел… Иван Петрович был донельзя самобытен, непосредствен. Этот старик был "сам по себе", и это "сам по себе" было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист, во мне исчез страх перед неудачей, проснулся художник, заглушивший все, осталась лишь неутолимая жажда написать этого дивного старика".
И. П. Павлов был изображен художником на его любимой террасе в только начинавших тогда строиться знаменитых Колтушах – научном городке под Ленинградом. И самая трудная задача была заставить "очень подвижного 86-летнего старика сидеть более или менее спокойно".
Пришлось усадить его за стол для беседы с сотрудником. Помощник Ивана Петровича докладывал, а профессор слушал и задавал вопросы. Но так продолжалось очень недолго. Беседа, естественно, становилась все оживленнее. Иван Петрович в разговоре частенько по привычке ударял кулаками по столу.
Так и запечатлел его художник – с этим характерным, чисто павловским жестом, азартно доказывающим что-то невидимому собеседнику. А на столе – разделяющие их цветы. Хотели было поставить любимые И. П. Павловым сиреневые левкои, да куст оказался слишком высок, заслонял лицо. И тогда на стол водрузили низенький белый, "наивно провинциальный" цветок, издревле называемый "убором невесты".
Это был, по общему признанию, один из самых удачных портретов Ивана Петровича (теперь он находится в Третьяковской галерее), передававший живой темперамент "неугомонного старика". И представить нельзя, что он сделан всего за год до смерти И. П. Павлова.
Ему так и не удалось стать стариком: его энергии, молодому задору мог позавидовать любой юноша. В 75 лет он получил от своих сотрудников диплом "мастера городкового цеха", как бессменный глава их институтской команды. И десять лет спустя все так же упруга, несмотря на хромоту после перелома ноги, была его пробежка, точен глаз, сильна левая, главная рука. Все так же восторженно и звонко кричал он, приветствуя удачный удар игрока своей команды.
– Звезда! Звезда!
И так же приходил в неистовое отчаяние и гнев, ежели кому-то случалось промазать:
– Квашня! Да у вас бабий замах! Вас в богадельню, сударь!
Поистине неистощимо было буйство этой многогранной натуры. И вернее всех определила его нрав наблюдавшая полвека за Иваном Петровичем изо дня в день Серафима Васильевна. Она назвала это необыкновенное свойство "кипением сердца".

СТОЛИЦА УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ
В Военно-медицинской императорской академии существовало правило, неукоснительно соблюдавшееся: после 25 лет службы профессора увольняли за выслугою лет. В редких исключениях этот срок продляли еще на пять лет. В 1905 году Иван Петрович Павлов тоже оказался на роковом рубеже. Но для «великого физиолога земли российской» было сделано невиданное исключение. Конференция академии ходатайствовала об «оставлении И. П. Павлова профессором», предоставив определить срок самому Ивану Петровичу.
Так И. П. Павлов остался "пожизненным профессором". Работа его развертывалась все шире. В академии построили новое помещение для его кафедры. Это было красивое двухэтажное здание в Ломанском переулке. Просторный вестибюль, широкая лестница с огромным, выходившим на юг окном.
Бельэтаж занимали лаборатории и операционные. Кабинет Ивана Петровича и аудитория для лекций размещались на втором этаже. В операционной две стены были почти сплошь стеклянные. Она занимала угловое помещение и находилась в стороне от лабораторий. Во дворе построили большой виварий для собак. Все было сделано с размахом, по последнему слову науки. А лучшим украшением кабинета профессора И. П. Павлова была большая фотография "отца русской физиологии" И. М. Сеченова, подаренная его женой. Это был поистине бесценный дар.
"Я в высшей степени рад получить портрет Ивана Михайловича… Кому же, как не ему, начавшему нашу родную физиологию, начавшему ее именно в Академии и оставившему своим ученым и учительским образом в своих учениках неизгладимое впечатление буквально на всю жизнь, занимать первое место на стенах теперешней физиологической академической лаборатории? Этот портрет составит самое лучшее и самое дорогое ее украшение".
Обновленная кафедра физиологии стала лучшей в Европе. Не только по уровню работ, но и по оборудованию. Это признавали сами европейские ученые.
Но павловская мысль обгоняла реальные дела. Ему мало достигнутого. Профессор И. П. Павлов задумал построить совсем особую лабораторию: где бы подопытные животные были полностью изолированы от посторонних звуков, шумов, запахов, отвлекающих их внимание и влияющих на выработку условных рефлексов. Однако императорская казна не располагала средствами для строительства. А принц А. П. Ольденбургский к тому же опасался, что при этом будет испорчен пейзаж вокруг его института.
"Институт должен славиться не своими лужайками и видами, а научными учреждениями, – писал ему в докладных профессор И. П. Павлов. – А я ручаюсь, что проектируемая лаборатория и сама по себе, и тем, что из нее выйдет, немало прибавит к научной репутации нашего Института".
В конце концов принца-попечителя удалось уговорить, но денег-то все равно не было. И тогда Иван Петрович решил обратиться в благотворительное Общество содействия успехам опытных наук, основанное на средства, завещанные купцом X. С. Леденцовым, с просьбой о материальной помощи. Ведь речь шла не о нем самом, а о его любимой науке – тут И. П. Павлов был готов на все.
Он пришел на заседание общества и произнес пламенную речь о необходимости такой новейшей лаборатории. Средства были отпущены, и строительство "башни молчания", как стали ее называть, хоть и неспешно, но началось.
Это была гордость Ивана Петровича. Здесь воплотились все его самые сокровенные мечты. Трехэтажное квадратное здание было окружено глубоким рвом, чтобы его стенам не передавались колебания почвы, "причиняемые проездом экипажей, телег и автомобилей". Внутри оно разделено крестовидным коридором, образующим в каждом этаже по четыре изолированные комнаты. На двух противоположных сторонах к основному корпусу приделаны полубашни, в них – выход во двор и лестница, ведущая во все этажи. Каждая изолированная комната сообщается с этой полубашней, так же как и крестовидный коридор. Таким образом, вход в каждую комнату обособлен. Средний этаж – без рабочих помещений, он лишь разделяет верхний и нижний.
Всех экспериментальных комнат – восемь. В каждой из них в одном из углов устроена камера из особых не проводящих звуков материалов. Здесь находится животное во время эксперимента. Наблюдение за ним ведется из наружной комнаты. Экспериментатор со специального пульта подает разные звуковые и световые сигналы и в окошко наблюдает за их действием на собаку, которая его не видит: она изолирована не только от посторонних помех, но и от самого наблюдателя.
Строительство "башни молчания" удалось закончить только при Советской власти. Денег купца едва хватило на три звуконепроницаемые камеры. Да и те строились чуть не пять лет.
Тем временем Ивана Петровича Павлова избрали академиком Петербургской Академии наук. "С избранием И. П. Павлова наша академия приобретет в свою среду сочлена, которым она может вполне гордиться", – было написано в представлении. Общее собрание академии единодушно подтвердило мнение группы академиков, рекомендовавших профессора И. П. Павлова. Но мало кто знал, что Иван Петрович поставил перед Академией наук определенное условие: следуемое ему содержание выплачивать "молодому талантливому работнику"! – Георгию Павловичу Зелёному, который был им привлечен к работе в академической лаборатории. Лаборатория была так мала и стеснена в средствах, что без этой дотации просто не смогла бы существовать. Лишь при Советском правительстве физиологическая лаборатория Академии наук была преобразована в институт, которому отвели большое здание на Тучковой набережной, где раньше размещался музей Л. Н. Толстого.
Избрание академиком никак не повлияло на образ жизни И. П. Павлова. Как и прежде, он нередко добирался до всех своих – теперь уже трех – рабочих мест пешком или на конке, которую позже сменил трамвай. По Кронверкскому проспекту и Дворянской улице через Сампсониевский мост конка привозила его в Военно-медицинскую академию. В Институт экспериментальной медицины на Лопухинскую он ехал по Каменноостровскому проспекту другой конкой. А на Тучкову набережную ходил пешком.
Домой к нему мог прийти любой сотрудник или студент, ежели находилось дело. Просто в гости по будням к И. П. Павловым не ходили. Гостей принимали лишь по праздникам. Пришедшего по делу радушно встречали, угощали вкусным чаем с ржаным хлебом и украинским салом.
В квартире – никакого богатства (кроме картин): дубовый старомодный буфет, такой же книжный шкаф, тяжелые, литые из металла кровати. Сам профессор одет скромно, без претензий.








