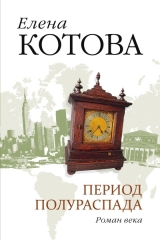
Текст книги "Период полураспада (отрывки из романа)"
Автор книги: Елена Котова
Жанры:
Семейная сага
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Жизнь милосердна и беспощадна ко всем одинаково, только люди разные, силы, цели и ценности у них не одинаковы. История большой русской семьи, которая начинается в дворянском доме в Тамбове, заканчивается спустя столетие среди небоскребов Нью-Йорка, где оказываются два мальчика пятого поколения, едва знакомые друг с другом. Никакого вымысла, все события и имена подлинны, и тем не менее – это не хроники, а уникальное по сюжетным поворотам художественное полотно. Один век, прожитый страной и ее людьми.
***
В отличие от Тани с Ольгой, три младших сестры не опечалились, когда Степан Ефимович, не без влияния Софьи Львовны Стариковой, решил, что ему более не по карману содержать огромный дом на Тезиковой, и, сдав его в наем, семья перебралась в более скромный – на Дубовой. В гимназию они ходили охотно, но без пристрастия к знанию, и усилий прилагали лишь настолько, чтобы переходить из класса в класс, не расстраивая папу и Лизоньку. Лиза, хотя и журила девочек, как подобает матери, за плохие отметки, пребывала в убеждении, что знания – вещь не первостепенная для дворянок, а потому уроки неизменно завершались раньше положенного поцелуями, возней, игрой с собакой и, конечно, музицированием.
– Милка, что же у тебя по французскому в табеле к концу года будет? – одна Маруся относилась к учебе, как и ко всему, серьезно. – Мы с Катей должны тебя подтянуть. Хоть сегодня сделай урок как следует!
– Маруся, ну скажи, зачем мне знать, как по-французски будет «всадник»? Причем тут всадник? Как можно запомнить это слово?
– “Le chevalier”, Мила. Повтори.
– Ну, “le chevalier”, повторила. А запомнить как? Забуду до завтра.
– Мила, это просто, – вмешалась Катя. – Шевалье, это как «кавалер» по-русски.
– Действительно… «кавалер»… “Le chevalier”, «лё кавалер».
– Видишь, как несложно…
Наутро Мила и Катя, сидя вместе за партой с нетерпением ожидали, когда учитель французского вызовет Милу отвечать урок. «Не забудь, «le chevalier», – шептала Катя на ухо сестре, – как «лё кавалер».
– Людмила, ты сегодня приготовила урок?—спросил, наконец, учитель. – Как будет по-французски «всадник»?
Мила встала из-за парты, оправила черный передник и с детским кокетством, прикрывавшим гордость за ответ, призванный поразить не только учителя, но и весь класс, произнесла:
– Лё гимназист…
После классов Катя и Милка отправлялись на прогулки, за которые вечером их корила Лиза: в запретные, и потому самые интересные места. Например, на окраину, где жили семьи железнодорожников, где, побросав ранцы, они играли в мяч с местными мальчишками. Или на рынок – другое запретное для барышень место, куда они пробирались не через главный въезд со стороны Христорождественской улицы, а окольными переулками.
Знаменит был тамбовский базар. В обилии подвод, прибывавших со всей округи, можно было потеряться, и две гимназистки в коричневых платьях с ранцами за плечами, с наслаждением бродили среди изобилия еды, пробовали все, что предлагали им торговцы, глазели на огромные бруски сыра, продававшегося по 25 копеек за фунт, на бочки кетовой икры. Откуда в Тамбове кетовая икра? Об этом девочки не задумывались, но икра, хоть и привезенная из-за тридевяти земель стоила те же 25 копеек за фунт. Четверть молока стоила 10 копеек, а десяток яиц – шесть.
Кое-как сделав уроки, три сестры бежали во двор играть. Такого количества детей, как в семье Кушенских не было ни у кого, и их двор на Дубовой собирал детвору со всей округи.
– Раз, два, три, четыре пять, я иду искать, – закричала Катя и бросилась через двор. Бесхитростная Милка тут же и нашлась за поленницей, но тем временем Николаша, выскочив из-за сарайчика, где хранилась дворовая утварь и упряжи, добежал до кона с криком «палочка-выручалочка». Катя нашла еще двух девочек за кустами, а соседский мальчик, как и Николаша, выручил себя сам. Не было только Маруси. Катя огляделась, перевела с недоумением глаза на ребят: «А Маруся где?» Действительно, все возможные места, где можно было спрятаться, уже обнаружены. Маруся, конечно, из них самая изобретательная, но где она? Всей стайкой прочесали двор и закричали: «Маруся, мы сдаемся, ты где?».
– Я тут, – раздался Марусин голос.
– Где, где ты? –дети ринулись на голос. В углу двора рабочие начали было копать яму, предназначенную стать новой выгребной.
– Тут я, в яме, вылезти не могу, – подняв глаза вверх, объявила Маруся всей окружности детских изумленных глазищ, опоясавшей края ямы и отделявшей ее темноту от белизны облачного неба хохолками волос, косичками и оттопыренными ушами.
– А что делать? – спросила Милка.
– Папе только не говорите.
– Как ты туда залезла?
– Толкалась коленками и залезла, а теперь коленки в землю уперлись и не разгибаются, я и не могу вылезти. Вы мне в ужин поесть принесите, ладно? Только немного, чтобы к утру я похудела и вылезла.
Вечером за ужином Степан Ефимович, обведя глазами стол, спросил: «А Маруся где?» Катя и Милка, переглянувшись, уткнулись носами в тарелку, а Николаша, побледнел. Лиза в тревоге смотрела то на детей, то на мужа.
– Маруся во дворе спряталась…., – пролепетала Катя.
– От кого? – с интересом спросил отец. – Не знаете? Ну что же, тогда давайте ужинать.
– А как же Маруся? – теперь уже пролепетала Милка.
– Поедим и пойдем ее искать, – ответил отец.
После ужина Степан Ефимович послал за рабочими. Те пришли поздно, подвыпивши. Марусю, всю вымазанную, вытащила из ямы Лизонька. Степан Ефимович, заявив, что о наказании они поговорят наутро, велел жене искупать Марусю и уложить всех детей поскорей спать. Больше других случившимся был потрясен Костя: грязная, оборванная барышня, которую лопатами из ямы откапывают пьяные рабочие…
***
Госпиталь размещался в огромном имении, раненных было раз-два, да обчелся. На лето комиссары и врачи, особо ничем не занятые, привезли жен и детей. По вечерам все приняряжались и отправлялись на прогулку по аллеям, раскланивались при встречах, заходили то в один дом выпить чаю, то в соседний… Ирке все казалось праздничным и роскошным, не то, что на даче под Москвой… Хотя на даче было тоже хорошо.
Женщины почти не готовили, в столовой для комсостава готовили прекрасно. Днем они с детьми отправлялись шумной стайкой на реку. Огромная запруда на ней походила на озеро, кувшинки на ней напоминали Марусе Цну в имении Оголиных. По выходным сражались в волейбол, устраивали в лесу пикники.
Ирку поражало несметное количество охраны, часовые на вышках, колючая проволока, протянутая поверх чугунной ограды с оштукатуренными кирпичным белыми колоннами.За территорию госпиталя выходить не рекомендовалось, но Владимир Ильич обзавелся приятелями из местных и «в город», то есть в Воропаево, ходил регулярно.
Лето прошло замечательно, Ирка посвежела, Маруся тоже повеселела, несмотря на то, что Володя то и дело обсуждал с ней неизбежную по его мнению войну, говорил, как неподготовлена к ней армия, какая это нелепость так выдвинуть передовую, «оголить голову перед Гитлером». Не то, что он в силах был держать эти мысли в себе, скорее, считал необходимым подготовить Марусю ко всему.
Маруся ждала, что мужу дадут отпуск хотя бы на Новый год, но этого не случилось. Весь год он по-прежнему писал письма, которые снова Маруся читала по несколько раз сама, а потом вслух дочери и сестрам, к лету снова засобиралась ехать с дочерью к мужу. На этот раз Володя, чьи письма становились все более тревожными, был категорически против. Но Ирка жаждала праздника, да и Маруся рвалась увидеть мужа.
Как и год назад, выехали они из Москвы тридцатого мая, снова поездом, с пересадками. Поезда были почти пустыми, ехали только военные по своим делам. Они поражались, что Маруся едет на запад, да еще с ребенком, повторяя «куда вы едете, не сегодня-завтра начнется война».
Алочку же тем летом впервые отправили в пионерский лагерь Министерства культуры: Соломон, как и прежде, работал на «Мосфильме». С весны на киностудии ввели круглосуточные дежурства старших инженеров. В ночь на двадцать второе июня Соломон был как раз на дежурстве, когда раздался звонок из наркомата... До полудня, пока не услышал речь Молотова, Соломон метался по пустынной киностудии, все еще не веря в происходящее. Катенька одна дома, сходит с ума по дочери. Он не ушел домой, когда кончилась его смена, а дождавшись ночи, велел шоферу киностудии срочно ехать в лагерь.
Грузовик мчался мимо Калужской заставы, мимо Кремля, вверх по проспекту Маркса, к памятнику Дзержинскому и дальше, вверх по бывшей Сретенке к Ярославскому шоссе. Со стороны Замоскворечья уже поднималось солнце, улицы были пустынны, в воздухе разлилась бледная дымка занимающегося летнего дня. Соломон все просил водителя «поднажать», еще неизвестно, как отнесется начальство к тому, что он самовольно распорядился грузовиком. В лагерь они приехали около пяти. Уже кончились первые сутки войны.
Оставив грузовик за воротами, Соломон прошел по пустым аллеям, уставленным гипсовыми барабанщиками, горнистами и пионерками, отдающими салют. Разбудив начальника, точнее командира лагеря, который спросонок не мог понять, зачем приехал отец Наташи Хесиной, объяснил, что хочет немедленно забрать дочь. Командир, мужчина лет тридцати пяти, почесав в затылке, покряхтев и повздыхав, согласился: «Только, прошу вас убедительно, ради бога, тише. Вчера тут такие слезы были, такой крик… Если дети проснутся, вам просто не дадут уехать…». Командир повел Соломона через лабиринт дощатых лагерных корпусов. «Вот ее палата» – сказал он, подойдя к раскрытому окну.
Алочка сквозь сон услышала какой-то родной звук «Фью-фью...». Ля– ре… ля-ре. «Мама», – подумала она, зарываясь лицом в подушку и тут же, поняв, что звук ей не снится, села в кровати, озираясь. Ля-ре… фью-фью. Она подбежала к окну: «Папа?»
– Тише, не разбуди остальных, – приложив палец к губам прошептал отец.
– Что ты тут делаешь? – Алка тоже перешла на шепот.
– Где твои вещи?
– В чемодане, под кроватью, как у всех.
– Быстро неси чемодан…
– Зачем, папа?
– Быстро неси, мы уезжаем.
– Правда? – обрадовалась Алка. Метнулась к своей койке, вернулась к окошку – Пап, держи чемодан.
Отец поставил чемодан на траву и протянул руки к дочери:
– Иди ко мне, доченька. Вылезай в окно.
– Папа, а почему ты свистел? – спросила Алка отца уже в грузовике, который направлялся к городу.
– Чтобы никого не разбудить. Мне разрешили тебя забрать.
– А мама дома? Мне так вчера страшно было, когда сказали, что война. И вообще в лагере мне не нравится. Ты меня насовсем забираешь?
– Насовсем… Слава богу, успели. Я боялся, что если поеду позже, могу и не проехать. Никто не знает, что будет происходить сегодня, завтра.
В воскресенье утром Маруся, Володя и Ирка вышли из дома часов в шесть, с корзинкой для пикника направились через дамбу в лес. Дамба была добротная, широкая, с утоптанной гравиевой тропой, на ней стояли даже стульчики для рыбаков. Погода была изумительная, цвела черемуха огромными роскошными гроздьями… Чувственный сладкий запах. Лес был чудный, это они знали еще с предыдущего года. Долго гуляли, часов в одиннадцать разложили одеяло, мама стала выкладывать из корзинки еду. Ирке все время слышался в воздухе какой-то странный гул. Что с природой творится что-то странное, ей было ясно уже несколько дней. Настроение у всех было плохое.
Они уже три недели жили в Воропаево, и, хотя, в имении, казалось, ничего не изменилось, но гуляния, пикники, волейбол прекратились, обитатели поместья разговаривали друг с другом мало и неохотно. Госпиталь был пуст, раненых не было, врачи, тем не менее, были крайне заняты неизвестно чем, а в довершении всего им меняли форму, как и по всей армии. Начальника госпиталя вызвали в Полоцк, а комиссар куда-то исчез.
Дом, где их поселили, стоял на самом краю имения, неподалеку от озера, впритык к забору. Ирка часами смотрела в щели забора на дорогу, по которой шли толпы людей с сумками, узлами, чемоданами. Гнали гусей, вели мычащих коров. Ирка спрашивала отца, что это за люди, тот отмалчивался, по каким-то причинам не объясняя, что это беженцы с оккупированных Германией территорий Польши.
Все три недели Ирка почти не видела отца, тот был так занят в госпитале, что иногда даже не приходил ночевать. Чем он был занят – госпиталь-то был пуст, – не рассказывал. Наконец, в субботу вечером вырвался, сказав, что выговорил себе выходной на завтра, а это значит – пикник в лесу. Корзинка, непременно корзинка еды и, конечно, – «маленькая поллитровочка, правильно, Маруся?»
– Удивительный в этом году запах у черемухи, да, Марусенька? – произнес Володя, растягиваясь на одеяле.
– Мама, ты чувствуешь? – тихо сказала Ирка, – природа тоже очень грустная.
– Второй час, наверное, нам пора возвращаться, – Маруся принялась складывать в корзинку остатки пикника.
Они шли назад к дому через дамбу, снова мимо стульчиков, которые все еще стояли пустые – ни одного рыбака. Навстречу им по дамбе бежал человек: «Владимир Ильич, война!»
Ирка с матерью остаток дня просидели в домике, отец ночевать не пришел. Ночью Ирка пошла в туалет в саду и видела много самолетов. Кругом стоял оглушающий гул, похожий на тот, что она слышала утром, всё летело на восток. Весь следующий день отца тоже не видели, но в обед прибежал запыхавшийся порученец: «Мария Степановна! Владимир Ильич просил передать, чтобы вы собирались. Вечером будет эшелон с ранеными, вы уедете с ним».
Мама побежала в госпиталь. Ирка видела, как она уговаривала кого-то пойти вызвать Владимира Ильича на крыльцо. Тот смог выйти только на пять минут. Ирка понимала, что мать просит разрешить им остаться, но тот не разрешает. Мать вернулась, и они отправились на вокзал. Эшелон уже стоял, забитый ранеными летчиками, он шел откуда-то из-под Каунаса. Это был первый эшелон, отправлявшийся в тыл после первого дня войны. Маруся с Иркой приткнулись в дверях.
Отца все не было. Никто не знал, когда отправится эшелон. В вагоны продолжали садиться люди, в основном женщины и дети, которых, так же как и их с Иркой, отправляли на восток мужья. Все вокруг кричали и плакали, но Ирке не было страшно, ей очень хотелось есть: они сидели в вагоне уже третий час, а еды мама не собрала, все отцу оставила.
В вагоне под лавками лежали огромные пахучие литовские сыры. Летчики резали их ломтями, угощая Ирку, та охотно ела, а мать стояла окаменев. Прошло, наверное, еще часа два, наконец, прибежал отец. Ирка знала, что поезд не тронется, не дождавшись его.
Отец взял Ирку на руки, подбросил высоко-высоко, как в раннем детстве, и крепко поцеловал. Поставил обратно в тамбур. Мама вышла из вагона, прижалась к отцу. Через пару минут эшелон тронулся, мать легко вспрыгнула на подножку и смотрела на отца, не произнося ни слова, пока перрон не исчез из виду.
Ночь Ирка с матерью просидели на койке в ногах одного из раненых. В вагоне никто не спал, летчики рассказывали, как их накрыли бомбежкой прямо на аэродромах. Рассказы были у всех почти одинаковые: подъем по тревоге на рассвете, они бегут под огнем к своим машинам, а те взрываются одна за другой у них на глазах.
Часа в три ночи поезд встал на каком-то полустанке и долго стоял. По перрону бегал мужик, размахивая кулаками и крича: «Наконец-то их прогонят! Наконец-то и до них добрались!» Поезд двинулся, встал на несколько минут на станции Глубокая – это все еще была бывшая Польша, – потом снова тронулся. Прилетели наши самолеты со звездами, они махали крыльями поезду, чтобы тот двигался быстрее: хотя на крыше вагонов были красные кресты, уже все откуда-то знали, что санитарные поезда тоже бомбят. Вслед за нашими самолетами прилетели немецкие, с черными крестами, и поезд встал. Многие раненые выйти не могли, а те, кто мог, бросились в ров между рельсами и картофельным полем. Мама, лежа на земле, руками прикрывала Иркину голову. Пронеслась армада самолетов, пуская длинные пулеметные очереди. В поезд не попали, ничего нигде не горело, но поезд двигаться дальше не мог, потому что машинист от страха сбежал. Снова прилетели наши самолеты, снова махали крыльями, мол, не стойте, двигайтесь. Эшелон тронулся, часа два или три ехал без остановок, к рассвету доехал до Полоцка, и несколько часов стоял на запасных путях в часе ходьбы от вокзала.
– Не сидите тут, – уговаривали Марусю летчики. – Идите, ищите другой поезд. Что с этим будет – неизвестно.
Маруся с дочерью, нагруженные узлами, двинулись по путям. На вокзале мама добыла воды, они напились и пошли дальше, куда – Ирка не понимала. Дошли до сквера, сели на скамейку, разложив вещи. Над головами все кружили немецкие самолеты с черными крестами.
– Сиди тут, сторожи вещи, а я пойду, все разузнаю, – сказала мама и ушла.
Ирка сидела одна, смотрела по сторонам. В узелке лежал кусок хлеба и кусок сыра. Она загадала, что если она не съест, а дождется мамы, то та придет. День прошел, наступала ночь, к Ирке подошла женщина.
– Ты почему одна? Потерялась?
– Я маму жду.
– Нельзя тебе оставаться тут. Пойдем ко мне, переночуешь.
– Без мамы я не пойду!
– Детка, нельзя ночью одной в сквере…
—… Нет, – закричала Ирка, – не трогайте меня, я никуда не пойду без мамы.
Женщина не отставала, но тут появилась Маруся, и женщина повела обеих к себе ночевать. Дом был забит людьми, и их положили на полу. Ирка начала засыпать, слыша сквозь дрему громкий голос, доносившийся с улицы: «Самолеты приближаются к городу, они будут через три минуты. Уходите в бомбоубежище. Самолеты приближаются, они будут через две минуты….» Никто не поднимался и не уходил. Началась бомбежка, со всех сторон слышались взрывы, но никто не поднялся, чтобы идти на поиски бомбоубежища, ни у кого не было сил.
Утром они с мамой отправились обратно на вокзал. Забрались в товарный поезд, забитый людьми, с двухэтажными нарами, покрытыми коврами. Мама шепотом объяснила, что это эвакуированная «совэлита из прибалтийских стран». На нижних нарах сидели оборванцы, прорвавшиеся в поезд, как и они сами. Поезд останавливался каждые пять минут, потому что бомбежки не прекращались, они добрались до Смоленска уже глубокой ночью.
В Смоленске было ужасно. Пути, забитые поездами, паровозы, включавшие гудки, как только объявляли тревогу. Над всем городом стоял вой сирен, а люди в вагонах кричали: «Не нарушайте светомаскировку, не открывайте двери!» К утру их поезд стал двигаться. На этот раз ехали без остановок довольно долго, Ирка заснула. «Это уже дачи? – спросила она, проснувшись, потому что домики, мелькавшие за окном были похожи на Подмосковье.
Это был Ржев. Хотя поезд ехал дальше, на восток, мама сказала, что они сойдут тут. Как она умудрялась что-то узнавать, какое чутье ей подсказывало? Она понимала, что все эшелоны, скорее всего, гонят в Сибирь или в Среднюю Азию, а им надо в Москву. Только в Москву!
Появился новый товарный поезд, Ирка с матерью заняли место на подножке – поезд был осыпан гроздьями людей, – и долго сидели, пока мать, то ли узнав что-то, то ли по наитию, опять не сказала дочери: «Слезай, придется все же идти на вокзал».
Вокзал в Ржеве выглядел, как будто никакой войны не существовало. Ни криков, ни воя поездов, в залах стояли баки с питьевой водой. Впервые за прошедшие двое суток у Ирки возникло ощущение, что кто-то руководит хаосом. Кругом было много интеллигенции, все, конечно, рвались в Москву. Мама пошла к начальнику вокзала. Прошло еще пару часов, вдруг объявили: «Прибывает эшелон, следующий до Москвы». Поезд пришел пустой, в него тут же ринулись люди, Ирка тоже вскочила со скамейки, стала стягивать узлы.
– Сиди тут, мы не садимся на этот поезд.
Люди, с которыми они познакомились за часы ожидания, уже кричали им из вагонов:
– Идите скорее, мы вам места заняли!
– Мама! Поезд уйдет без нас! Почему ты сидишь?!
– Заткнись, не ори, не смотри туда, – сквозь зубы отвечала Маруся, глядя себе в колени.
Ирка рыдала, а мать лишь повторяла: «Прекрати. Сиди тихо!». Поезд ушел, Ирка давилась слезами. Ей было страшно, наверно, впервые так страшно за прошедшие два дня. Намного страшнее, чем когда они прощались с отцом, и когда она ждала маму в Полоцке.
Вокзал обезлюдел. Ирка рыдала, мать молчала, не утешая ее. Сидела, сцепив на коленях чуть костлявые руки, глядела в пол. Тут подошел обычный пассажирский поезд, полупустой. «Пошли», – бросила Маруся, поднимая с пола чемодан.
В их купе ехал всего лишь один военный. Ирка легла и тут же заснула, а когда проснулась поезд уже подъезжал к Москве.
– Мама, а что с тем поездом?
– Его отправили на восток, чтобы избавиться от людей и разгрузить Ржев.
Военный улыбнулся и протянул Ирке яблоко.
– Тебе сколько лет?
– Девять…, – Ирка грызла яблоко и смотрела в окно. Проехали Новый Иерусалим, Опалиху, поезд катил уже по привокзальным путям.
Было раннее утро двадцать шестого июня, розоватое солнце освещало зеленовато-белое здание Рижского вокзала, Москва была тихой и праздничной. У вокзала стояла шеренга вымытых такси с привычными шашечками. Из радио по площади разносилась песня:
«Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом,
Вся советская земля…
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей…»
Они приехали на Большой Ржевский. Все были дома, тетя Катя, тетя Мила, дядя Мося, Алочка. Поднялся гвалт, их никто не ждал, никто не понимал, как они сумели вырваться из оцепления, в которое уже была взята Западная Белоруссия. Ирка позвонила подружке и втроем с Алкой девочки отправились мыться в душевые возле зоопарка.
***
Море… Какое оно, Виктор никогда не мог себе представить. Эти бесконечные песчаные пляжи… А какие кофейни, если подняться от моря в Майори на главную улицу? Поездка в деревню забылась, он вспоминал Австрию.
Алка уже с трудом носила свой огромный живот. Виктор заботливо устраивал ее в дюнах, куда не проникал зябкий ветер, но сам на месте сидеть не мог. Через полчаса вскакивал и звал Ирку идти гулять вдоль моря. Бесконечность пляжей сводила его с ума. Они шли и шли с Иркой по кромке моря, Виктор, как правило, по воде… Болтая, доходили до Дубулты, а то и дальше. Виктор быстро схватывал загар. Бронзовый, широкоплечий, с выгоревшими золотыми волосами, – все принимали его за истинного прибалта.
Алка смотрела, как Ирка и Витя возвращаются и думала, какая они красивая пара. Она злилась, что Виктор опять оставил ее одну, а сам часами гуляет с Иркой. Савченки-Зайцевы уже дважды приходили всех звать пить кофе, а он все гуляет, красуется перед всем пляжем. Когда же она избавится от этого ужасного живота… От нее отделиться и заживет своей жизнью новая жизнь, и ей не будет жаль этой утраты части себя, она будет радоваться, отпустив свой кусочек на волю…
***
В закусочной ресторана «Прага», как обычно в субботу вечером, было полно народу. Виктор взял пива и сосисок. Три часа назад он отвез Аллочку в роддом имени Грауэрмана, акушерка сказала, что хотя воды отошли, схватки еще слабые. Поев, Виктор побродил по Арбату, поглазел на зверюшек в зоомагазине: больше всего он любил смотреть, как по колесу, стоящему в витрине, бегает белка. Зашел в роддом, там ничего не изменилось. Дома тетя Мила накормила его студнем, он выпил с дядей Моисеем рюмашку и снова отправился в роддом. Акушерка сказала, что все еще идут схватки, отправляла его назад, домой, уверяя, что жена разродится только к утру. Виктор сунул ей десять рублей, чтобы обязательно позвонила, если что…
Ночью из роддома не позвонили, уже в семь утра Виктор засобирался туда. Катя хотела пойти с ним, но Виктор уговорил ее остаться, пусть готовит завтрак своему Слонику. «Да, правильно, – тут же согласилась Катя, – вы, Витя, позвоните мне из телефона-автомата, он стоит совсем близко от роддома. У всех Кушенских роды были трудные… Бедная Алочка…»
– Ребенок не головкой вперед лежит, она никак не может разродиться, – сказала акушерка, спустившись в вестибюль. – Врач пытался перевернуть….
Виктор перестал слышать акушерку. Та ушла, а он сидел, думая только о том, как в эту минуту страдает Аллочка. Прошел час, потом второй. Он ждал. Вызвать акушерку, спросить, что происходит, он не решался. Вышел на улицу покурить, вернулся. Около десяти в вестибюль вместе с акушеркой спустился врач. Виктор смотрел, как он пересекает вестибюль по черно-белым плиткам мрамора.
– Я могу сразу перейти к сути? Простите, ваше имя-отчество?
– Можно просто Виктор.
– А по батюшке?
– Степанович.
– Виктор Степанович, ситуация нехорошая, должен вам сказать. Плод перевернуть не удалось, он уже спустился ниже… Но ваша жена, – врач заглянул в свои записи, – да…. ваша жена, Наталия Соломоновна Котова, правильно? Да…. Она не в состоянии разродиться…. Потуги практически прекратились. Вопрос, что делать?
– Что делать?
– Да, что делать… Либо полостная операция, чтобы вынуть ребенка…. Но такую операцию ваша жена может не перенести. Большая потеря крови, вскрытие брюшины, рассечение…
Виктор почувствовал, что к горлу подступает комок тошноты, смешанной со слезами….
– … либо спасать мать. Тогда ребенка придется вытаскивать щипцами. Скорее всего, по частям.
– Это мальчик или девочка?
– Девочка…. Надо принимать решение…
– Спасайте мать.
– Вы уверены?
– Я же сказал: «спасайте мать»!
– Нам нужно ваше письменное решение, что вы согласны на экстракцию плода щипцами, и предупреждены о возможной гибели ребенка. Распишитесь тут, пожалуйста. Поверьте, мне очень жаль.
Виктор снова вышел на улицу, закурил. Через Поварскую к нему бежала Катя.
– Витенька, что?
– Екатерина Степановна… , – Виктор не замечал, что плачет.
– Витя, бога ради! Что с Алочкой?
– Ее спасут…
– Что значит, спасут? Объяснитесь! Что с ребенком?
– Ребенка будут… по частям… Екатерина Степановна…. Говорят, нет другого выхода.
– Боже мой, не может быть…. Как это можно, по частям? Что вы говорите? И вы на это согласились? С кондачка, ни с кем не посоветовашись? Вы должны были сразу прийти домой…
– Екатерина Степановна, вы слышите, что вы говорите?
– Виктор, вы согласились, чтобы они… ребенка…
– Вы хотели бы, чтобы я согласился с тем, что Алочка умрет?
– Господь с вами…. Что вы говорите….. Господи, как же я раньше не пришла, вы тут… Нет, что я говорю, вы правы, Витенька… Совершенно правы…. Главное, Алочка…. А врач что сказал? Он дал вам гарантии, что с ней все будет в порядке?
– Екатерина Степановна, какие гарантии… Сказал, что с Алочкой должно быть все в порядке. Я прошу вас, идите домой. Вы ничем не поможете. Разрешите, я один тут побуду.
– Да-да… Нет-нет, я не могу идти домой… Пойду погуляю по Арбату…. Через час вернусь… Или через полчаса…
Виктор вернулся в вестибюль, сел на лавку. Сейчас внутри Алки кромсают его ребенка. Его дочь. Плевать. Лишь бы спасли Алку… Шипцы, которым из Алки вытаскивают его дочь, почему-то представлялись ему ухватом, которым мать вытаскивала горшки из печи…
Часы в вестибюле снова начали свой бесконечный звон. Виктор слушал бой часов уже раза четыре за это утро…. Четыре, пять… семь…, восемь…, одиннадцать, двенадцать… Часы смолкли, но звон все еще стоял где-то под потолком. Полдень. Алка мучается уже сутки.
Прошло еще полчаса. Виктор увидел, как по лестнице бежит акушерка. Он собрался, зажал в солнечном сплетении все, что заполняло его тело, мозг и душу, встал….
– Виктор Степанович!
– Она жива?
– Жива, жива! Все хорошо. Врач сумел и ребенка вынуть! Ребенок тоже жив. Такое счастье, что он лежал попой. Если бы за голову щипцами тащить, не было бы шансов. Виктор Степанович, вы слышите меня? Виктор Степанович! У вас дочь! Дочь! Здоровенькая, крепенькая, три кило двести! В полдень родилась! Ровно в полдень. В воскресенье, в полдень! Под счастливой звездой! Виктор Степанович! Виктор…. Вы меня слышите?
***
Книжка… стакан воды, черт, не опрокинуть бы… Вот он, будильник, поставленный на шесть. А сейчас полчетвертого. Лена снова прикрыла глаза, вслушиваясь в шорохи старенького, живущего своей жизнью домушки. Вроде нет и не может быть сверчка – какие сверчки в Вашингтоне, – а вроде в подвале что-то попискивает. Чунька – балбес, учиться не хочет. Ходит в лучшую школу, Saint Albans. Восемь тысяч в год, черт! И еще спасибо, что не шестнадцать, половину доплачивает Всемирный банк. Сыну уже пятнадцать, до университета всего два года, а отметки, прости господи… Ни ума, ни ответственности, ни даже амбиций. Ему плевать, что школа вместе с ипотекой, бабушкиной медицинской страховкой оставляет от зарплаты матери ровно столько, что хватает только на еду… Ну и раз в месяц сходить на шопинг в Filene Basement или Dress-4-Less, куда свозят уцененку из нормальных магазинов.
Вчера проверяла счет, там сорок долларов. На кредитных карточках долгов шесть тысяч… Каждый месяц она дает себе слово укладываться зарплату, и каждый месяц не укладывается. Еще эта поездка на Багамы летом, за которую долги никак за полгода не
рассосутся. И ведь жили в трехзведочном отеле, рестораны выбирали, чтобы уложиться максимум в тридцатку.
Вот придет она утром на работу, а в ее ящичке для почты лежит розовый слип – уведомление об увольнении… Фантазия, конечно, у нее прочные позиции, она только что получила – после трех лет работы во Всемирном банке – собственный большой проект.
А если все-таки уволят, ведь может такое случиться? Никто от этого не застрахован. И что тогда? Сорок долларов на счете?
Утром, поднявшись по лестнице из ванной в нижнем этаже, Лена увидела, что мама уже хлопочет на кухне, готовит внуку завтрак. На столе – раскрытый учебник английского языка.
– Доброе утро, мамуль, – дочь поцеловала ее.
– Гуля, я в отчаянии… Долблю этот английский и никакого толку…
– Мам, ты нормально объясняешься и все понимаешь. В шестьдесят шесть лет и меньше, чем за три года!
– Да, мне шестьдесят шесть, жизнь прожита. Ты хочешь сказать, зачем мне английский? Не задумываясь, выдернула меня, как морковку из грядки. Все, что у меня было, осталось в России: Ирка, вся родня, подруги, Витина могила. Тут все чужое. Сижу дома и обслуживаю тебя и твоего мужа.
– Мам, ну зачем с утра пораньше? Мы с тобой тут Юрку растим. Разве не это главное?
– Если бы это было для тебя главным, ты бы занималась сыном, как я занималась тобой. Я отдавала тебе каждую свободную минуту. А ты сына забросила! Юра-а! Завтрак готов! Иди скорей, мы в школу опоздаем! – крикнула Алка, выглянув из кухни, и снова повернулась к дочери. – Даже в школу его вожу я, потому что твой муж возит на работу тебя.
– Мама! Мы сами забрасывали Чуньку в школу по дороге в банк, пока ты не сказала, что хочешь делать это сама.
– Вот именно, забрасывали…
Наталия Семеновна, давно утратившая хрупкость и звонкоголосый смех и превратившаяся в Москве в стареющую полную даму, даже, пожалуй, в обычную тетку, бегающую на рынок в поролоновом черном пальто и платках, в Вашингтоне вернула себе форму и приобрела даже некоторую величавость. Носила она исключительно брючки, подчеркивавшие ее достойные бедра, а существенно располневшую верхнюю часть тела прикрывала длинными трикотажными изделиями, которые тем не менее имели несколько экзотическую форму и загадочное происхождение.








