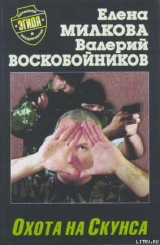
Текст книги "Охота на Скунса"
Автор книги: Елена Милкова
Соавторы: Валерий Воскобойников
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Не все золото, что тонет
После нескольких выстрелов и Степиного удачного броска гранаты оставалось отшвырнуть лишь продырявленную со всех сторон палатку и удостовериться в наличии добытого золота. Небольшой, но очень увесистый мешок из крепкой ткани был в ногах у мертвого Романа. Степа послал эвенка посмотреть, что стало с его напарником, хотя был уверен, что тому уже не поможет ничто. Сам же он лишь на несколько секунд раскрыл мешок с поблескивающими крупными зернами, ощутил на ладони их тяжесть и, сразу же завязав, перегрузил его в свой рюкзак.
Задерживаться на месте боя он не собирался.
– Сейчас побросаем этих в пещеру, подорвем скалу и уходим, – сказал он эвенку. – Наших тоже туда же, раз так получилось. Их деньги – твои деньги. Хочешь, отдай семьям, хочешь, бери себе.
По-видимому, эвенк принял все сказанное, как надо. Пока Степа рылся на месте палатки, чтобы собрать документы и сжечь, эвенк перетащил все тела через ручей в пещеру, которую выбили в стене добытчики, охотясь за золотой жилой. Туда же Степа вполне профессионально заложил радиоуправляемый заряд. Когда все было готово, они отошли метров на двести и стали наблюдать, как скала над пещерой сначала приподнялась, а потом, развалившись на части, обрушилась вниз.
* * *
Степа брел с ношей золота в рюкзаке вслед за эвенком и думал о том, что план его удается на славу. Теперь осталось пройти вдвоем три-четыре дня, чтобы выйти к месту у реки, где замаскирована моторная лодка, а там избавиться и от этого эвенка.
Он надеялся, что с мотором справится. А там по реке доберется до первой большой пристани и пересядет на речное судно. Главное – скорей выбраться к железной дороге. Скидывать золото в Сибири он не собирался. Это лучше сделать в каком-нибудь из российских больших городов, близких к Кавказу, типа Ростова. Насчет Ростова у него были даже кое-какие туманные договоренности. По крайней мере, те, с кем он договаривался, не выразят удивления, если он явится к ним с металлическим товаром, расплатятся сразу и без подлянок.
С приближением темноты ему стало страшно. «А ну, как этот эвенк задумал сделать то же самое?» – вдруг подумал Степан. Поначалу ему нравилось, что живым остался именно образованный эвенк, а теперь он смотрел с ненавистью в его спину.
А тот шел вроде бы неторопливо, точно так же, как делал эти дни любое дело, но Степан едва поспевал за ним. И это при том, что ростом он был намного ниже Степана. Днем Степе было даже немного жаль его убивать: эвенк ему нравился своей рассудительностью, она создавала ощущение надежности. «А хрен с ним, пусть идет со мной до лодки. Заодно и мотор наладит, если что. Оставлю жить на радость его народу. Пусть права качает, может, его эвенки своим президентом выберут. Сядем в лодку, я его пристукну несильно, чтоб смог ожить, и на берег выкину».
Сейчас эти мысли показались Степе опасными: «С чего бы это оставлять лишнего свидетеля, который обязательно заговорит, тем более стукнутый по кумполу».
А с приближением темноты вдруг стало казаться, что и сам эвенк замышляет что-то недоброе. «Образованные, они всегда хитрее. Притворяется послушным, а сам ночью перережет горло – и пошел. Даже не похоронит. Ему тайга что дом родной».
Поэтому Степа решил с автоматом не расставаться и всю ночь не спать.
– Ты дрыхни давай, – сказал он, когда они сидели у костерка и пили крепкий чай, почти чифирь, о котором ему столько рассказывали. – Мне чой-то не спится, я так посижу покемарю. А если сморит, так и разбужу.
Эвенк и тут спорить не стал, согласно кивнул и полез под навесик, который они несли с собой.
Это его безмолвное послушание еще больше насторожило Степу.
«Притворяется, сука! – подумал Степа. – Ей-бо, а сам дождется, пока меня сморит, или в упор пальнет, или голову топором проломит». Ему рисовались и другие способы простого и быстрого умерщвления, например незаметно всыпанная в чай какая-нибудь здешняя травка, которая подействует, как клофелин. Он не заметит, выпьет и рухнет где стоит. Тогда и убивать не надо. Эвенк подхватит его ношу и пойдет во тьме. А он очнется – и окажется тут беспомощный, как лох.
И все же до реки оставалась половина пути, и Степа боялся заблудиться. Потому сидел с автоматом между ног, оперевшись спиной на дерево, и время от времени натирал свои уши, чтобы не заснуть.
Он проснулся утром, заботливо укрытый развернутым спальником. Рядом лежал автомат без магазина.
– Я ночью поднялся, смотрю, вы спите, – стал, улыбаясь, объяснять эвенк. – Хотел будить, а потом передумал, Нельзя весь день идти без сна – упадете дорогой.
«Издевается, падла, – угрюмо сообразил Степа. – Хочет, чтоб я золото подтащил поближе к реке, а там кончит».
Он тихо порадовался, что так и не показал стволов, спрятанных на теле.
– Ладно, раз вынул магазин, так и неси его сам, – добродушно распорядился он, чтобы окончательно притупить бдительность образованного эвенка.
Степа свалил его двумя выстрелами сзади почти в упор, когда они миновали основной бурелом. После первого выстрела эвенк успел оглянуться и с удивлением посмотрел на него. Он так и ткнулся в землю, с повернутой головой.
Взяв из рюкзака эвенка самое необходимое, чтобы прожить одному дня два-три, Степа с легким сердцем отправился в сторону реки. До нее, по расчетам, оставалось километров пять, не больше. Если строевым шагом, так понадобится меньше часа.
Однако строевым шагом не получалось. На пути возникло очередное болото, которое расходилось вдаль по обе стороны.
«Вроде бы его напрямки прошли», – подумал Степан, срубив на всякий случай жердь, как в кино «А зори здесь тихие», зашагал по хлюпающему мху.
Он провалился мгновенно, не успев отпрыгнуть от опасного места.
– Ни хрена, вылезу, – сказал он громко, словно спорил с кем-то.
Но из трясины цвета ржавчины вытащить полностью утопленные ноги оказалось делом непростым. Он попробовал было встать лишь на одну, чтобы вытягивать вторую, и почувствовал, что углубился еще сильнее – влага противно подкралась к паху.
Оставалось одно – сбросить тяжелый рюкзак, опереться на жердь, положенную плашмя, и медленно, очень осторожно выползти к ближней чахлой березе. Но как раз оставлять рюкзак с золотом на съедение болоту ему и не хотелось.
– Во, блин, положение! – снова проговорил он громко. – Вылезу, будет что рассказать.
Степа положил жердь перед собой вроде бы на крепкий мох и оперся на нее руками, жердь податливо пошла вниз вместе с руками, которые углубились по локоть. У него еще было мгновение, когда он мог освободиться от рюкзака и выползти, но Степа этот миг упустил. Руки с жердью под тяжестью рюкзака и его тела углубились до плеч, грудь залила жижа, и теперь лишь голова да часть спины с рюкзаком торчали из нее.
Последние его мысли были об эвенке. О том, что зря он его пристрелил. Сейчас бы было кому помочь. Он еще не верил в свою смерть, еще надеялся, что обопрется ногами о твердое и вылезет, выползет. Отвратительная жижа затекла в рот, он закашлялся и углубился сразу по затылок.
Спустя несколько часов на месте, где боролся за жизнь человек, не пожелавший освободиться от мешка золота, не осталось никаких следов его присутствия. Пучина поглотила тело и вновь сошлась над его головой.
В тот же день на место, где были захоронены под обломками скалы старатели, пришел лесной дед. Он обошел вокруг бывший лагерь, внимательно осмотрел кучу каменных обломков и почувствовал под нею присутствие живой жизни. Жизнь эта прослеживалась едва заметной тонкой пунктирной ниточкой, и все же она пульсировала. Старик отбросил несколько камней и обнаружил человека. Человек лежал между двух каменных глыб, и это пространство прикрывала третья каменная глыба. Получился как бы тоннель, размером чуть длиннее и шире, чем сам лежащий. Этот тоннель и спас ему жизнь, предохранив от ударов осколков обрушившейся скалы.
Старик, осторожно раздвигая камни, освободил умирающего старателя, обмыл его лицо водой из ручья и наложил на ружейные раны повязку с травами. После этого он сделал из больших и малых сучьев волокушу и, погрузив на нее раненого, потащил к своему жилищу.
Житие святого Антония
Старик Антоний жил один среди тайги несколько десятков лет. Прежде его жилье значилось как «Избушка охотника-промысловика № 316». В те давние времена раза два в году на лужайке около его дома, вздымая ветер, приземлялся вертолет, оттуда выгружали соль, порох, дробь, муку, спички, растительное масло в одной канистре и керосин – в другой, оценщик-заготовитель Охотсоюза забирал мешки с кедровыми орехами, дорогие лечебные корни. И полушутя спрашивал:
– Шкуры-то куда дел? Небось сотняру горностаев набил?
Этот вопрос отчего-то деда всегда немного сердил:
– Не бью я зверя, или не знаешь, что спрашиваешь?!
Летом порою проходящие мимо трассовики или просто заблудшие души оставались у него на ночлег. Приходили и люди из ближних по масштабам безграничной тайги селений.
Теперь ни топлива для вертолета не стало, ни Охотсоюза. И несколько лет, пока не появились заготовители другого рода, старик пробавлялся в основном тем, что росло в тайге да на огородике около дома. К людям его особенно не тянуло – он от них натерпелся в молодости немало бед, однако, когда приходили к нему с добром, охотно делился, чем мог.
При рождении Господь прописал ему другую судьбу, да, видимо, перепутал страницы в книге жизни. Его угораздило родиться в семье священника накануне Первой мировой войны в селе под названием Баргузин. Село расположилось на берегу реки с тем же названием, а был еще и ветер Баргузин, который, согласно песне, «пошевеливал вал». Вдоль улицы стояли крепкие дома, сложенные из толстенных бревен. И зимой в морозы, от которых трещали стволы деревьев, поднимались к ярко-голубому небу столбы дыма. Что ни дом, ни труба, то и свой дым.
Церковь тоже была бревенчатой, и Антоний, с малых лет обученный грамоте, выходил в каждую службу на клирос чтецом. Село считалось культурным – здесь немало поработали в свое время, начиная с декабристских времен, ссыльные – борцы за народную волю и светлое будущее России. Они оставили после себя умные книги, детей и могилы, которые во времена Антония жители продолжали чтить.
Отец Антония был просвещенным священником. Среди своего выпуска в Духовной академии Петербурга он шел одним из первых и мог получить приход в столице, но по договоренности с молодой женой запросился в сибирскую глухомань, чтобы пойти по стопам знаменитейших православных миссионеров: Стефана Великопермского и Иннокентия, апостола Америки и Сибири. Вокруг жили шаманствующие народы, и молодому священнику, только-только рукоположенному в сан, не терпелось одарить их светом православной веры. Супруга священника, или, как ее стали звать, попадья, – была, можно сказать, нонконформисткой в квадрате.
Сначала она, дочь важного генерала, преступила понятия своего общества, когда устремилась на Бестужевские курсы, чтобы, получив медицинское образование, поскорее сделать русский народ не только свободным и счастливым, но к тому же еще и здоровым. Второй раз она пошла вопреки установленным среди курсисток правилам, когда вместо занятий подпольной революционной деятельностью влюбилась в молодого человека могучего сложения, будущего священника. Так их семья и появилась добровольно в том месте, куда издавна самодержавная власть отправляла политических ссыльных.
Здесь они занялись активной просветительской работой среди местных бурят и эвенков, которых называли в то время тунгусами. Муж подружился с шаманами и склонял их к православию, а жена делала прививки от оспы и собирала образованное баргузинское общество на музыкальные концерты к единственному на весь поселок фортепиано. Она успела также основать школу для девочек, а затем начались потрясения.
Первую мировую и Гражданскую войну малолетний Антоний не заметил. Хотя весной семнадцатого года жителей в селе значительно поубавилось – все политические ссыльные ринулись в центр, заниматься революцией. Беды Антония начались в двадцать втором, когда новая власть решила окончательно истребить в народной душе живого Бога. Власть постановила это делать еще в двадцать первом, но до Баргузина от столицы любые веяния доходили с опозданием.
* * *
Мужики с ружьями, которых отчего то называли юной красной кавалерией, пока добирались до Баргузина, сильно изголодались по еде и по бабьему телу. А задание они несли такое: не только порушить церковь, но и уничтожить здешнего попа как классового врага.
Классовый враг был тоже мужчиной не слабым и встал на невысокой паперти с иконой в руках, преграждая безбожникам вход в храм Божий.
– Не с иконой надо было выйти, а с пулеметом, – обсуждали жители села, наблюдая издали за действом. – Тогда бы другая была беседа.
Но так как безбожники прибыли от имени власти, никто не решился открыто помогать священнику отстаивать храм. Тем более, что слухи о подобных погромах в других селах уже до них докатились.
Рядом со священником стояли тридцатилетняя попадья и восьмилетний попенок, Антоний. Все они крестились и читали хором молитву. Молитвы в тот год помогали плохо.
Священника посадили на кол невдалеке от церкви, где он, скрежеща зубами от боли, еще несколько часов молча вращал глазами. Прибывшим бойцам за светлое будущее чихать было на его высокие просветительские мечтания. Один из них лишь воскликнул:
– А смотри, как у попа валенки-то славно подшиты!
И, содрав их с его ног, напялил на свои.
Попадья, читавшая наизусть девочкам в своей школе пушкинскую оду «Вольность», едва ли не всего народного поэта Некрасова и даже современника Блока, показалась им просто аппетитной бабенкой. И ее вместе с сыном поволокли в поповский дом, что стоял рядом с церковью.
Там попадью, женщину высокой гуманистической культуры, сразу завалили на постель и задрали юбки, на ходу расстегивая собственные портки. Попенок крутился тут же, пытаясь укусить хоть кого-нибудь за мужской орган. Его полагалось тоже извести как классово чуждый элемент, но нашелся сострадалец – тот самый, который перед этим снял с попа валенки и сразу надел их на свои ноги, он выволок пацана на крыльцо и, подтолкнув, негромко посоветовал:
– Спасайся, малец, пока твою маманьку обихаживают, не то и до тебя доберутся.
Потратив мужскую силу на жену священника, борцы за светлое будущее народа похлебали горячих щей, чугунок с которыми стоял в печи, и остались недовольны, что щи были постными, без мяса, – в те недели стоял Великий Пост.
Попадья была вроде бы еще без чувств, по крайней мере, так и не поднималась с постели, но уже кто-то пошел у нее допытываться, где она держит мясную жратву.
Возможно, в другие селения приходили иные борцы с религией, которые всего-навсего разоряли храм и убивали попа, но сюда явились именно такие.
Восьмилетнего Антония жители села в тот зимний день хотя и жалели, но в дом свой принять боялись – ну как разгулявшиеся красные борцы за всемирную революцию поступят и с ними так же. Его узнал и увез в стойбище шаман, который, не догадываясь об опасности, как раз приехал для душевных бесед со священником. Шамана с местным попом связывала старая дружба, он не раз ночевал в семье у священника, вечерами они любили поговорить о божественном.
Так Антоний оказался среди эвенков.
* * *
Спустя восемь лет центральная власть добралась и до шамана. В тот год на селе по всей стране вводилось государственное рабство – у жителей отнимали паспорта, забирали скот и превращали их в колхозников. Вольных охотников, которые издавна занимались промыслом зверя в тайге, тоже обобществили. Шамана арестовали среди бела дня, увезли в Читу, и там в тюремной камере он быстро умер от непривычки к замкнутому пространству и сырому душному воздуху. Шестнадцатилетнего воспитанника он успел не только обучить своему искусству и посвятить в шаманы, но и переправить в дальнее стойбище.
Шаман уже давно разглядел в Антонии способность разговаривать с духами без какого бы то ни было камлания. Это случалось не каждый день, но однажды спасло шаману жизнь.
Все произошло в самом Баргузине, когда и церковь, и поповская семья были целехоньки. Шаман приехал в очередной раз в гости. А священник был в печали – у него только что украли рыболовные снасти, и он не мог теперь засолить рыбу на зиму.
– У Захара надо смотреть в клети, – встрял в разговор взрослых попенок, но отец тут же шуганул его: детям в те времена было не положено подавать голос, когда беседуют взрослые.
– Сейчас тебе помогу, – сказал шаман и вынул свой охотничий нож.
Он привязал нож к шнурку, дал ему покачаться и попросил священника мысленно идти вдоль улицы, перечисляя дома, а также хозяев.
Едва поп назвал дом Захара, нож дошел описывать круги по часовой стрелке. Опыт повторили, и снова нож отметил именно тот дом, который назвал Антоний.
Отец стал называть помещения: светелка, кухня, клеть, хлев, баня, сарай. Нож мгновенно отзывался на слово «клеть», а на другие – не реагировал.
Позвали Антония, который и не уходил далеко, стоял за дверью, подглядывая в щель.
– Ты почему назвал дом Захара? Или тебе кто сказал про снасти в его доме?
Оказалось, что Антоний ничего не знал до разговора. Но почему-то представил именно его хозяйство и в клети мысленно увидел знакомые сети.
Священник, не откладывая, отправился к Захару. Тот был пьяноват и сначала хорохорился, а потом вдруг покаялся, начал целовать попу руку и принес краденые снасти.
– А сын-то у тебя – не простой человек! – сказал шаман, когда снасти были водворены на место.
– Совпадение, обыкновенное совпадение, – отмахнулся священник. – Думал его в Иркутск отправить, в семинарию, так ее советская власть закрыла.
А утром случилось другое чудо.
Шаман засобирался домой. И стал снаряжать свою лосиху, на которой ездил верхом. Лосиха эта была знаменита на всю округу. Шаман воспитал ее с телячьего возраста, и она была сильней и умнее, чем якутские косматые лошаденки, с виду похожие на ту диковатую породу, которую открыл Пржевальский.
– Задержался бы ты, – сказал вдруг паренек, – не надо сегодня ехать, поезжай завтра.
Другой бы отмахнулся от слов ребенка, но шаман был человеком чутким к знакам жизни и решил остаться.
В тот день по тайге прошел редкостный смерч, и как раз там, где собирался проехать шаман, навыворачивало огромные деревья, погубив на своем пути все живое – и человека и зверя.
* * *
Прежде эвенков на военную службу не брали. Антоний, усыновленный шаманом, был записан эвенком. Неведомым образом в нем соединились те познания, которые спешили, словно предчувствуя беду, передать ему мать и отец, с наукой жизни в тайге, что преподал ему шаман. Второй учитель не затрагивал символ православной веры, но при этом учил общению с духами и слиянию с природой: с деревом, с птицей, с цветком. Потом, уже после гибели шамана в читинской тюрьме, на несколько лет появился в стойбище и третий учитель – молодой человек из русских, по имени Михаил Григорьевич. Он, как и отец Антония, горел мечтой просветить эвенков, только теперь уже не светом православной веры, а современными знаниями. Молодой человек создал кочевую школу и поделился с Антонием теми немногими книгами, что привез с собой в тяжелом заплечном мешке. Говорили, что потом его тоже увезли в тюрьму, но убить не успели, потому что умер вождь всех народов товарищ Сталин. Выпущенный из тюрьмы молодой человек вырос в большого профессора в Ленинграде.
С началом Великой Отечественной войны, когда власть стала призывать на фронт все нации и народы, отправился воевать и Антоний.
* * *
– Рад приветствовать вас, дорогой друг! На этот раз человек, так похожий на Скунса, выводил текст в своем мини-компьютере на экран.
– Хочу сообщить приятную новость. Клиент из Страны восходящего солнца просил передать вам свою благодарность за красиво исполненный заказ и в знак признательности добровольно увеличил ваш гонорар в полтора раза.
– Приятное приятно слышать, уважаемый посредник.
– Возможно, скоро от него последует еще один заказ.
– Что ж, ответьте ему, что я готов. Тот, с кем имела дело моя собачка, и в самом деле был большим негодяем.
– Такая уж у вас работа, дорогой друг.
– Уважаемый посредник, не могли бы вы выполнить мою новую личную просьбу. Мне нужны, как всегда, по возможности исчерпывающие данные на директора детского дома в Павловске. Дом для детей с проблемами интеллекта.
– Хотите заняться педагогикой и стать Песталоцци?
– Да, что-то вроде этого.
– Заказ принял, дорогой друг. До следующей встречи.
– Желаю удач, уважаемый посредник.
Эта беседа у человека, так похожего на Скунса, была по дороге в Павловск. Когда-то, несколько эпох назад, тамошний парк он считал своей родиной. А пятиэтажное здание неподалеку за невысоким забором было для него единственным родным домом.








