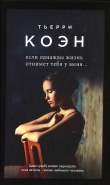Текст книги "Последнее лето"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Лидия высмотрела в толпе «ласточку»[22]22
В описываемое время обычной одеждой обслуги дорогих ресторанов был фрак, в обиходе называемый «ласточкой».(Прим. автора.)
[Закрыть] , сделала знак. Молодой официант проворно понесся к Михаилу Павловичу, однако купца уже кто-то отвлек разговором, и он начисто забыл, что собирался выпить за Лидию: рассеянно проглотил содержимое своего бокала и протянул официанту, чтобы налил еще.
«Эх, деревня, хлещут шампанское, как воду, а ведь это не какое-нибудь копеечное «Абрау-Дюрсо», а настоящее «Асти»! – чуть не ахнула Лидия. – Пора пригласить их за карточные столы – пусть играют, кто хочет, по маленькой. Да и по большой можно!»
В этот момент за спиной зазвучал голос:
– Какой-то внезапный у вас дом, Лидия Николаевна!
Лидия оглянулась и с трудом заставила себя блеснуть приветливой хозяйской улыбкой:
– Что же в нем внезапного, Григорий Владимирович?
– Георгий, с вашего позволения, – с улыбкой поправил красивый черноволосый господин, более, с точки зрения Лидии, похожий на актера, чем на начальника сыскного отдела провинциальной полиции. В самом деле – в одном из домов, которые Лидия успела посетить за время недолгого своего пребывания в Энске, она увидела фотографическую карточку идола местных барышень, актера Вознесенского. Жгучими и в то же время мягкими черными глазами и волной темных волос Смольников очень на него походил. Ну и фигура у него отличная – Лидия, которая была большой ценительницей красивых мужчин (и никогда не скрывала этого!), сразу оценила статного господина. Одет он был в смокинг, который года два назад вошел в моду в обеих столицах и наконец-то дотащился и до провинции. Эта несколько вольная одежда сидела на Смольникове превосходно. Замечательно смотрелась также белоснежная рубашка без обычного галстука, но с черным бантиком вместо оного и черными же пуговками.
«Экий щеголь, мог ведь в мундире явиться, бряцая шашкой, а каков пришел!» – с удовольствием подумала Лидия.
Остальные гости явились либо в тройках, либо в визитках, причем, несмотря на дороговизну ткани, все смотрелось топорно, неладно сшито. И еще эти толстенные, в руку толщиной, часовые цепочки... Небось в жилетных карманах самая дешевая продукция, пусть на ней даже и значится «Лонжин» или «Павел Буре». Именитые производители не гнушались штамповать изделия из самоварного золота и драть втридорога за марку. Русские купцы покупали эти часы с восторгом. Провинция, ну чего вы хотите!
Жена Смольникова, Евлалия Романовна, тоже выглядела необычно: сильно накрашенная, набеленная, нарумяненная, в золотой сетке на волосах, в укороченном и сильно зауженном книзу платье – последняя, очень авангардная модель, Лидия не решилась надеть такое смелое платье на прием, хотя ее постоянная портниха Надежда Ломанова из Москвы обещала, что в самый короткий срок изготовит такой модный туалет, от которого все местные щеголихи умрут на месте. Но Лидия очень тонко чувствовала, в чем можно появиться на людях. И на каких людях – в чем именно. Ну что ж, она ведь не бывшая актриса, как госпожа Смольникова, она всего-навсего супруга управляющего гигантским, хоть и провинциальным заводом, а потому должна выглядеть достаточно респектабельно и даже чуть консервативно на большом приеме, устраиваемом к тому же в первый раз. В чем она наносит частные визиты, в чем принимает на своих журфиксах – это ее дело, но первый официальный прием... Впрочем, ее бледно-синее платье никак не назовешь старомодным, оно всего лишь самую чуточку простовато (та самая простота, которая обходится владелице куда дороже всякой вычурности!), из украшений только уральские аметисты. Лидия вообще любила цветные камни, хотя они, конечно, не были в повсеместной моде (зато стильные небывало!) и меркли перед сверканием бриллиантов, которыми были с ног до головы увешаны остальные дамы. Ну что ж, хозяйка и не должна быть одета наряднее гостей! Хотя Лидия не назвала бы это правило общепринятым. В прошлую пятницу, когда она была у Рукавишниковых, Ирина Гавриловна ослепляла дюжиной бриллиантовых колец, от которых пальцы просто не гнулись. Серьги оттягивали мочки ушей чуть не до плеч. Шелка, конечно, прибыли прямо из Парижа, как тот гоголевский суп – на пароходе в кастрюльке! Модный цвет бордо с переливом ей чудовищно не шел... И все же Лидия смотрела на расфуфыренную даму дружески, с симпатией, а главное, с благодарностью: ведь она оказалась источником совершенно бесценных сведений!
Да, Энск за истекшие двадцать лет, конечно, вырос, конечно, расстроился, обогатился новыми красивыми зданиями и церквами... Трамвай вон пошел по главной улице, открылся Коммерческий институт... Дороги несколько улучшились... А все же он как был большой деревней, так и остался ею. Все всё про всех знают, и стоит только умело, в нужный момент вставить наводящий вопросик, как на него тут же будет дан самый пространный ответ. Сколько Лидия наслушалась всевозможных семейных тайн! В том числе и тайн начальника сыскного отдела, который сейчас стоит перед ней и делает комплименты дому управляющего. Оказывается, у него в прошлом была какая-то любовная история, но девица приревновала его к актрисе Евлалии Марковой и, окончив курсы сестер милосердия при Кауфманской общине, сбежала – вы только вообразите! – на японскую войну, где и сгинула бесследно. А девица была совсем не простая – сыщица! Про то, что бывают женщины агентессы полиции, осведомительницы, Лидия раньше знала, но чтобы сыщица... чтобы в официальном штате состояла...[23]23
Эта история описана в романе Е. Арсеньевой «Сыщица начала века», издательство «Эксмо».
[Закрыть] Да, великая вещь эмансипация!
Впрочем, судьбой несчастной девицы, бывшей возлюбленной господина Смольникова, Лидия Шатилова заинтересовалась лишь потому, что ее история очень напоминала другую любовную историю, разыгравшуюся в Энске на исходе минувшего века. Разбитое сердце, бегство, желание умереть... Лидия ту историю все минувшие двадцать лет ни на день не забывала, и, конечно, ей было крайне любопытно знать, помнят ли ее другие люди. Но как ни пыталась она навести разговор на интересующих ее персонажей, этого сделать никак не удавалось. Конечно, семья какого-то там присяжного поверенного – слишком незначительна для Рукавишниковых, Бугровых, Блиновых. Может быть, они и фамилий-то таких не слышали – Русановы да Понизовские... К сожалению, и в самом деле – мелко плавают эти Русановы. Лидия с удовольствием пригласила бы их на прием, но здесь они выглядели бы неуместно – не того поля ягоды, нет, не того!
А впрочем, нет, она рада, что их тут сейчас нет. Она еще не готова к встрече, после которой вся прежняя жизнь Русановых пойдет кувырком. Не зря говорят мудрые восточные люди, будто месть – такое блюдо, которое приятнее всего есть остывшим. Долго ждала – ну так еще подождет, чтобы получить наивысшее удовольствие от завершения своих планов! Именно посему она отговорила мужа, который хотел послать приглашение Русанову как защитнику рабочего Баскова. Лидия убедила Никиту, что это будет слишком похоже на заискивание перед адвокатом противной стороны, попыткой переманить его на свою сторону, может быть, подкупить, а поскольку истец – всего лишь пролетарий, надо быть весьма деликатным, чтобы, не дай бог, не унизить его да и самому не унизиться. Никита проворчал, что она все чрезмерно, по обыкновению, усложняет, однако послушался.
Лидия, конечно, рассчитывала приватно поболтать о Русановых с Аверьяновым (неужто он и в самом деле понял, кто она такая, как показалось при первой встрече в банке?), однако Игнатий Тихонович на прием не явился, а вместо себя прислал дочь, редкостно некрасивую и дурно, просто вопиюще безвкусно одетую девицу, с письмом, в котором весьма любезно объяснил причины своего отсутствия: оказывается, он еще полгода тому назад записался на консультацию к московскому профессору Зыкову, в клинику МГУ, а поскольку время у знаменитого врача расписано не то что по дням, но и по часам, пропустить прием Аверьянов не мог никак.
Разумеется, Лидия не обиделась. Значит, Аверьянов все-таки болен... Ей так и показалось с первого взгляда. Консультация в клинике МГУ? Клиника эта славилась разными специалистами. Но прежде всего – онкологами. Неужели у несчастного банкира рак? Нет, не надо думать о дурном.
Разговор с Игнатием Тихоновичем от нее никуда не уйдет, размышляла Лидия. А пока можно удовольствоваться дочкой вместо папеньки. Она обласкала Марину Аверьянову и отправилась было в компании с ней поесть мороженого, а потом навести беседу на ее кузенов Русановых, как появился Смольников. И по выражению его лица Лидия моментально поняла, что его меньше всего интересовала «внезапная» архитектура дома управляющего Сормовским заводом.
Это была ошибка – звать Смольникова. Но нельзя, невозможно было не позвать!
Делая очень хорошие мины при плохой игре, хозяйка и гость еще какое-то время поморочили друг другу головы, рассуждая о неожиданных поворотах коридоров, о лестничках, которые вели в никуда, внезапно обрываясь, не достигнув площадок, о разных по форме, не выдержанных в едином стиле окнах, которые и придавали дому такое своеобразие. И все это время Лидия страстно мечтала, чтобы ее кто-нибудь спас от Смольникова, прежде чем он начнет задавать опасные вопросы.
Не повезло. На помощь никто не явился, даже Никита, который о чем-то оживленно болтал со своим протеже, заводским доктором Туманским. Наконец Смольников, которому, чувствуется, притворство уже осточертело, проговорил:
– Спросить хотел у вас, Лидия Николаевна, отчего вы на вызовы следователя не являлись и даже не позволяли посетить вас на дому? Ведь вы единственная обладаете сведениями, которые могут быть бесценными для розыска преступников.
– Единственная? – решила потянуть время Лидия. – Но я слышала, что кассир Филянушкин очнулся и жизнь его теперь вне опасности.
– Очнуться-то Тихон Осипович очнулся, – с досадой кивнул Смольников. – Да и что с того проку? Он ничего не видел, ничего не заметил. Выбежал из-за угла на ваши крики, столкнулся с вами, и тут в него вонзился нож, он потерял сознание и упал. Вот и все его сведения.
– Тихоном Осиповичем Филянушкина зовут? – спросила Лидия.
– Ну да. Так вот, на него и его показания я особенно не рассчитывал, у меня все упования на вас.
– Польщена, – пробормотала Лидия. – Но только я уже говорила и теперь повторю, что ничего не помню. И помочь розыску ничем не могу.
– Не можете или не хотите? – взглянул чуть исподлобья Смольников.
«Экий же наглец этот господин! – подумала Лидия, внезапно впадая в ярость. У нее даже кончики пальцев похолодели, и она быстро потерла их. «Явился ко мне в дом... – хотелось сказать – незваным, непрошеным», – но это была неправда, ведь она собственноручно подписывала приглашение Смольникову, и оттого Лидия еще пуще рассердилась. – Явился ко мне в дом – и меня же допрашивает, словно преступницу!»
– Не считайте меня чурбаном, – тихо проговорил, уловив ее настроение, Смольников, все так же глядя на Лидию чуть исподлобья.
В самом деле – весьма привлекательный мужчина. Выразительные, гипнотизирующие глаза. Легко поверить, что этот человек разбил какой-то там барышне сердце настолько, что она предпочла погибнуть на жуткой войне, только бы не делить его с другой... Опасный мужчина, а?
– Я вас прекрасно понимаю, – так же тихо, вкрадчиво продолжал «опасный мужчина». – Вы все видели, все знаете... Просто боитесь того человека, да? Ну что ж, для страха основания есть. Редкостной жестокости тварь! Даже среди уголовных – а я много чего повидал на своем веку! – таких отъявленных мало. Ну ладно, убил полицейского, стража порядка, это хоть как-то объяснимо, но возчика зачем зарезал? А кассира Ганина? Вот уж вовсе бессмысленное зверство! Господин Аверьянов говорил, Ганин вовсе не был никаким героем. Припугни молодчик Ганина хорошенько, тот отдал бы ему мешки с деньгами, а сам в обморок упал бы от страху.
– Припугни, говорите вы?! – фыркнула Лидия. – С какой стати ему было пугать Ганина, коли он был сообщником грабителей?
– То есть как? – изумленно вскинул брови Смольников. – Кассир банковский?
– Ну да! Когда этот Бориска убил полицейского и возчика, Ганин выскочил из возка, в котором сидел раньше, и потащил мешки с деньгами к тем саням, в которых прибыли грабители. Бориска начал его пинать, просто из наглости, из лютости, Ганин возмутился и был немедленно зарезан. – Лидия передернула внезапно озябшими плечами: перед ней в одно мгновение вырисовалась страшная сцена, которую она имела возможность наблюдать.
– А быть может, Ганин повиновался главарю налетчиков все-таки со страху? Хотел заслужить его расположение, но напрасно старался? – предположил Смольников.
– Ничего подобного! – запальчиво воскликнула Лидия. – Это убийство даже сообщников злодея поразило. Они закричали: «Зачем ты Ганина убил? Он же нам помогал!» А Бориска на них вызверился: мол, зачем нам с ним делиться, он не ради идеи старался, а за деньги...
– Ради какой идеи? – быстро спросил Смольников.
– Не знаю, – пробормотала Лидия, уставившись ему в глаза, словно загипнотизированная. – Он так и сказал, Бориска: Ганин не идейный, он за деньги помогал...
– Очень мило... – прошептал Смольников. – Ну о-очень мило... Так что же получается?! Это был не вульгарный грабеж каких-нибудь Ванек-встанек или Кошкиных хвостов вкупе с Молчунами?[24]24
Ванька-встанька, Кошкин хвост, Молчун – клички грабителей, терроризировавших обывателей приволжских городов в описываемое время. (Прим. автора.)
[Закрыть] Значит, политическое преступление? Неудавшийся экс? Выходит, и до нас добрались... Чей же? Ну, понятно, чей... Не зря, не зря предупреждали, что после ограбления в Ефремове, где весьма успешно обчистили отделение Международного торгового банка, эсеры начнут громить другие провинциальные банки. А мы-то думали, минует нас чаша сия... Получается, это дело не столько по нашему, полицейскому, ведомству должно проходить, сколько по жандармскому корпусу? Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А господин Хворостов, наш главный «вооруженный Жан»[25]25
Здесь имеет место быть популярная в описываемое время шутка, игра слов: Jean d’arme – вооруженный Жан – по-французски произносится так же, как gendarme – жандарм. (Прим. автора.)
[Закрыть] , меня на смех поднимал: Смольников-де нюх свой знаменитый утратил и зубы источил. Ну вот я сейчас ему этого Бориску с его идеями и выложу, как туза козырного...
Лидия вздрогнула так, что вынуждена была схватиться за рукав замечательного смокинга господина Смольникова.
Козырный туз! Бориска хохотал: «У меня в рукаве козырный туз спрятан!» – и выбрасывал с лихим, разбойничьим вывертом свои смертоносные ножи, один из которых предназначался Лидии!
Тогда она избегла беды. Бог оберег! И она решила, что, если будет молчать как рыба, молчать, словно язык проглотила, Бог и впредь будет ее беречь. Так что же произошло только что? Что она наделала?!
В самом деле – опасный мужчина этот Смольников! Как, каким, интересно, образом ему удалось заставить Лидию одним махом выложить ему – просто-таки выпалить, задыхаясь от поспешности, от желания во что бы то ни стало угодить начальнику сыскного отделения! – то, что она так тщательно пыталась скрыть? Она не просто все выложила – даже назвала имя, которое с недавнего времени являлось ей в жутких снах. В этих снах оно жило отдельной жизнью, преследовало Лидию, жгло ее, как огнем, вырывало у нее живой сердце! Имя швыряло в Лидию короткие, страшно свистящие ножи с коряво выжженной буквой М на рукоятке... Поистине гипноз, самый настоящий гипноз! Да будь он неладен, этот Смольников, со своим актерством, со своими вкрадчивыми повадками! Век бы его не видать!
– Боже мой! – выдохнула Лидия. – Что же я натворила...
Слезы ожгли глаза, она всхлипнула.
– Лидия Николаевна, – умоляюще проговорил Смольников. – Не бойтесь. Честное слово, вы подвергались куда большей опасности, когда молчали. Тогда у негодяя были все шансы остаться непойманным, безнаказанным. Теперь мы хоть что-то знаем о нем и немедля приступим к розыску не человека вообще, а человека совершенно конкретного. Конечно, сфера поиска расширилась. Раньше мы предполагали искать его только среди уголовных, теперь оказывается, что и политических нужно трясти. Мы должны показать вам картотеку преступников и тех и других мастей с приложением их примет. У нас весьма обширная картотека с подробнейшим бертильонажем, а во многих случаях есть даже и фотографические карточки наших бывших подопечных. Может статься, этот ваш Бориска уже проходил либо по нашему, либо по жандармскому ведомству. Вы только скажите, каков он собой? Какого роста? Цвет глаз его, волос... Что вы разглядели?
Лидия беспомощно моргала, глядя на него. Она разглядела... разглядела... Нельзя говорить! Она и так открыла слишком много!
– Лидия Николаевна... – прошептал Смольников. – Лидия Николаевна, милая, да ведь вы уже столько сказали, что молчать теперь просто бессмысленно. Осталось только один шаг сделать, чтобы мы точно знали, каков он собой, какого человека искать...
– Извините, господа, – послышался холодный голос рядом. – Надеюсь, вы простите меня за то, что прерываю ваш взволнованный разговор.
Лицо Смольникова сделалось каменным.
– Извините, сударь, не имею чести вас знать, – процедил он сквозь зубы столь же холодно. – Я – начальник сыскного отделения Смольников, у нас с Лидией Николаевной экстраординарной важности разговор, поэтому прошу вас...
– А мне совершенно все равно, кто вы есть, хоть бы и сам государь император, – перебил тот же голос, и перед Лидией возник обладатель его, высокий и статный человек лет тридцати пяти, с правильными чертами лица, чуть вьющимися волосами, зачесанными назад, и каштановой курчавой бородкой, лишь слегка обливавшей крепкие челюсти. У него были близко посаженные серые глаза, которые весьма неодобрительно смотрели на Смольникова.
– Да вы кто такой и что себе позволяете? – тихо, хмуро спросил начальник сыскного отделения. – Повторяю, разговор наш...
– Извините, Георгий Владимирович, – слабым голосом перебила Лидия. – Это Андрей Дмитриевич Туманский, наш доктор заводской.
– А также домашний доктор семьи управляющего заводами, – тем же непреклонным тоном добавил Туманский. – Именно мне пришлось восстанавливать здоровье Лидии Николаевны, крепко пошатнувшееся после той кошмарной истории. Лучший способ излечиться от последствий такого потрясения – как можно скорей все забыть, не вспоминать случившееся. Я был первым противником посещения Лидией Николаевной вашего управления, так же как и приема следователя на дому. И вот теперь вы явились сюда, на приватный прием, и, пользуясь служебным положением, пытаетесь снова нарушить душевное равновесие моей пациентки! Что у вас за жандармские методы получения показаний? Позвольте вам не позволить, господин сатрап, мучить несчастную женщину! Это с вашей стороны непорядочно и бесчеловечно.
– О-о-о! – протянул Смольников, лицо которого теперь стало насмешливым. – Какие песни, какие задушевные романсы поет господин доктор! Жандармские методы получения показаний, сатрап... Узнаю сокола по полету, добра молодца по лексикону. В какой-нибудь из оппозиционных партий изволите состоять, господин Туманский? Конечно, не большевик, не эсер – иначе господин Шатилов вас вряд ли к себе подпустил. Но кто вы? Кадет? Либерал? Меньшевик, октябрист? Не черносотенец, разумеется, нет, эта братия на твердую власть молится, им чем хуже, тем лучше, чем больнее нагайками бьют, тем они крепче нагаечников любят...
– Я беспартийный, – с вызовом ответил Туманский. – Я просто врач. Понятно это вам? Ни к какому сообществу не принадлежу, лидеры мои – мои пациенты, и их здоровье для меня значит несравнимо больше самых звучных политических лозунгов, будь это «За веру, царя и отечество!», «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» или, к примеру, «Да здравствует парламентская республика!».
Лидия украдкой взглянула на Туманского. Батюшки, как разошелся! Неужели и впрямь разволновался по поводу ее здоровья? Конечно, пока она билась в истериках, Туманский уделял ей очень много внимания, грех жаловаться. Лидия, правду сказать, думала, что он испытывает к ней такую же скрытую антипатию, как и она к нему, но, получается, ошиблась. А возможно, и нет, возможно, его прежняя ироническая холодность ей не померещилась, просто для Туманского в самом деле исполнение долга – святое дело.
Точно так же, как и для Смольникова, между прочим... Но поскольку для нее, для Лидии, нет никакого долга выше долга перед самой собой (ну и перед семьей, перед мужем и детьми, конечно!), она должна в данном случае плюнуть на все, кроме собственного здоровья. Она и так слишком много сказала Смольникову! Довольно с него! Она жива, пока молчит о налетчиках, это же понятно. Даст описание внешности ужасного Бориски, начнут его искать, расклеят по афишным столбам объявления с его приметами – и все, страшный убийца сразу поймет, что его выдали. А кто выдал, тоже весьма легко понять. Есть еще, правда, лежащий на больничном одре Филянушкин, который, несомненно, многое видел и многое знает, он тоже мог бы дать показания... Но с этим самым Филянушкиным, которого, как выяснилось, зовут Тихон Осипович, была связана одна хитрая штуковина, одна, как любит говорить простонародье, закавыка, и эта самая закавыка не давала никакого покоя Лидии. Но она хотела понять случившееся сама, ни к кому не обращаясь, потому что не знала, как ту закавыку использовать в своих интересах и вообще можно ли это сделать. Если дело с умом повести, то можно. Но как, как именно его повести? И стоит ли так сильно рисковать? Во имя чего, главное...
– Лидия Николаевна, ради бога! – донесся до нее умоляющий голос Смольникова. – Последний вопрос! Скажите хоть что-то о внешности метателя ножей!
– Опять? – окрысился Туманский. – Лидия Николаевна, вас никто не может заставить отвечать!
– Во-первых, может, – зло повернулся к нему Смольников. – Согласно закону, лицо, скрывающее сведения, необходимые для обеспечения безопасности государства, подлежит аресту и заключению. Думаю, вы и сами не пожелаете, чтобы ваша подопечная была ввергнута в узилище. А ведь за мной не заржавеет, уж будьте благонадежны! Такая уж у нас, у сатрапов, натура зверская!
– Я... не помню, – пробормотала Лидия, обеими руками отмахиваясь от Смольникова. – Клянусь, я ничего не помню, кроме того, что главарь налетчиков обладал столь буйными кудрями, что фуражка еле-еле держалась на них. И он называл ножи козырными тузами. Всё! Больше ничего! Извините, господа!
Она проскочила между Смольниковым и Туманским, оставив их люто мерить друг друга взглядами, и почти выбежала из залы, посылая окаменелые, неправдоподобные улыбки гостям. На нее, конечно, с любопытством пялились, бородатейший Михаил Павлович шагнул наперерез с бокалом шампанского, вспомнив, видимо, свое обещание провозгласить тост за хозяйку, однако Лидия только умоляюще взглянула на него – не сейчас, мол! – и перевела дух, только когда захлопнула за собой дверь.
* * *
Гулящая девица Милка-Любка подбежала к часовне Варвары-мученицы, огляделась – не видит ли кто, – но уже смерклось порядочно, народу вокруг ни души, потянула на себя дверь. Душно, сладко пахнуло ладаном, свечами... горло стиснулось, закружилась голова.
Милка-Любка отпрянула, перевела дух. До чего свежо пахнет подтаявшим снегом, легким вечерним морозцем! До чего хорошо здесь, на улице!
Стараясь не дышать, снова просунула голову в часовню:
– Вера! Верунька, это я! Выйди-ка!
Отшатнулась, прикрыла дверь, отбежала к углу часовни. Глаза щипало.
Ничего, сейчас пройдет. Минуточка – и пройдет.
Нет, не создана она для благочестия! От одного только запаха свечей чуть не умирает. Проклята от рождения, обречена на грех...
Ну и ладно, не всем же святыми быть! Для святости Вера есть!
Дверь часовни открылась, из нее вышла черная несуразная фигура монашенки – голова вперед, спина согбенна, одно плечо выше другого, – принялась суматошно оглядываться, подслеповато моргая:
– Любушка? Ты где?
– Здесь, здесь! – помахала Милка-Любка. – Да что ж ты раздетая? Вернись, продует враз!
Монашенка послушалась, вернулась в часовню, но через минуту появилась вновь, кутаясь в кожушок. Кинулась к Милке-Любке, на мгновение припала, быстро чмокнула в розовую, яблочно-твердую, подмороженную, но такую жаркую щеку сухими губами, прижалась своей щекой – вовсе прохладной, словно бы неживой.
– Любушка, милушка, как хорошо, что ты пришла! Ну что, моя красавица, ну что, синяк прошел?
– Прошел, прошел твоими молитвами! – смеялась Милка-Любка, то прижимая к себе горбунью, то отстраняя ее и суматошно оглядываясь: не видит ли кто, как обнимаются монашенка и проститутка?
Нет, конечно, с первого взгляда никто не усмотрит в Милке-Любке примет ее ремесла, одета она просто-простенько, что твоя горничная, да только... Энск город большой, а все ж маленький: сколько раз такое бывало, что Милка-Любка сталкивалась нос к носу со своими постоянными клиентами в самых неожиданных местах! Конечно, она никогда не подавала виду, что кого-то узнала, да и мужчины делали самые что ни на есть незрячие глаза и тупые рожи строили (а как еще можно в присутствии законной супруги и невинных деточек, или сослуживцев, или друзей?). А то и впрямь не узнавали? И сейчас не узнают... Конечно, Милка-Любка боялась не за себя – за Веру. Узнают в епархии, что у монахини сестра – гулящая... Как бы со свету не сжили бедную горбунью, как бы не запретили им встречаться! Переведут в губернию, в какую-нибудь глухомань – не откажешься, но как тогда видеться сестрам? Милке-Любке, конечно, на все запреты в мире наплевать, она бы никуда не поехала, а Вера – она ведь послушная, она и впрямь послушница Божия!
– Я за всех грехи отмаливаю, – объясняет Вера. – Моя такая стезя. Все мы наказаны за грехи великие, но, может статься, после моих молитв Господь мимо адских мук путь нам укажет?
Когда сестра так говорит, Милка-Любка стискивает зубы, чтобы не начать богохульствовать. Лучшее, добрейшее на свете сердце, кроткий, светлый разум помещены от рождения в исковерканную, уродливую оболочку. Только лицо Веры осталось милым и пригожим, а в теле, чудится, нет ни одной верной линии. За что, за какие грехи Господь так наказал ее еще до рождения? Или метил в сестру-близнеца, которой суждено было сделаться сосудом греха? Метил в Любку, да она небось повернулась в тот миг, она вообще вертушка, – вот Господь и промахнулся, не в ту вонзил свой карающий перст...
Как-то раз, допьяну напившись и дойдя в злобе на судьбу до самого края, Милка-Любка открыла сестре все свои мысли и обвинила себя, а заодно и Господа в болезни Веры. Мол, страдает она за грехи сестры, а Бог – он не столь уж всевидящ и всемогущ, как кажется. Иначе ткнул бы перстом поточнее!
После этих слов сестра некоторое время молчала, потупившись, потом глянула в ожесточенное, залитое слезами, но такое красивое, такое пригожее лицо Милки-Любки – и улыбнулась с усилием:
– А почем ты знаешь, каких грехов я натворила бы, когда б Господь мне путь не пресек? Нет, думаю, не промахнулся он, а туда попал, куда метил. Он меня смирению учил, да ученица я дурная. Ты же знаешь – черно в сердце моем! Змея лютая в нем гнездо свила.
«Змея лютая» в понимании Веры – ее любовь к Мурзику...
Милка-Любка Мурзика на дух не переносила. Все в нем было отвратительно ей, хотя на чужой, не столь пристрастный, взгляд, он собой – красавец писаный. Девки при виде его млеют, чуть ли не наперебой валятся, юбки задирают – знай подходи да выбирай. Даже диво, что в этакого добра молодца превратился худенький заморыш в драных штанах, сормовское отребье, мелкий воришка и хулиган, отъявленный матерщинник и богохульник!
Мурзик бессердечен, бездушен, злобен и холоден. Так думает Милка-Любка.
Ему от рождения дано было доброе сердце, он был бы милосерд и великодушен, если бы не злые люди. Жестокость его, лютость – просто обида на людей, которые принесли ему столько горя. Вот он им и мстит. Так думает Вера.
Кто из сестер прав?
Да обе правы, наверное...
– Ну что, Верушка, много ли народу в часовне нынче было?
– Да не особенно. Ой, ты знаешь, приходила нынче одна баба, перед всеми иконами свечки поставила и даже перед той, где Страшный суд изображен. Прямехонько перед диаволом поставила! – При звуке имени врага рода человеческого Вера и Милка-Любка торопливо перекрестились. – Я говорю, тетенька, что ж ты делаешь?! Зачем нечистому свечу ставишь? А она говорит: «Эх, родимая, да разве ж я знаю, куда попаду после смерти? Вдруг я у него буду?!»
Милка-Любка так и зашлась в хохоте, однако про себя подумала: «Какая тетка умная! Но насчет нее еще неведомо, а я-то вот точно у него буду, надо и мне ему свечечки ставить...»
– Верушка, – свернула она с неприятных мыслей, – а приходила ли к тебе недельку или две назад девушка?.. Ну, такая пригоженькая, в серой шубке, серой шапочке, глаза тоже серые, юбка в клетку такая... – нацеловавшись с сестрой, спросила Милка-Любка.
– Любань, ну что ты! Есть мне время на юбки да на шубки смотреть! Больно надо! А что той девушке надобно было?
– Ну, помолиться, видать...
– Любань! Ты опять народу голову морочишь, молебен-де и свечка в часовне Варвары-мученицы помогают милого причаровать?
– Никому я ничего не морочу, – равнодушно отвернулась Милка-Любка. – Да и почем ты знаешь, вдруг и впрямь помогают?
– А тебе молебен больно помог?
– Ну, таким, как я, наверное, ни Бог, ни Варвара-мученица вовсе не помогают.
– А мне почему не помогли? – чуть слышно шепнула Вера.
– Тебе? – Милка-Любка с ответом не замедлилась ни на один миг: – Да потому, что и Бог, и матушка Варвара, чай, не слепые! Видят, что у тебя сущая блажь и ума повреждение. Разве ж мыслимое дело – Мурзика любить?! Оттого и не помогают тебе, что не должна ты его любить, не должна, доведешь себя до погибели!
– А вот и нет. Я погибшей родилась, жила, в три погибели согнутая, пока его не встретила. Пусть у меня по-прежнему горб на спине – я больше не живу согбенная, я распрямилась!
Милка-Любка хотела сказать сестре, что Мурзик – как раз такой камень, который любого человека в три погибели согнет, будь он не горбат от рождения, а прям станом, словно корабельная сосна, однако пожалела Веру и смолчала. Перевела разговор:
– Значит, не припомнишь ту девушку?
– Да ты знаешь, – вдруг задумчиво улыбнулась Вера, – вроде бы что-то такое припоминаю... Говоришь, недели две назад было, да?
– Точно, а то и больше.
– Помню ее! Потому что в тот день одна смешная история приключилась. Стала я смотреть записки с именами для молебна, и вдруг вижу: «Мокко, аравийский, ливанский, мартиник...»
– Это что ж за имя такое? – озадачилась Милка-Любка.
– Да не имя! Кто-то небось в лавочку шел со списком покупок да и перепутал бумажки. Вот смеху, если это была твоя барышня!
– Да... Тогда ей Варвара-мученица никак не поможет...
– Любушка, сделай ты божескую милость, не морочь людям голову.
– Дурочка блаженная! Я же для тебя стараюсь, чтоб в твоей часовне какой-никакой доход был! – Милка-Любка с нежностью смотрела на желтое, худое – один нос торчит да глазищи светятся неземным огнем – лицо сестры. – Ведь идут к тебе девки за молебнами, всякий день идут, а значит, деньгу несут. Значит, ты у своих монашек на хорошем счету будешь!