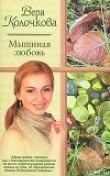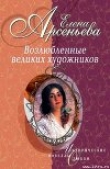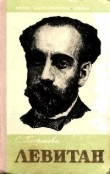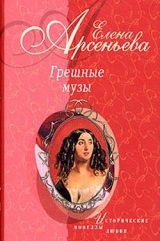
Текст книги "Грешные музы"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Единственным светлым пятном того лета была музыка. То Софья Петровна играла в зале, пытаясь успокоить, угомонить свою ревность к ослепительной (и впрямь ослепительной!) и распутной (ничуть не менее, чем была распутна сама она) Лике. То пела Наталия Баллас, родственница Панафидиных, окончившая консерваторию в Вене.
У нее был низкий, сочный голос, и она великолепно подражала крику сов. По вечерам Наташа иногда появлялась перед террасой с длинными распущенными волосами, молитвенно складывала руки и начинала… кричать по‑совиному. Птицы слетались к дому.
Левитан был в восторге, особенно в яркие лунные ночи. Вся сцена выглядела еще более таинственной и даже зловещей…
Часы работы для него были, конечно, священны, а порою, когда уж невмоготу становилось от напряжения, которое он сам же содеял между двумя женщинами, он усаживал их близко‑близко, словно подружек, и начинал читать вслух. Рассказы Чехова! В частности, «Счастье».
Левитан – Чехову: «Я вчера прочел этот рассказ вслух Софье Петровне и Лике; обе были в восторге. Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь. Вот где настоящая добродетель».
Между тем Лике надоело быть хорошей. Она жутко хотела соблазнить Левитана, но мешала Софья Петровна. Лика начала дергаться по пустякам.
Лика – Чехову: «Ваши письма, Антон Павлович, возмутительны, Вы напишете целый лист, а там скажется всего только три слова, да к тому же глупейших. С каким бы удовольствием я бы Вам дала подзатыльник за такие письма…»
Чехов – Лике:
«Очаровательная, изумительная Лика!
Увлекшись черкесом Левитаном, Вы совершенно забыли о том, что дали брату Ивану обещание приехать к нам 1 июня, и совсем не отвечаете на письма сестры. Хоть Вы и приняты в высшем свете, но все‑таки Вы дурно воспитаны, и я не жалею, что однажды наказал Вас хлыстом. Поймите Вы, что ежедневное ожидание Вашего приезда не только томит, но и вводит нас в расходы: обыкновенно за обедом мы едим один только вчерашний суп, когда же ожидаем гостей, то готовим еще жаркое из вареной говядины, которое покупаем у соседских кухарок… Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во‑первых, это с его стороны не великодушно, а во‑вторых, мне нет никакого дела до его счастья. Будьте здоровы и счастливы и не забывайте нас».
Далее следует рисунок – сердце, пронзенное стрелой, и пара слов – «это моя подпись». В этом письме есть еще приписка: «Сейчас получил от Вас письмо. Оно сверху донизу полно такими милыми выражениями, как «черт задави», «черт подери», «подзатыльник», «сволочь», «обожралась» и т. п. Почерк у Вас по‑прежнему великолепный».
Существовали – да, это правда! – действительно существовали у «фильдекосовой Лики» проблемы с тем, что называют культурой. Порой она была просто вульгарна сверх меры, и общение с ней в конце концов до такой степени доняло Софью Петровну, у которой при всем ее буйстве утонченности не отнимешь, что она предпочла уехать в Москву, решив, что лучше умереть от скуки и ревности, чем от ревности и раздражения.
Однако Левитан вскоре последовал за ней. Лика осталась ни с чем, и это почему‑то страшно раздосадовало Чехова. Почему? Уж не подсовывал ли он, грубо говоря, бывшую подружку лучшему другу, чтобы, во‑первых, отвлечь того от Софьи Петровны, к чьему влиянию Антон Павлович никогда не переставал ревновать, а во‑вторых, самому избавиться от довольно докучливой Лики, которая обвиняла его во всех несчастьях своей жизни (может, и не без оснований)?
Так или иначе, но Чехов решил‑таки осадить Софью Петровну, а если повезет, то и поссорить ее с Левитаном. Он взял дело в свои умелые руки – и вот в двух январских книжках журнала «Север» за 1892 год был напечатан рассказ «Попрыгунья»…
Надо сказать, что в гостиной Софьи Петровны на столике лежал некий маленький альбом, куда могли от нечего делать заглянуть все посетители салона. Кто хотел, оставлял в нем рисунки и стихи, кто хотел – просто читал все написанное. Несколько страниц были испещрены размашистым, не слишком разборчивым почерком. Это были дневниковые записи Софьи Петровны, относящиеся к 1883 году.
Вообще‑то записи были весьма откровенными, и совершенно непонятно, почему они оказались всем доступны. Софья Петровна подробно рассказывала о своей жизни в доме отца в маленьком сибирском городке и о своем романе с неким политическим ссыльным. Человек тот был женат, однако ни Софья, ни он об этой жене и не вспоминали, несмотря на ее жалкие письма к «разлучнице». Между прочим, и Софья была в то время уже замужем за Кувшинниковым, но о нем‑то она вспоминала, постоянно терзаясь размышлениями, «отдаться ли всецело чувству» или вернуться к мужу. На почве этой раздвоенности она даже заболела. Наконец однажды вечером Софья получила взволнованную телеграмму от Дмитрия Павловича, который беспокоился о ее здоровье, и оставила в дневнике такую запись: «Мне все‑таки лучше; еду к личности, как мой Дмитрий, который именно бескорыстно, отрешаясь от своего «я», умел любить меня одиннадцать лет».
Поскольку Чехов был уже много лет знаком с Софьей Петровной, он, конечно, не раз заглядывал в маленький альбомчик и читал эти записи. Именно под их впечатлением он еще в 1886 году написал рассказ «Несчастье», героиню которого, изменившую мужу, сильному, добродушному, чернобородому Ильину (в чем и состояло, собственно, несчастье), назвал Софьей Петровной.
В ту пору это ему с рук сошло. Кувшинникова тогда еще только начинала свой салон и тщеславилась тем вниманием, пусть даже порой не слишком лестным, которое ей оказывали люди искусства, ею обожаемые. Да и вообще, она слишком любила свою эпатажную репутацию, чтобы обращать внимание на булавочные укольчики. Однако «Попрыгунью» можно было назвать ударом в самое сердце, к тому же нанесенным отнюдь не мизерикордией [26]26
В рыцарские времена кинжал особой формы, которым наносился «удар милосердия» смертельно раненному рыцарю.
[Закрыть], а просто‑таки топором!
Итак, перечитаем рассказ и взглянем на детали, в нем упомянутые, под новым углом зрения.
«Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий… В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.
Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что‑нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта… Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как‑нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук – все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому‑нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружила и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?»
Сюжет рассказа общеизвестен. Пустенькая замужняя дамочка в своей погоне за знаменитостями ударилась в адюльтер с известным художником.
«…Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где‑то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа… Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник… Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как‑то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы…»
Однако очень быстро эта скороспелая связь обоим наскучила.
«Рябовский… думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной… Одним словом, он был не в духе и хандрил.
Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что‑то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски‑жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой!.. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село».
Ольга Ивановна проглядела, что рядом с ней в облике кроткого, доброго, простоватого, безмерно снисходительного ко всем ее «мелким шалостям» мужа существовал великий врач.
Потом он умер, потому что высасывал через трубочку дифтеритные пленки у больного мальчика и заразился.
Коростелев, друг Дымова, говорит о нем: «Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти… подлые тряпки!»
В героине «Попрыгуньи» с ее «подлыми тряпками» множество людей с изумлением и смехом узнали Кувшинникову. Узнала себя и она.
Неважно, что Ольга Ивановна была молоденькой блондинкой, а Софья Петровна – не больно‑то молодой брюнеткой! Слишком много было ударов не в бровь, а в глаз – точных, справедливых и несправедливых, но все равно – безрассудно жестоких.
Главное, кто учил бы ее нравственности! Да кто угодно, но только не Чехов, который, по обыкновению, в путешествиях своих, в какой бы город ни прибывал, первым делом посещал там дом терпимости. И во время своего путешествия на остров Сахалин, сделавшего его пламенным трибуном и защитником справедливости, писал Суворину, издателю газеты «Новое время» и журнала «Исторический вестник», такие, например, «этнографические» письма: «С Благовещенска начинаются японцы или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво. Стыдливость японка понимает по‑своему. Огня она не тушит, и на вопрос, как по‑японски называется то или другое, она отвечает прямо… в деле выказывает мастерство удивительное, так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской… и где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь».
Помилуй бог, Софья Петровна его ничуточки не осуждала. Она думала, что и Чехов исповедует ее кредо, которое она выразила однажды в описании собственной жизни: «Жили шумно, разнообразно, часто необычайно, вне всяких условностей». Однако оказалось, что Чехов – это не Чехов вовсе, а какой‑то Тартюф!
Разумеется, грянул скандал. Антон Павлович пытался оправдаться. «Можете себе представить, – жаловался он в письме к писательнице Лидии Авиловой, – одна знакомая моя, 42‑летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».
Собственно, не только Софья Петровна увидела себя в кривом зеркале. Левитану тоже трудно было не узнать себя в Рябовском, даром что он сам был «волканический брюнет», а Рябовский – симпатичный блондинчик. Слишком много было рассыпано по повести его словечек. Слишком много деталей употребил Чехов, которые легко выдавали Левитана.
Ну а Дымов, великодушный, самоотверженный Дымов? Разумеется, это полицейский врач Кувшинников… Над которым, к слову, ехидный Чехов сам сто раз за глаза смеялся как над прекраснодушным рогоносцем, а теперь вдруг, глядите‑ка, бросился на защиту обманутого мужа!
Узнали себя и другие персонажи «Попрыгуньи» – постоянные посетители салона Кувшинниковой. «Певец из оперы» – это артист Большого театра Л. Д. Донской, «артист из драматического театра, отличный чтец» – актер Малого театра А. П. Ленский, «молодой, но уже известный литератор» – Е. П. Гославский. В барине, иллюстраторе Василии Васильевиче легко просматривался граф Ф. Л. Соллогуб. Прототипом доктора Коростелева послужил художник А. С. Степанов, задушевный приятель Дмитрия Павловича Кувшинникова…
Скандал разгорался. Левитан, вообще говоря, не слишком‑то злился, потому что слишком мало походил он на пустого и жестокого Рябовского. Он понимал (или уверял себя, будто понимает) природу художественного творчества, готов был оправдать Чехова, однако слишком сильна была обида Софьи Петровны. Он и ее жалел… И тогда написал гневное письмо Чехову – дело едва не дошло до дуэли.
Антон Павлович продолжал оправдываться, однако делал это безнадежно глупо:
– Моя попрыгунья молоденькая и хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода!
Но время шло и шло, новые сплетни и слухи поглотили внимание московской публики. Постепенно ссора между Левитаном и Чеховым сошла на нет, они были счастливы примирением, но Софья Петровна долго еще в душе сердилась на бывшего друга. Ну да, он так и остался для нее – бывшим. А скоро и этим остаткам дружбы придет конец!
Настанет и конец любви…
Но пока что не было людей ближе их в целом мире! Как и прежде, Софья Петровна присутствовала и при рождении всех замыслов картин Левитана, и при их воплощении.
…Однажды под вечер близ Городка Владимирской губернии Левитан и Софья Петровна вышли на какую‑то дорогу.
– Это знаменитая Владимирка – дорога на каторгу! – вспомнил Левитан.
Останавливаясь у креста, приткнувшегося на обочине, Софья продекламировала:
Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, –
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль…
А затем продолжила:
– У таких крестов делались привалы. Сколько здесь, на этом месте, пролито слез, сколько передумано безнадежного, отчаянного!
Вскоре Левитан написал свою знаменитую «Владимирку» и подарил ее Павлу Михайловичу Третьякову.
Спустя некоторое время Левитан с Софьей поехали на озеро Островное Вышневолоцкого уезда, в имение Ушаковых. Это была старая, запущенная барская усадьба. Хозяева были счастливы приезду московских гостей, рассказывали, что лучше посмотреть в окрестностях. Именно здесь Левитан написал свою знаменитую картину «Над вечным покоем». Он поставил мольберт в зале ушаковского дома. Тут же находился рояль, и Левитан просил Софью Петровну играть. Она не переставая перебирала на клавишах то ноктюрны Шопена, то хоралы Баха, то траурный марш из «Героической симфонии» Бетховена. Эту музыку Левитан хотел слышать больше всего. Эта музыка и мрак, воцарившийся в последнее время в его душе, сливались с торжественным и унылым пейзажем, который возникал на полотне.
Когда картину купил Третьяков, Левитан так и сказал:
– В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием.
Да, на душе у него в то время было муторно. Угроза выселения из Москвы за черту оседлости пугала страшнее, чем смерть. Но друзья отстояли Левитана, и сам московский градоначальник великий князь Сергей Александрович выразил ему свое расположение, навестив в мастерской. Однако страсть к страданию, любовь к унынию, покорность перед меланхолией надолго взяли верх в его душе.
Такое ощущение, что ему нужно было выразить свою печаль на полотне, чтобы отрешиться от нее. Выплеснул из себя прежние чувства и готов был встретиться с новым.
Оно, это новое, не заставило себя ждать. И опять обновление было связано с женщиной.
Имение Ушаковых лежало на холме, который возвышался направо от проезжей дороги. Налево от нее, тоже на холме, стоял густой бор, а в нем – имение Горка. Оно находилось на южной стороне озера. Озером до него ехать совсем близко, а дорогой чуть подальше. Горка была имением питерского сенатора Ивана Николаевича Турчанинова.
Турчаниновы владели землей где‑то с начала семидесятых годов (с 1873 года участок уже значился за ними). Вокруг двора стояли хозяйственные постройки: кухня, конюшня, погреб, баня. Вместо старого одноэтажного дома Турчаниновы срубили и поставили двухэтажный, обшитый досками и окрашенный в желтоватый цвет дом с мезонином. Вокруг было много цветов, особенно флоксов; росли белые и розовые розы. Позднее Левитан изобразил этот дом на картинах «Март» (1895) и «Осень. Усадьба» (1894). Один из островов на озере тоже принадлежал Турчаниновым.
Сам Турчанинов оставался в Петербурге, в Горку приехали только его жена и дочери: Варя, Соня (им было 20 и 18 лет) и четырнадцатилетняя Анечка по прозвищу Люлю.
Для Анны Николаевны Турчаниновой этот приезд был чем‑то вроде ссылки: Иван Николаевич, который был старше своей жены, отчаялся повлиять на ее романы с высокопоставленными чиновниками в Петербурге, успокаивая их жен. Он хлопотал только о том, чтобы имя Анны Николаевны не попало в столичные газеты. И это ему удалось. Далекий уголок в Островном был как бы спасением.
В то время в имении Ушаковых гостила Татьяна Львовна Щепкина‑Куперник, будущая знаменитая переводчица. Она так рассказывала о появлении новых лиц: «Это были мать и две очаровательные дочки – девушки наших лет. Мать была лет Софьи Петровны, но очень заботившаяся о своей внешности, с подведенными глазами, с накрашенными губами, в изящных корректных туалетах, с выдержкой и грацией настоящей петербургской кокетки (мне она всегда представлялась женой Лаврецкого из «Дворянского гнезда»). И вот завязалась борьба…
Мы, младшие, продолжали свою полудетскую жизнь, катались по озеру, пели, гуляли, – а на наших глазах разыгрывалась драма. Левитан хмурился, все чаще пропадал со своей Вестой «на охоте», Софья Петровна ходила с пылающим лицом, а иногда и с заплаканными глазами… И кончилось все это полной победой петербургской дамы и разрывом Левитана с Софьей Петровной…»
Да, Анна Николаевна влюбилась в Левитана с первого взгляда. Можно только дивиться, что на нее, искушенную, избалованную мужским вниманием даму, свободно перебиравшую любовников, произвел столь сокрушительное впечатление этот художник – правда, знаменитый, правда, очень красивый, но…
Кстати, еще раз повторим: Левитан был очень обаятелен и легко нравился женщинам, о чем говорили многие.
О. Л. Книппер‑Чехова писала: «Левитан был обаятелен; секрет его обаяния заключался в скромности и доброте, в чуткости и мягкости при большом уме и гениальной одаренности».
«Он был по своей сущности аристократом до мозга костей, в самом лучшем смысле слова, – вспоминал художник А. Головин. – Основной чертой Левитана было изящество. Это был целиком «изящный человек», у него была изящная душа… Встретишься с ним, перекинешься хотя бы несколькими словами, и сразу делается как‑то хорошо, «по себе», – столько было в нем благородной мягкости. К нему влеклись симпатии всех людей».
Им вторил М. П. Чехов: «У Левитана было восхитительное благородное лицо – я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал».
В Горке, видя вокруг столько молодых, прелестных, смеющихся лиц, воодушевленный недвусмысленным интересом, который к нему с первой минуты проявила Анна Николаевна, подстегнутый тем неприкрытым соперничеством, которое вспыхнуло между Турчаниновой и Софьей Петровной, Левитан целиком отдался этому незнаемому прежде блаженству: быть яблоком раздора для доброго десятка женщин. «Кокетничал» он от всей души со всеми подряд, с непосредственностью избалованного мальчика и в то же время с изощренностью записного ловеласа разжигая к себе интерес: то одаривал кого‑то своим вниманием, то переключался на другую, то оказывал предпочтение третьей, а потом отворачивался от всех и уезжал на этюды, где пропадал сутками, заставляя поголовно влюбленный «женский контингент» сходить с ума от беспокойства. Кокетничал он, кокетничал – ну и дококетничался…
Софья Петровна, видя, что возлюбленный все более откровенно предпочитает другую, понимая, что все между ней и Левитаном кончено, попыталась отравиться. Она напилась было серы, которую соскребла со спичек, но поблизости, на счастье, оказался доктор, гостивший у соседей, и Софью Петровну спасли. Левитан уехал с ней в Москву, отвез домой… Это был великодушный поступок.
Софья Петровна с нетерпением дожидалась утра, надеясь, что Левитан приедет к завтраку, и все пойдет, как шло раньше. Однако ей подали только письмо от него: «Между нами все кончено, я уезжаю в Горку. Простите меня…»
Жизнь Софье Петровне спасла неистовая вспышка ярости, которая заставила ее строчить вслед художнику письма, одно другого ядовитей. Это хоть немного отвлекло ее от горя, хотя изрядно испортило там, в Горке, жизнь Левитану, которому доставляли эти несчастные письма в самый разгар его счастливого романа.
Вернее, романов…
С одной стороны, Анна Николаевна была убеждена, что покорила художника, который с каждым днем становился ей все дороже. Как и она ему. Итак, рядом с ним снова оказалась сильная женщина, еще более сильная, чем Кувшинникова, более успешная, более уверенная в себе, а главное, несравнимо более привлекательная для Левитана, для которого неиссякающая чувственная фантазия имела огромное значение. В ее объятиях он ощущал себя покорным учеником, она играла на нем, как на флейте… Кстати, на флейте она тоже играла! Этому научил ее петербургский любовник, который много чего в жизни повидал, даже в Индии побывал, ну и там почерпнул кое‑какие полезные в жизни навыки.
Это было для Левитана таким неведомым открытием, таким острым ощущением!
Кроме того, он понимал (ну, может быть, не понимал, а чувствовал): время Софьи Петровны в его жизни прошло. Ему нужна новая муза – не хуже, не лучше, просто другая. Потому что только любовь способна вдохнуть молодую жизнь в его стареющие полотна. Поэтому совершенно не удивительно, что он, захлестнутый подавляющей чувственностью Анны Николаевны, еще находил время писать. Писать и писать, а также… кружить голову ее дочери Вареньке…
Строго говоря, Варенька сама возомнила бог весть что, пока ничего и не было. Еще уезжая сопроводить Софью Петровну, не уверенный, что когда‑нибудь снова вернется в Горку, Левитан подарил всем Турчаниновым пейзажи. Варе досталась пленительная пастель, изображавшая васильки в простой зеленой кринке. Васильки были ее любимыми цветами, и он это знал. Подписи всем он сделал шутливые, а Варе – серьезную: «Сердечному, доброму человеку В. И. Турчаниновой на добрую память. И. Левитан».
Ну ничего, ровным счетом ничего ни в надписи этой, ни во всем прочем не было такого, за что можно было зацепиться в надежде на любовное ошеломление! Однако ведь влюбленная женщина – сумасшедшая, которая всегда видит то, чего нет, а того, что по глазам бьет, заметить не в силах, да и не хочет… И когда Левитан все же вернулся в Горку – вернулся человеком, свободным от прошлого и готовым к будущему, – его ждали не только щедро открытые объятия Анны Николаевны, в которые он с восторгом бросился, но и письма Вареньки.
Эти письма таскала ему Люлю, которая его обожала. Процесс самого писания картин, процесс творчества производил на нее впечатление гипнотическое. Старшую сестру она тоже обожала, потому и помогала встречам двух обожаемых ею людей. И вот однажды Варенька, не в силах больше выносить ревность и ненависть к собственной матери, которая оказалась ее счастливой соперницей, поставила любимому ультиматум. Чем все это кончилось, видно из прелестного мемориального пассажа Михаила Чехова:
«Где‑то на одной из северных железных дорог, в чьей‑то богатой усадьбе жил на даче Левитан, он завел там очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться или инсценировать самоубийство, он стрелял себе в голову, но неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Павлович был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировали писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана. Брат Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, не знаю, но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной, ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в «Чайке».
Батюшки‑светы, ну сколь же многим был обязан Антон Павлович своему осмеянному в «Попрыгунье» другу и его любовницам! Право, можно подумать, что их предназначенье в том и состояло, чтобы не верными подругами художника быть, а навевать приступы вдохновенья желчному писателю!
Кстати, результатом поездки из Мелихова в Горку для Чехова стала не только «Чайка», но и прелестный рассказ «Дом с мезонином». Там столько сходства с ситуацией – при том, что Чехов маскировался, как мог, не желая новых обвинений в пасквилянтстве и не в силах больше ссориться с Левитаном. Он шифровался даже в деталях мельчайших, несущественных, сугубо географических: так, ошалевшую Вареньку Анна Павловна отправила в Петербург, а Мисюсь в рассказе уехала в Пензенскую губернию. Кроме того, Чехов, «поместив» своих героев в живописные островенские места и усадьбы у озера (их описание полностью совпадает с реально существовавшими домами), с первых строк своего рассказа «Дом с мезонином» умышленно отправляет нас в год 1891‑й, в усадьбу Богимово. Все ясно: не должно быть и намека на то, что прототипы – это Левитан и семья Турчаниновых!
И тем не менее ошибиться в том, кто здесь кто, мог только самый наивный человек. Лида Волчанинова, завзятая филантропка, – это Анна Турчанинова с ее склонностью к благотворительной деятельности; Мисюсь, прозвище которой немножко напоминает о Люлю, – это Варенька. Описание горящего в лучах заходящего солнца креста на колокольне точно соответствовало особенностям погибшей при пожаре местной церкви…
Но и в этом рассказе Чехов остался Чеховым. Анна Николаевна любила Левитана и была любима им. И, несмотря на это – или именно поэтому? – Чехов сделал Лиду Волчанинову просто отвратительной, ледяной, бессердечной. Все симпатии автора – и невольно читателя – на стороне Мисюсь, бедной, сосланной, не успевшей изведать предназначенного ей счастья из‑за беспощадной ревности сестры…
Ну что ж, возможно, конечно, что Чехов оказался здесь не просто желчным летописцем событий, но и провидцем истинной подоплеки случившегося. Именно поэтому ничто не повлияло на его вновь окрепшую дружбу с Левитаном.
Что бы ни думала Анна Николаевна об этом рассказе, она молча проглотила пилюлю. Может быть, она извлекла какие‑то уроки из горькой участи Софьи Петровны? Ведь Левитан так и не смог простить ей, что из‑за нее (вообще‑то из‑за ее любви к нему, но это детали!) он оказался замешан в публичный скандал и сделался героем московской сплетни?
А может быть, Анна Николаевна просто не читала этого рассказа?
Очень даже запросто.
Так или иначе, хотел ли Чехов их рассорить, нет ли, ему это не удалось. Анна Николаевна оставалась рядом с Левитаном всю его оставшуюся жизнь. Она же выхаживала его на пороге смерти, причем искала духовной поддержки в это время не у кого иного, а у Чехова!
«Что‑то будет, ужас закрадывается в душу, но я не унываю, – писала она 20 мая 1900 года. – Не верю, что не выхожу».
Не выходила.
Левитан умер от затяжной болезни сердца в июле 1900 года. Накануне смерти, уже не сомневаясь в ее приближении, он позвал к себе брата и с его помощью сжег все свои письма – свой архив, оборвав этим множество нитей, завязав множество узлов. Да еще и записку оставил: «Письма все сжечь, не читая, по моей смерти. Левитан». Это уж на всякий случай.
Писем практически не осталось. Готовя собрание сочинений Чехова к печати, Марья Павловна собирала считаные строки Левитана по всем друзьям и знакомым. Турчанинова отмолчалась. Брат Левитана был категорически против публикации, отказался участвовать в этой затее. И только Софья Петровна Кувшинникова щедро отдала признания влюбленного художника издателям.
Что руководило ею в это время? Последнее тщеславие? Желание даже в эти минуты доказать миру, что именно она сыграла определяющую роль в жизни великого художника? Но ведь это и так ясно, какие тут могут быть сомнения, как бы там ни ехидствовал в свое время Чехов в «Попрыгунье»…