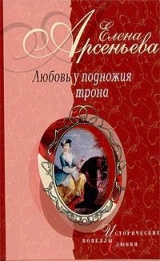
Текст книги "Любовь у подножия трона (новеллы)"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Он оставил при Екатерине сына, наказав, лишь только роды начнутся, послать к нему мальчика со словами: «Мы‑де ей больше не надобны». Сам же Шкурин поехал к себе, на окраину Петербурга, где жил в большой избе с женой и тремя детьми. Он отправил семью к родне, вывез на телеге весь домашний скарб, а сам, оставшись один в пустой избе, принялся «хозяйничать». Довольно нахозяйничавшись, он лег на пол и заснул, а проснулся от топота копыт: сын примчался из дворца верхом и прокричал:
– Государыня сказала, мы‑де ей больше не надобны!
Шкурин отправил его к прочей семье, а сам еще немного помешкал в доме. А когда вышел и сел на загодя оседланного коня, над крышею показались первые струйки дыма.
Шкурин знал, что император никогда не пропускает ни одного пожара в городе. Обер–полицмейстер немедленно посылал к нему гонца, чуть приходила весть о пожаре. Не помогать он, понятное дело, мчался – в нем была неистребимая детская страсть к созерцанию большого огня!
Так что Шкурин заранее был уверен в успехе, когда обещал императрице, что тайна ее будет сохранена. Он поджег свой дом ради этого.
К слову сказать, именно в ту ночь родился граф Алексей Бобринский. В детстве, до того, как уехать учиться за границу, он жил в доме все того же верного Василия Шкурина, и именно сын Шкурина сопровождал его в этой поездке. Тот самый мальчик–гонец!
Да, Екатерина могла заставить служить себе и любить себя…
Между тем заговорщики – в число их входили братья Орловы, несколько капитанов Измайловского полка, князь Михаил Иванович Дашков и его жена Дарья Романовна, в девичестве Воронцова (родная сестра императорской фаворитки, ненавидевшая ее), воспитатель наследника цесаревича Павла Никита Панин и другие – начали тревожиться о том, что, несмотря на императорское распутство, растет его популярность среди дворянства. Причиной тому стал Манифест о вольности дворянской, позволявший представителям благородных сословий не служить в государственной службе. Это было событием, от которого дворяне натурально плакали от радости. Однако императрица и близкий к ней кружок отлично знали, кто, как и почему написал этот документ! Этот случай мог бы относиться к числу исторических анекдотов, когда бы не был истинным.
Отправляясь как‑то на свидание с прекрасной Еленой Куракиной, император отговорился от скандальной султанши Воронцовой тем, что идет‑де со своим секретарем Дмитрием Волковым составлять новый манифест. Елизавета Романовна отпустила любовника добром, ну а он помчался к новой пассии, небрежно бросив Волкову:
– Ты давай там чего‑нибудь напиши, чтоб утром моей‑то показать!
С секретарем Петру повезло. Дмитрий Волков был умен, образован, надежен. Однако и он не знал, о чем следует писать. Но ведь приказ государя! И Волков вдруг вспомнил, как князь Роман Воронцов, отец фаворитки, по пьянке что‑то такое лопотал: негоже‑де благородным людям служить, надобно дать им поболе вольностей. Обрадовавшись, Волков в один присест создал великий документ и спокойно лег спать.
Все именно так и было, однако не станешь же всем и каждому объяснять подноготную! Отношение к императору среди дворян сменилось к лучшему, заговорщики встревожились. А тут еще заболела императрица. И ей немедленно стало известно, что в это время Петр обещал «девице Воронцовой» немедленно жениться на ней, коли Екатерина умрет. Это привело фаворитку в необузданный восторг. При всем этом не прекращались угрозы заточить немилую жену в монастырь, в тюрьму, сослать в ссылку…
Угрозы были страшны. Кто знает, быть может, если бы Петр их осуществил, и его судьба, и судьба России была бы иной. Если бы он был тираном, то остался бы жив. Однако… у него не хватило ни твердости, ни жестокости наказать жену и ее сторонников.
Это и стало причиной его гибели.
Тот обед 24 мая 1762 года, когда император публично опозорил жену и возвеличил фаворитку, стал толчком для заговорщиков. Ведь кара могла в любой миг обрушиться не только на императрицу, но и на ее любовника и его братьев. Екатерина, может быть, осталась бы жива, пусть и в заточении, однако Орловым непременно пришлось бы проститься с жизнью. То есть растопкой для костра этого комплота был и страх его основных участников.
А впрочем, какая разница?..
Между тем Петр никак не мог перестать восторгаться миром с Пруссией. 22 июня он давал еще один пышный ужин на пятьсот персон, потом был устроен фейерверк. Затем Петр с фавориткой отправились в Ораниенбаум. Это было место, где Елизавета Романовна царствовала всецело и безраздельно. Жене Петр приказал ехать в Петергоф и ждать его там. 29 июня предстояло отпраздновать день ее ангела, а Петр всегда был рад новому поводу повеселиться. И вот он примчался с Воронцовой в Петергоф – и узнал, что императрица уехала.
– Куда?
– Неведомо, государь.
– Зачем?!
– И сие неведомо…
И тут к императору приблизился какой‑то мужик, начал ломать шапку и падать на колени, а потом передал какую‑то бумагу. Это была записка от бывшего француза–камердинера Петра, и когда император прочитал ее, он несколько мгновений стоял как громом пораженный.
Елизавета Романовна вынула бумагу из его руки и, попытавшись вспомнить, чему ее учили в детстве, с пятого на десятое прочла о том, что Екатерина находится в Петербурге, где провозгласила себя единой и самодержавной государыней!
Пока Воронцова пыталась вникнуть в смысл этого невероятного сообщения, Петр принялся как безумный метаться по саду и дворцу, выкликал императрицу, искал ее по всем углам, а растерянные придворные бегали за ним, как куры за петухом, усиливая суматоху. Наконец истина стала доходить до собравшихся: кажется, император Петр Федорович, их господин и повелитель, более таковым не является…
А в это время в Петербурге «единой и самодержавной» императрице Екатерине и впрямь присягали на верность полки. Попытку сопротивляться сделали только преображенцы, которыми командовал Семен Романович Воронцов, брат фаворитки. Эта попытка кончилась ничем, и князь Семен впоследствии поплатился за нее пожизненной «почетной ссылкой» в Англию, куда был назначен послом.
Кругом кричали:
– Да здравствует императрица!
Громили дома приближенных Петра, особенно голштинцев. Одной из жертв сделались его дядя принц Голштинский и его жена. Их ограбили дочиста – вплоть до того, что из ушей принцессы вырвали серьги, – и крепко побили. Вот когда принц Георг, наверное, горько пожалел, что в свое время остановил племянника и не дал ему расправиться с Екатериной!
Однако повернуть время вспять было уже невозможно: Екатерина захватила власть в стране.
А что же Петр? Он двинулся в Кронштадт, чтобы отсидеться там и подождать, пока подойдут верные войска. Отправились на яхте и гребной галере. Прибыли в Кронштадт около часу ночи.
– Кто идет? – окликнул часовой с крепостной стены.
– Император.
– Нету больше никакого императора! Отчаливайте!
Женщины из свиты подняли крик и плач. Петр забился в трюм и под брань Елизаветы Романовны принял судьбоносное решение: воротиться в Ораниенбаум и оттуда вести переговоры с Екатериной. Он намеревался послать в столицу гонца, однако новая государыня сама отправилась в Ораниенбаум и вскоре прибыла туда вместе с гвардией. Вернее, впереди гвардии!
Екатерина и ее подруга Дашкова ехали верхом в мундирах Семеновского полка, их сопровождали солдаты, с большим удовольствием сбросившие ненавистную голштинскую форму и переодевшиеся в прежнюю.
Петр выслал парламентера с предложением о разделении власти. Это не устраивало Екатерину, ей нужен был только акт отречения.
Через час ожидания она его получила и отбыла в Петергоф, куда привезли бывшего императора с фавориткой – привезли как пленников. Екатерина послала к ним Никиту Панина, и Петр упал перед этим воспитателем своего сына на колени, принялся умолять не разлучать его с любовницей, а также оставить ему скрипку и трубку. Он рыдал как ребенок, и Елизавета Романовна рыдала, стоя перед Паниным на коленях и умоляя не разлучать ее с Петром.
Но их никто не слушал. Их оторвали друг от друга, когда они стали цепляться руками, словно перепуганные дети, которые напроказничали, но не чаяли, что наказание будет таким жестоким… Воронцову увезли в Москву, а Петру назначили для временного проживания дом в Ропше – под охраной.
Отсюда, из Ропши, брат фаворита Алексей Орлов и прислал 6 июля такое письмо императрице:
«Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась… Матушка – его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя! Он заспорил за столом с князем Федором Барятинским[59]59
Имеется в виду не адъютант императора, князь Иван Сергеевич, а двадцатилетний поручик.
[Закрыть], не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата!»
Григорий Орлов читал это, покачивая головой и втихомолку улыбаясь. Накануне он тоже получил от брата Алексея письмо:
«Урод наш занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтобы он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил…»
Ну вот он и не ожил.
Елизавету Романовну новая императрица не тронула – из благодарности к ее сестре Дарье Дашковой. Бывшую фаворитку выдали замуж за старшего советника Александра Ивановича Полянского, и в этом браке она дожила до самой смерти в 1792 году. Таким образом, как ни мечтала, как ни молилась, она не пережила свою старинную соперницу и разрушительницу своего счастья Екатерину, а покинула этот мир раньше ее. Рассказывают, что Елизавете Романовне удалось, несмотря на все обыски, сохранить портрет Петра Федоровича и одну из его трубок.
А куда подевалась его скрипка, сие никому не известно.
* * *
Каждый любит по–своему, ибо любовь многолика. Не стоит думать, что ею бывают поражены и ведо́мы только красавцы и красавицы, герои и благородные дамы. Сей дивный цветок произрастает во дворцах и в хижинах, в тайне и в бесстыдстве. Любовь живет в стаях львов и лебедей… однако и гиены, и змеи тоже бывают обуяны любовью.
Каждый любит как может, и каждая страсть достойна если и не поклонения, то хотя бы поминального молчания.
Черная шкатулка
(императрица Елизавета Алексеевна – Алексей Охотников)
Ненастной ночью 30 октября 1806 года из ворот одного неприметного дома на Сергиевской улице вышла невысокая полная дама и приблизилась к поджидающей ее карете. Двигалась она с трудом, дышала прерывисто, словно от крайней усталости. Ее провожал худощавый человек, в котором с первого взгляда можно было узнать врача, да не просто врача, а именно полкового лекаря.
– Прощайте, доктор, – пробормотала дама чуть слышно, и стало ясно, что она едва сдерживает слезы. – Не забудьте же дать мне знать потом… когда все закончится.
– Все закончится не позднее чем завтра днем, – угрюмо ответил тот, кого назвали доктором. – Я не стану посылать вам никаких вестей, простите великодушно. Ни к чему это. И лучше вам здесь больше не показываться, го… – Он замялся, запутался в словах, а потом повторил с почтительным полупоклоном: – Лучше вам здесь больше не показываться, госпожа.
Из‑под края шали, низко надвинутой на лоб, блеснули измученные глаза. Вдруг она покачнулась и положила руку пониже груди.
Доктор вздохнул: дама была беременна – этим и объяснялась ее полнота. Роды, по всему, могли начаться в любую минуту, ей ни в коем случае не нужно было выходить в такую пору из дому и приезжать сюда!
Однако он понимал, что именно сегодня дама не могла не приехать.
Доктор открыл дверцу кареты и помог женщине взойти туда. Она сразу откинулась на спинку сиденья, закрыла лицо одной рукой – и дала волю слезам. В другой руке она держала небольшую черную шкатулку. Доктор знал о содержимом этой шкатулки. Там лежали письма этой женщины, которые она писала тому, кого любила. Тому, с кем приезжала нынче проститься – и простилась навеки, ибо жизнь его закончится не позднее завтрашнего дня…
Тот человек вернул ей письма, ибо они были опасны для ее репутации. А может быть, даже и для ее жизни.
Доктор хотел еще что‑то сказать, но говорить уже было нечего. И утешить ее нечем. Он молча поклонился и хлопнул дверцей. Приказал кучеру:
– Поезжайте! – и еще какое‑то время смотрел вслед канувшей в темноту карете, прислушивался к удалявшемуся стуку колес.
Потом запер калитку и вернулся в дом. Старый слуга стоял на коленях в столовой и тоскливо бормотал молитву, то и дело отбивая земной поклон.
– Господи, помилуй раба твоего Алексея! – донеслось до слуха доктора.
Нет, молитвы были напрасны, как и все остальное… И тихий плач кухарки, доносившийся из глубины дома, уже не мог никого разжалобить.
Доктор вошел в комнату, освещенную одной только свечой, и вгляделся в лицо лежавшего на диване человека. Он был в красном парадном мундире кавалергарда. Мундир оказался расстегнут: слишком уж толстая повязка стягивала тело человека, крючки не сходились.
Но даже и эта повязка беспрестанно намокала кровью…
Казалось, раненый был без памяти. Глаза закрыты, бледные пальцы стискивали прядь тонких пепельных волос. Доктор вспомнил шаль, накинутую на голову уехавшей дамы. Прядь была такая длинная… а вдруг кто‑то заметит, что у нее срезаны волосы?
А впрочем, доктор знал, что для нее это уже не имело никакого значения.
Ничто вообще не имело теперь значения! Кроме, может быть, жизни ребенка, который вот–вот родится.
Одна жизнь уйдет, другая возникнет. Так бывает всегда. Так будет всегда. И слава Богу!
Доктор осторожно взял свободную руку кавалергарда и попытался сосчитать пульс. Запястье было влажным от холодного пота, пульс почти не прощупывался.
Он склонился к раненому. Боже, какие тени залегли вокруг его век, как обметало губы! За несколько минут лицо сделалось неузнаваемым.
Кажется, доктор ошибся, когда сказал гостье, что это кончится не позднее завтрашнего дня. Не позднее утра – вот когда это кончится!
– Ты здесь, друг мой? – раздался чуть слышный шепот, и доктор увидел, что кавалергард открыл глаза.
Они были черные, непроглядные. Как ночь. Как вселенская ночная тьма, которая уже смотрела в лицо умирающему!
– Здесь, успокойся, – отозвался доктор со своей обычной угрюмой манерой. Ну что поделаешь – он вообще был человеком невеселым, а в этом доме, где доживал последние минуты его лучший, единственный друг, не могло быть места даже для тени улыбки.
Нет, он ошибся! Именно она, тень улыбки, вдруг мелькнула на пересохших губах кавалергарда:
– Скажи, чтобы этот локон… в медальон… и чтобы кольцо, ее кольцо… со мною…
Он едва выговаривал слова, но доктор все понял.
– Все исполню, Алеша, не тревожься, – кивнул истово. – Ты помолчи лучше.
– Ни–че–го, – выдохнул умирающий. – Скоро… намолчусь…
Настала тишина. Доктор видел, что мундир теснит дыхание Алексея, и хотел предложить снять его, но вспомнил, как раненый несколько раз терял сознание от боли, пока его в этот мундир обряжали, – и ничего не сказал. Это последнее тщеславие умирающего могло показаться смешным, а впрочем, доктор понимал: ту женщину, которая приезжала сюда, его друг не мог встретить в одной рубахе, лежа в смертной постели. Алексей хотел, чтобы она навеки запомнила его таким, каким увидела когда‑то впервые: в блестящем кавалергардском мундире.
Ну что ж, пусть теперь останется как есть. Недолго уже…
Ему хотелось сказать что‑то на прощание Алексею, чем‑то утешить его, напомнить о будущем ребенке, ну хоть как‑то скрасить эти последние мгновения жизни, но он не успел. Раненый вдруг с неожиданной силой приподнялся и блестящими глазами уставился на дверь.
– Она идет, – выдохнул он. – Она вернулась! Я слышу ее шаги! – И он воскликнул так громко и ясно, словно был совсем здоров: – Жена моя! Мой Бог, Элиза! Любимая!
И голос его пресекся, потому что он ошибся.
Это не его любимая вернулась. Это Смерть пришла за ним.
Между тем карета остановилась в одном из укромных переулков позади Зимнего дворца. Кучер подождал, пока дама осторожно спустилась с подножки, и хлестнул коней. Таков был полученный им приказ.
Дама медленно шла знакомой дорогой ко дворцу. Сколько раз она проходила этим путем за минувшие два года! Вон там, за углом, где боковая калитка, ведущая во двор, стоит преданный ей часовой. Он многое видел, может быть, кое‑что знает, о чем‑то догадывается. Но когда дама пройдет мимо него, он останется недвижим. Он сделает вид, что не заметил ее, что это была вовсе не женщина, а призрак. Ему и в голову не придет отдать ей почести, взять на караул, выкрикнуть приветствие, хотя мимо него сейчас медленно, едва волоча ноги и с трудом сдерживая рыдания, проходила российская императрица Елизавета Алексеевна. Жена императора Александра I.
* * *
…Неужто прошло уже одиннадцать лет с тех пор, как юная баденская принцесса Луиза–Августа, сияющая красотой и юностью, вдохновленная самыми радостными ожиданиями, прибыла в Петербург, чтобы выйти замуж за пятнадцатилетнего великого князя Александра – будущего наследника российского престола? Да, это произошло ровно одиннадцать лет назад – 31 октября 1793 года. Луизе тогда было четырнадцать, и приближенные Александра пришли в восторг от ее нежной красоты. Императрица Екатерина Великая, устроившая этот брак, осталась довольна красотой невесты и ее умом. Родители Александра, великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Федоровна, также смотрели на нее с умилением. Но куда важнее было то, что она понравилась Александру, а он понравился ей. Они были похожи друг на друга: нежные, белолицые, светловолосые, с голубыми глазами. Казалось, это обручаются два ангела!
«Как только мы остались в комнате одни, он меня поцеловал, а я его. И теперь, думаю, так будет всегда!» – радостно писала невеста матери.
Все сулило им счастье… все обмануло их.
Луиза, которая теперь звалась Елизаветой, не могла бы назвать день, когда поняла, что ожидание любви, готовность к ней никогда не перейдет в любовь. Днем им было легче – они были просто друзьями, к тому же надо было соблюдать некий декорум под взглядами придворных. А ночи… ночи приносили печаль и стыд, потому что юные супруги не знали, что им делать друг с другом и со своими собственными незрелыми, не искушенными в желаниях телами. В огромной постели под величественным балдахином они старались держаться как можно дальше друг от друга, и постепенно между ними нагло улеглось Разочарование. Нагрело себе местечко. Устроилось надолго…
Навсегда.
Может быть, все еще и уладилось бы, кабы каждого из них не подстерегали со всех сторон искушения, кабы придворная жизнь не мучила ревностью неокрепшие, не умеющие любить души. Платон Зубов, молодой любовник императрицы Екатерины, смотрел на Елизавету с нескрываемым вожделением. Что с того, что она никогда не подавала ему повода, что боялась его и старалась избегать? Александр ревновал и дулся, держался с ней холодно, упрекал в том, в чем упрекать не следовало, а то и вовсе замыкался в высокомерном, молчаливом презрении. Это оскорбляло его юную жену, она ощущала себя непонятой, заброшенной. Разве удивительно, что ее потянуло к другу Александра, поляку Адаму Чарторыйскому, бывшему всего на несколько лет старше ее мужа, но при этом такому опытному, умному, понимающему, чуткому… такому ослепительно красивому? И он был влюблен, безумно влюблен в Елизавету, все в ней восхищало его: каждый ее шаг, каждый вздох, звук ее голоса, смех, фигура, глаза… Он весь начинал светиться при встрече с ней, в то время как Александр всем своим обликом выражал неистребимую скуку. И все же Елизавета была женой своего мужа, мысль о том, чтобы ответить на нескрываемую страсть прекрасного Адама, казалась ей кощунственной. Она великая княжна! Она будущая императрица! Что с того, что великая Екатерина никогда не скрывала своих любовников? Она незамужняя женщина. Она повелительница, которая устанавливает законы и задает тон жизни. Ей можно все! Но Елизавета – кто она такая? А вдруг ухаживания Адама станут кому‑то известны? Впрочем, о них и так уже говорят. Но Елизавете нечего стыдиться, она не виновата перед мужем.
Она невыразимо обрадовалась, когда узнала, что беременна. Какое счастье! Значит, их с Александром неуклюжие, торопливые, почти стыдливые прикосновения все же принесли свои плоды. Будет ребенок… наверняка он привяжет их друг к другу. После его рождения их отношения изменятся, и, может быть, вернется та любовь, которую они когда‑то испытывали?
Однако рождение дочери Марии стало для Елизаветы страшным ударом.
О нет, она с восторгом смотрела на свое очаровательное дитя. Но остальные… все до одного, начиная с императора Павла и его жены и кончая последней фрейлиной, видели не милую, чудную девочку. Они видели только ее глаза и волосы. Черные глаза и темные волосы!
Александр смотрел в голубые глаза жены своими голубыми глазами и молчал. Угрюмо молчал… А Павел Петрович не постыдился во всеуслышание вопросить:
– Как может у светлоглазых и светловолосых супругов родиться черноволосый и черноглазый ребенок?!
– Господь всемогущ, – растерянно пробормотала в ответ фрейлина Шарлотта Ливен.
И больше никто ничего не решился сказать в защиту Елизаветы и ее чести. И даже она не напомнила императору о том, что он ничем, ни единой черточкой лица и тем паче – этим нелепым курносым носом не напоминает своих родителей. Почему? Потому что Господь всемогущ! Однако что дозволено Юпитеру…
Потом Елизавете чудилось, что ее дочь умерла не от воспаления мозга, а просто задохнулась в атмосфере всеобщей подозрительности и недоброжелательства. Мари едва прожила год. Александр не утешал жену в ее горе. Может быть, он даже вздохнул с тайным облегчением при этом известии… Тем паче что теперь он стал императором после государственного переворота 11 марта 1801 года. И чуть ли не первое из того, что сделал новый император, было появление у него официальной фаворитки. Впрочем, извиняло Александра лишь одно: он и впрямь по уши влюбился в ослепительно прекрасную Марию Нарышкину…
А Елизавета пыталась хоть как‑то скрасить то унылое одиночество, на которое она отныне была обречена. Теперь они с Александром появлялись рядом только на официальных церемониях. А Мария Нарышкина не стеснялась на балах подходить к императрице и томно жаловаться на то, что, кажется, беременна… Как будто Елизавета не знала, от кого именно та беременна!
О нет, она не бросилась искать утешения в мужских объятиях, хотя знала, что многие мужчины смотрели на нее с восторгом. Например, на недавнем выезде в Царское Село какой‑то высокий кавалергард уж так пялился, так пялился… Елизавете чудилось, что с той стороны, где он стоял, у нее щека загорела, как будто она слишком надолго повернулась к солнцу.
Она запомнила его, потому что он был очень красив. Это и понятно – в кавалергардский полк брали только исключительных, отборных молодцов! Но красота его была совсем иной, чем красота богоподобного Александра, покинувшего жену ради другой женщины. Этот юноша – на вид ему было лет двадцать пять, не больше, чем самой Елизавете, – был не гордый, не надменный. Он был… добрый. С хищным профилем, с темными, дерзкими губами и еще более дерзким взглядом пламенных черных глаз – а все‑таки добрый. И застенчивый. Когда их глаза встретились, он покраснел, будто невинная девица!
Странно он как‑то смотрел. А может, не странно, а презрительно? Может, он знал, что императрицу бросил муж, – вот и поглядывал пренебрежительно, понимая, что ее, маленькую, тоненькую, невзрачную, совершенно не за что любить. То ли дело роскошная Нарышкина, при виде которой все теряют дар речи! А она… брошенная жена! Ничтожество.
Елизавета постаралась больше не думать о красавце–кавалергарде, как вдруг… как вдруг столкнулась с ним лицом к лицу. На сей раз это произошло не во дворце, а в доме княжны Натали Шаховской. Это была подруга и бывшая фрейлина Елизаветы. Вот–вот она должна была стать княгиней Голицыной, и Елизавета решила навестить ее накануне свадьбы.
– Позвольте представить вам моего кузена, – торопливо сказала Натали, украдкой пихая в бок молодого человека, который при виде государыни превратился в соляной столб. – Это Алексей Яковлевич Охотников. А тебя, Алексис, прошу помнить, что это частный визит. Совсем незачем тянуться во фрунт перед дамой!
Голос Натали дрожал от еле сдерживаемого смеха. Она вообще любила посмеяться, а кузен Алексис был на редкость удачным объектом для насмешек. Вот уже семь лет он живет в Петербурге и находится под присмотром своей бойкой светской кузины. Служит, благодаря протекции ее и ее жениха, в самом блестящем полку, бывает при дворе, однако не разучился столбенеть от робости при виде хорошеньких женщин. А между тем они, увидев его, вовсе не столбенели, а начинали страшно суетиться. Ого, как дамы бегали за ним! Натали это отлично знала – сколько раз ее дружбы вдруг начинали искать весьма знатные особы. И все ради того, чтобы свести знакомство с Алешкою. Ну что ж, он недурен собой, ничего не скажешь. Хотя Натали видела мужчин и покраше. Все дело в этих его чертовских глазах. А он словно и не знает их силы, так и норовит потупить, отвести в сторону. Впрочем… впрочем, от императрицы он их как раз не отводит!
Она почуяла неладное и испугалась, как бы Елизавета, которая последнее время не выносила повышенного внимания к своей особе, не обиделась на Алешку.
– Мадам, не будьте так уж строги к несчастному деревенщине, – сказала она со своей шаловливой усмешкой, против которой, Натали это знала, никто не мог устоять. – Я вот уже седьмой годок пытаюсь его обтесать, да никак не удается. Каким он был воронежским помещиком с тремя тысячами душ, таким и остался. Сам бы он, конечно, ни за что не решился променять милую его сердцу глушь на столицу. Пусть спасибо скажет Пьеру – это мой второй кузен, – пояснила она, – своему братцу. Ах, царство ему небесное! – Натали перекрестилась – без малейших, впрочем, признаков горя. – Пьер не выдержал петербургской сырости. Не сомневаюсь, что Алешка тоже очень скоро заплесневел бы в своем Сенате, где он пристроился на должность регистратора, да, к счастью, нам с князем удалось оказать ему протекцию. Умоляю вас, мадам, взгляните на эту несчастную физиономию. Вдруг да увидите его на параде или в карауле – и узнаете своего знакомца!
– Я уже видела господина кавалергарда прежде и отлично его запомнила, – неожиданно сказала Елизавета. – На выезде в Царское Село, две недели… нет, три недели тому назад.
Она тут же прикусила язычок, негодуя на свою неосторожность, однако было уже поздно. Глаза у Натали стали большие–большие… А глаза Алексея… ого, каким огнем сверкнули они!
И тут же он опустил ресницы, словно испугался смутить императрицу этим слишком откровенным взглядом.
Но он опоздал. Потому что Елизавета уже смутилась. И испугалась куда больше, чем он.
Теперь главное было – удержать себя и не всматриваться слишком пристально в лица кавалергардов, которых она встречала во дворце. Елизавета нарочно опускала глаза, проходя мимо них, она принимала самый неприступный вид, однако она могла бы даже зажмуриться, но каким‑то непостижимым образом видела Алексея. Вернее, ощущала его присутствие. И безошибочно могла угадать, что он смотрит на нее. Потому что, стоило им встретиться, он уже не отводил от нее глаз.
Бог весть сколько это длилось, месяц или больше, но Алексей вдруг исчез. Она украдкой ломала пальцы, искала его взглядом – и не находила. С самой веселой улыбкой, какую только удалось изобразить, спросила у Натали, как поживает ее воронежский кузен.
– Воронежский кузен уехал в Воронеж, – ответила подруга, исподтишка разглядывая побледневшее лицо императрицы. – Мальчонка заболел. Горячка.
И мгновенно лицо Елизаветы запылало так, словно это у нее вдруг сделалась горячка. А Натали подумала, какая же она была дура, когда так настойчиво отсылала Алексея в деревню да еще советовала ему как следует развлечься там с хорошенькими пейзанками. Надо немедленно написать ему, чтобы возвращался! Как можно скорее послать нарочного!
Спустя несколько дней Елизавета возвращалась в свои покои после затянувшегося концерта заезжего итальянского скрипача. Дежурные кавалергарды вытянулись при ее приближении. Елизавета покачнулась, когда увидела около своей двери Алексея.
Он вернулся!..
И снова это ощущение открытого огня, который касается ее лица, стоит им только встретиться глазами.
Она не могла заставить себя раздеться, лечь в постель. Почему‑то бессмысленно высчитывала в шагах расстояние от своей постели до двери, мерила шагами фрейлинскую комнату, которая отделяла ее покои от коридора. Кто там сегодня дежурит? Как ни напрягалась, Елизавета не могла вспомнить даже лица девушки, мимо которой только что прошла.
Она наконец‑то разделась и легла, отпустив горничную. Потом вдруг вскочила и, едва накинув пеньюар, выглянула в комнату фрейлины, хотя могла бы вызвать ее звонком.
– Милая… – нет, не вспомнить фамилию! – я кое‑что забыла. – Она вернулась к бюро, схватила перо, бумагу и написала несколько строк. – Пойдите пошлите человека к Мари Толстой, скажите, что я отменяю нашу прогулку. – Она отчего‑то говорила избыточно подробно. – Мы намеревались поехать кататься тотчас после завтрака, но у меня… я ей после напишу, когда мы поедем.
Фрейлина, которая уже уверилась, что императрица спит, и сама приготовилась прикорнуть в кресле, вытаращила глаза, услышав этот откровенный бред. Да что за беда? Отчего надобно предупреждать графиню Толстую, бывшую фрейлину, о перемене намерений императрицы? А главное, почему непременно нынче же?! Разве нельзя сообщить завтра?
Но она не осмелилась и слово сказать поперек, увидев, как лихорадочно горят щеки у императрицы. Ладно, разве трудно пройтись по дворцу до помещения курьеров? Долг прежде всего.
Она взяла письмо, присела перед государыней и выскользнула в коридор.
Елизавета отошла к алькову. Дверь, ведущую из своей спальни в комнату фрейлин, она оставила незапертой.
Почему? Почему оставила?
А, ну да. Девушка вернется и скажет, отправила ли посыльного. Елизавета объясняла это себе так же старательно, как только что оправдывалась перед фрейлиной.
Объясняла – но не верила ни единому своему слову.
Кровь застучала у нее в висках… дверь вдруг распахнулась. На пороге стоял Алексей Охотников.
Елизавета стиснула на груди кружево пеньюара. Она хотела изобразить возмущение, хотя бы вопросительно поднять брови, но только и могла, что закрыть глаза.
Зачем притворяться? Он все знает, все понимает – она чувствовала это, была убеждена в этом. Он знает, что императрица нарочно услала фрейлину прочь.
Но ведь девушка может вернуться в любую минуту. Что же он медлит?!
Она не сказала ни слова, только вздохнула нетерпеливо. В то же мгновение Алексей бросился к ней и с такой силой захлопнул ногой дверь опочивальни за своей спиной, что изящная золоченая щеколда упала сама собой.








