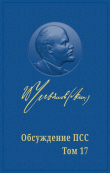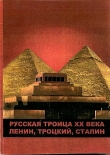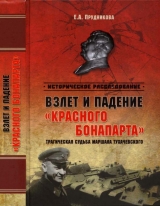
Текст книги "Взлет и падение "красного Бонапарта". Трагическая судьба маршала Тухачевского"
Автор книги: Елена Прудникова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
… Оченьсерьезной организацией был «Русский Общевоинский союз» (РОВС), созданный бывшими белогвардейцами в 1924 году. Эта крупная организация объединяла около 30 тысяч бывших военных. Формальным главой РОВСа являлся главнокомандующий русской армией за границей барон Врангель, что придавало Союзу некоторый оттенок легитимности. Фактическим же лидером организации стал генерал Кутепов.
С самого начала деятельность Союза мыслилась как временный перерыв в гражданской войне в ожидании нового похода. РОВС, по замыслу его основателей, должен был представлять собой армию, переведенную на гражданское положение, разбросанную по разным странам, но сохранившую структуру и иерархию подчиненности, дисциплину, традиции. Всевозможные учебные курсы, свои органы печати помогали держать наличный состав Союза в боевой готовности. Неофициальным органом РОВСа был журнал «Часовой», основанный в 1929 году и просуществовавший до 1989 года.
Отделения РОВСа охватывали весь мир. Первый отдел – Франция с колониями, Италия, Польша, Дания, Финляндия, Египет. Второй отдел – Германия, Венгрия, Австрия, Данциг, Литва, Латвия, Эстония, Англия, Испания, Швеция, Швейцария, Персия. Третий отдел – Болгария и Турция. Четвертый – Югославия, Греция и Румыния. Пятый – Бельгия, Люксембург. Шестой – Чехословакия. Были и отделы на Дальнем Востоке во главе с генералом Дитерихсом, в Северной и Южной Америке, отделение в Австралии.
Так как возобновление гражданской войны затягивалось, генерал Кутепов сделал ставку на подпольную работу и террор, тем более что из СССР поступали сведения о мощной монархической организации, которая только и ждет помощи и руководства из-за границы. Генерал Врангель не поддержал подобные методы, опасаясь ОГПУ, – и был абсолютно прав. Опробовав метод создания подставной подпольной организации еще на Савинкове («Синдикат»), ОГПУ начало игру против РОВСа. Самой известной из операций этой игры стал пресловутый «Трест». В 1927 году один из «трестовцев», агент ОГПУ Опперпут, бежал за границу и разоблачил подставу. Для эмиграции это сообщение стало потрясением. До сих пор неясно, входило ли это разоблачение в планы ОГПУ или нет, порвал Опперпут с чекистами или оставался их агентом и после побега.
Пока существовал «Трест», его люди всячески удерживали эмиграцию от активных террористических действий в России. После разоблачения игры при РОВСе тут же возникает Союз национальных террористов во главе с Марией Захарченко-Шульц, известной по фильму «Операция «Трест»». (Кстати, фильм очень корректный и снят близко к реальности.)
Внутри страны организация Кутепова действовала в двух направлениях. Первое – установление связей с офицерами Красной Армии (многие из них были кадровыми офицерами царской армии, однокашниками и однополчанами ровсовцев) и подготовка военного переворота в Москве. Второе – так называемый «средний террор» (против советских и партийных учреждений.)
В союз ровсовских террористов, по воспоминаниям его активистов, входило около трех десятков боевиков. (На самом деле их было больше, однако конспирацию генерал Кутепов поставил неплохо.) Но даже три десятка – это немало, учитывая, что это люди, прошедшие войну и спецподготовку в эмиграции, пользующиеся полной поддержкой спецслужб сопредельных с Россией государств и не стесненные в средствах, прекрасно ориентирующиеся на русской территории… По открытым источникам можно вычленить следующие «походы» ровсовских боевиков в Россию:
7 июня 1927 года бывший капитан белой армии Виктор Ларионов, Дмитрий Мономахов и Сергей Соловьев бросили гранату в зале Ленинградского партклуба на Мойке. В это время в партклубе некто Ширвиндт, представитель философской секции научно-исследовательского института, читал лекцию об американском неореализме. В результате взрыва было ранено 26 человек, из них 14 – тяжело. Все террористы благополучно вернулись назад. При чем тут американский неореализм, так никто и не понял.
4 июня 1927 года Мария Захарченко-Шульц, Эдуард Опперпут и Юрий Петерс пытались взорвать здание общежития ГПУ на Малой Лубянке – неудачно. Бежали к западной границе, по дороге убили шофера и ранили несколько человек, но и сами погибли.
14–22 августа 1927 года Александр Болмасов, тоже бывший капитан царской армии, и Александр Сольский прошли по маршруту Финляндия – Карелия по направлению к Киеву с целью совершить там несколько террористических актов. С начала 20-х годов Болмасов восемь раз нелегально переходил границу. Девятый стал для него роковым. Оба были арестованы и через месяц расстреляны в Ленинграде.
14–26 августа 1927 года Александр Шорин и Сергей Соловьев шли по тому же маршруту. По дороге они убили лесника, но и сами чуть позже были убиты около Петрозаводска. В том же августе с территории Латвии границу перешли бывший мичман Николай Строевой, Василий Самойлов и Александр фон Адеркас. Строевой четыре раза нелегально бывал в СССР, а Самойлов – дважды. Все трое были арестованы. Строевой и Самойлов по одному процессу с Болмасовым и Сольским приговорены к высшей мере и расстреляны, Адеркаса приговорили к десяти годам. На суде выяснилось, что оружие и бомбы подсудимые получили от капитана финской армии Розенстрема, начальника разведки Второй дивизии. Он же обеспечил их и проводниками.
Как сообщала советская разведка, «в 1927 году Кутепов перед террористическими актами Болмасова, Петерса, Сольского, Захарченко-Шульц и др. был в Финляндии. Он руководил фактически их выходом на территорию СССР и давал последние указания у самой границы. По возвращении в Париж Кутепов разработал сеть террористических актов в СССР и представил свой план на рассмотрение штаба, который принял этот план с некоторыми изменениями. Основное в плане было: а) убийство Сталина; б) взрыв военных заводов; в) убийство руководителей ОГПУ в Москве; г) одновременное убийство командующих военными округами – на юге, востоке, севере и западе СССР. План этот, принятый в 1927 году на совещании в Шуани, остается в силе. Таким образом, точка зрения Кутепова на террористические выступления в СССР не изменилась. По имеющимся сведениям, Кутепов ведет «горячую» вербовку добровольных агентов, готовых выехать в СССР для террористической работы».
4 июля 1928 года Георгий Радкевич и Дмитрий Мономахов прошли через Финляндию в Москву и 6 июля бросили бомбу в бюро пропусков ОГПУ. Обнаружены около Подольска. Радкевич застрелился, Мономахов сумел уйти.
31 мая – 25 июня 1928 года. «Бубнов» и «Могилевич» (настоящие имена неизвестны) совершили попытки покушения на Бухарина, Крыленко, взрыва здания МОПР. Все попытки неудачны. Оба террориста благополучно вернулись. Интересно, что одновременно на Бухарина вел охоту некий прибывший с территории Польши молодой человек. Столь усиленное внимание к персоне Николая Ивановича явно объясняется не его личными достоинствами, а тем, что он в это время возглавлял Коминтерн и считался крупным политическим деятелем. Не найдя Бухарина, юноша совершил-таки настоящий теракт: застрелил одного из руководящих работников Политуправления РККА.
В 1929 году несколько боевиков пытались пробраться в СССР с территории Польши. Этими группами руководил генерал-майор Харжевский. В октябре 1929 года в СССР проникли Александр Анисимов (трижды ходивший ранее), Владимир Волков и Сергей Воинов. В ходе рейда Анисимов застрелился, а Волков и Воинов вернулись в Польшу. Через месяц они вновь ходили в СССР. В декабре 1929 года перешел границу, был арестован и расстрелян бывший капитан Трофимов.
Это лишь те случаи, которые стали известны – очень малая, надводная часть айсберга. Например, эмигрантский автор Николай Виноградов в газете «Перекличка» за 1963 год сообщил, что Захарченко-Шульц и Ко убили в том же году «главу минского ОГПУ Опанского, Наимского в Петербурге, Турова-Гинзбурга под Москвой, Орлова в самой Москве». Следов Наинского и Орлова найти не удалось, однако Туров-Гинзбург оказался персоной весьма интересной. Длительное время он был агентом иностранного отдела ОГПУ в Германии, а также человеком, через которого на Запад переправлялись деньги и драгоценности для финансировании компартий. Что же касается Опанского, то странным образом его гибель пришлась на тот самый день, 7 июня 1927 года, когда произошел взрыв на Мойке и убийство в Варшаве советского полпреда Войкова. Может, у них в РОВСе был какой-нибудь праздник?
В 1924 году в Болгарии под руководством капитана Клавдия Фосса была сформирована тайная организация «Долг Родине», трансформировавшаяся в 1927 году в так называемую «внутреннюю линию» ровса. Эта организация также активно занималась засылкой людей в СССР, морем и через Румынию, и, похоже, гораздо более успешно, нежели это делалось на финском, прибалтийском и польском направлениях.
Чекисты относились к РОВСу очень серьезно и уделяли ему не в пример больше внимания, чем другим организациям. ОГПУ имело в окружении Кутепова своих людей. Узнав, что неудачи 1927–1928 годов не остановили неукротимого генерала, ОГПУ организовало похищение и убийство генерала Кутепова (по версии КГБ, опубликованной в открытой печати, он умер от сердечного приступа на судне во время транспортировки в Новороссийск).
Преемник Кутепова генерал Миллер, поначалу свернувший террористическую и шпионскую работу РОВСа, постепенно снова возобновил ее. Объяснялось это достаточно просто: спонсоры куда более охотно давали деньги под террор, чем под прочие виды деятельности. Кроме того, ровсовцы рассматривали своих террористов как детонатор будущего взрыва, который должен смести большевистскую власть с лица земли. В секретных документах РОВСа, которые стали известными ИНО ОГПУ, организация ставила перед руководством террористов задачу подготовки кадров для ведения партизанской войны в тылу Красной Армии в случае войны с СССР.
Итак, Миллер постепенно вернул организацию на прежний курс. Под руководством генерала Головина в Париже и Белграде были созданы курсы по переподготовке офицеров РОВСа, своеобразная «Академия Генштаба в изгнании». На курсах также проходила обучение военно-диверсионному делу эмигрантская молодежь. В 1931–1934 годах ОГПУ удалось захватить и обезвредить 17 террористов, заброшенных в СССР, и вскрыть 11 явочных пунктов в Москве, Ленинграде и Закавказье. Естественно, не все попытки проникнуть в страну приводили к арестам – часть людей, выполнив поставленную задачу, благополучно возвращалась.
В Белграде были созданы унтер-офицерские курсы для подготовки молодежи, а во Франции подготовкой диверсантов занималась сформированная Миллером в 1934 году организация «Белая идея». Она же организовывала переброску боевиков через финскую границу. Руководил ею капитан Ларионов, тот самый, что бросил гранату в помещении партклуба. Чекисты предприняли ответные меры, и в 1937 году Миллер был похищен, вывезен в СССР и позднее расстрелян.
Организаций, подобных РОВСу, существовало множество, с более или менее красивыми названиями: «Братство русской правды», «Национально-трудовой союз нового поколения» и пр. В начале 30-х годов стали появляться и фашистские группы.
Естественно, эмигрантские организации поставляли всем европейским и прочим спецслужбам информацию и агентов на территории СССР. Весьма характерное признание по этому поводу сделал летописец русской эмиграции Михаил Назаров, который сам некоторое время был активным членом НТС. В своей книге «Миссия русской эмиграции» он пишет: «Работа на Россию могла вестись только при помощи штабов приграничных государств-лимитрофов, подконтрольных Антанте, – что в какой-то мере было продолжением связей времен гражданской войны». Стоит ли говорить, что штабы помогали русским не за просто так, а эмигрантам было не жалко и не трудно услужить покровителям.
Как писал в своих публикациях Борис Прянишников, в свое время руководивший нелегальной работой НТС, его организация и РОВС имели связь со штабами Финляндии, Польши, Прибалтики и Румынии, которые давали проводников для перехода границы, снабжали документами и оружием. Взамен от русских боевиков требовали передавать интересующую штабы информацию. Прянишников приводит пример сотрудничества НТС даже с японцами.
Во всех этих организациях важную, а часто и ведущую роль играли бывшие офицеры. У многих из них имелись в СССР сослуживцы и однокашники. Стоит ли удивляться, что ОГПУ регулярно начинало шерстить бывших царских (и не только царских) офицеров? В данном случае чекисты исходили из хорошо известного принципа: «Лучше перебдеть, чем недобдеть».
Чекисты и военные… Забавно читать некоторые книги. Вот, например, работа Н. Черушева «Невиновных не бывает», посвященная взаимоотношениям ОГПУ и военных. Хорошее название. Сейчас мы узнаем о колоссальных расправах злобных чекистов над невинными жертвами.
И в самом деле: «Не будем скрывать, что в годы Гражданской войны нередки были случаи, когда карающая десница пролетарского правосудия опускалась на головы невиновных людей, честных командиров Красной Армии, бывших офицеров, оболганных и оклеветанных подлыми доносчиками, завистниками, недоброжелателями. Достаточно сказать, что аресту и следствию подвергались по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации бывший главком Вооруженных сил Республики И. И. Вацетис, бывший помощник военного руководителя Высшего Военного Совета С. Г. Лукирский… и др. Названным лицам еще сравнительно повезло – после недолгого разбирательства их чекисты отпустили, и они продолжили свою службу в рядах Красной Армии…»
Погодите-ка! Если чекисты их отпустили, да еще «после недолгого разбирательства», то при чем тут «карающая десница пролетарского правосудия»? Кстати, и у нас сплошь и рядом в ходе следствия сажают людей в тюрьму, а потом освобождают, хотя нынче в России вроде бы демократия…
В той же книге тот же автор приводит конкретный пример работы начальника особого отдела группы войск Киевского направления Фомина. Пример, надо сказать, тоже крайне неудачный для целей автора. После взятия Киева в особый отдел попали фотографии, на одной из которых был запечатлен гетман Скоропадский со своим штабом. Среди изображенных там офицеров особисты опознали одного из заведующих отделом штаба их армии – должность, как сами понимаете, не из последних. И что же сделали звери-чекисты? Думаете, потащили несчастного полковника на допрос? Ничуть не бывало.
Сначала сообщили о неприятном открытии члену военного совета Щаденко и начштаба Дубовому. Потом подозреваемого полковника вызвали по какому-то делу, чтобы внимательно его рассмотреть и сравнить с фотографией. Вроде бы он! Но и после того его не арестовали – а вдруг все же ошибка! Сперва провели негласный обыск на квартире подозреваемого и, лишь обнаружив там секретные документы, взяли его. Полковник оказался офицером для особых поручений при гетмане Скоропадском, начальником нескольких карательных экспедиций, был заслан в красный штаб разведкой белых, а учитывая, сколько информации проходило через его руки… В общем, даже у насквозь ангажированного автора не хватило решимости записать его в «жертвы чекистов». Здесь другое: посмотрите, как тщательно проверяют особисты свои подозрения!
Не везде, наверное, было так. Поэтому мы и говорим, что для книги под названием «Невиновных не бывает» оба примера крайне неудачные. Можно было бы найти и получше.
… Но с историческими трудами бывает и еще веселей, так что уже не знаешь, плакать или смеяться. Возьмем, например, монографию Ярослава Тинченко: «Голгофа русского офицерства». Цитируем предисловие, написанное неким безымянным «редактором»: «После победы в гражданской войне сама по себе прошлая служба в царской или белой армии, казалось бы, не должна служить поводом для репрессий. Однако ВЧК, а затем и ОГПУ не только продолжали тщательно следить за бывшими офицерами, но время от времени арестовывали кого-то из них… Действия, предпринимавшиеся ОГПУ по отношению к бывшим офицерам, не ограничивались их учетом и «разработкой». Имели место и случаи арестов с предъявлением обвинений в контрреволюционной деятельности…»
Забавно, что в голову господина редактора даже не заглядывает та простая мысль, что причиной для ареста может послужить не «сама по себе служба в царской или белой армии», а сама по себе «контрреволюционная деятельность», в которой арестованных обвиняют.
Но это еще что! Дальше он начинает приводить примеры. В ходе перечисления «зверств большевиков» рассказывается о расстреле в 1927 году двадцати человек, из которых двенадцать были бывшими офицерами. Делалось все абсолютно гласно, легально, в «Правде» об этом прошло сообщение за подписью Менжинского. Затем на нескольких страницах книги приводятся стенания некоего чешского «осведомленного дипломата» Й. Гирсы, который видит в этом расстреле начало нового «красного террора», повествует в донесении своему правительству о казнях, о переполненных тюрьмах, о том, что советское правительство «хочет жестко подавить всякую попытку сопротивления и тем самым опять держать широкие массы в состоянии ужаса, чтобы сделать их легче управляемыми».
Да, но затем автор приводит имена тех, кто взошел на эту «голгофу». Не будем перечислять всех, они все ребята веселые. Назовем «номер второй», поскольку он хорошо известен по некоторым другим делам. Это Эльвенгрен, бывший штаб-ротмистр гвардейского кирасирского полка. Как пишет автор: «ему вменялось в вину организация Ингерманландского и Карельского восстаний в 1918–1919 гг., подготовка вместе с Сиднеем Рейли покушения на делегацию СССР на Генуэзской конференции, участие в контрреволюционных организациях, в кронштадтском мятеже, причастность к убийству В. В. Воровского». Кроме того, как мы знаем и сами, штаб-ротмистр кирасирского полка Эльвенгрен был в числе руководства савинковского «Союза защиты родины и свободы», террористической организации, перебрасывавшей боевиков на советскую территорию.
И ничего себе, «невинная жертва»!
Есть все-таки подозрение, переходящее в уверенность, что те «широкие массы», которые лично сталкивались с деятельностью господина Эльвенгрена, приветствовали его казнь киданием шапок в воздух, а дай им возможность – так и сами бы руку приложили. Особенно население пограничных районов, где гуляли савинковские банды.
Кстати, вопрос об этом расстреле и об отношении к нему Запада был затронут даже на Пленуме ЦК и ЦКК. По этому поводу выступал сам Сталин. Что великолепно доказывает: никаких репрессий в СССР в то время не было. Потому что когда идут репрессии, вопрос о двадцати расстрелянных террористах на таком уровне не решается. В 1934 году, после убийства Кирова, с тогдашними террористами разобрались на местном уровне в течение нескольких дней и без всякого шума.
Репрессий не было, а дела – были! Не очень много, но и не мало. Иные – совершенно безумные, такие, как арест нескольких сотен морских офицеров после Кронштадтского восстания, из-за которых военный наркомат и сам нарком насмерть переругались с чекистами. Иные вполне правдоподобные.
Вспомним еще раз: во все времена и во всех обществах офицеры были кастой. Еще в первой половине 20-х годов Деникин опубликовал мемуары под названием «Очерки русской смуты», где писал о тех своих товарищах, которые пошли на службу к большевикам: «Почти все они находились в сношениях с московскими центрами и Добровольческой армией. Не раз к нам поступали от них запросы о допустимости службы у большевиков… Они оправдывали свой шаг вначале необходимостью препятствовать германскому вторжению, потом «недолговечностью большевизма» и стремлением «кабинетным путем» разработать все вопросы по воссозданию русской армии и пристроить так или иначе голодных офицеров…»
То есть, как видим, во времена Гражданской войны многие ощущали себя все еще частью единого русского офицерского корпуса. И если это ощущение сохранилось даже тогда, когда они были по разную сторону фронта, то уж точно потом никуда не делось.
После окончания войны бывшие царские офицеры потихоньку начали возрождать старые традиции. Уже с 1922 года стали появляться «полковые землячества», все чаще нынешние красные командиры вспоминали, кто в каком училище учился: «павлоны», «александроны» и пр. С ностальгией вспоминали о старых обычаях, даже нашивали на гимнастерки канты прежних полков.
Или, например, «георгиевские вечера» генерала Снесарева. На них приглашались лишь георгиевские кавалеры из высшего царского офицерства – генералы и полковники. Собирались в штатском, но непременно с орденом Св. Георгия. Когда один из генералов пришел с орденом Красного Знамени, ему мимоходом «поставили на вид», что это знак Сатаны. Ну и разговоры велись соответствующие, и у чекистов мог возникнуть вполне законный вопрос: на чью сторону станут эти люди в случае новой войны?
Таких «землячеств», «кружков», вечеров устраивалось множество. Естественно, разговоры за чаем не считались криминалом, но все же ОГПУ потихоньку присматривало за бывшими офицерами, особенно за кадровыми. Причем их не только проверяли на «благонадежность», но, главным образом, отслеживали другие вещи: связи с предполагаемым белым подпольем и с заграницей. В ОГПУ эти материалы были собраны в деле «Генштабисты», где фигурировало более 350 человек. Далеко не всех даже арестовывали, не говоря уж об осуждении – например, того же Тухачевского еще десять лет никто не трогал (может, и зря, кстати…). Это был просто сбор информации – в основном с помощью осведомителей, именно присматривали, не более того… Но кое-какую информацию получали.
Некоторые сведения о деятельности подполья в СССР удалось собрать в эмигрантских кругах в ходе таких дел, как «Трест», «Синдикат» и других. На чувстве прежнего товарищества строил важную часть своей работы РОВС. Пользуясь старыми знакомствами, засланные в СССР агенты Кутепова устанавливали связи с офицерами Красной Армии и готовили военный переворот в Москве. Эмиссары РОВСа не так уж и рисковали, обращаясь к старым товарищам. Их могли принять или послать восвояси – но не донести, поскольку внутри касты понятие чести было не пустым звуком. Теперь это называется корпоративной солидарностью, а тогда честью – и честь офицера не позволяла бежать в ГПУ.
Так все и шло потихоньку до 1930 года, когда грянуло дело «Весна».