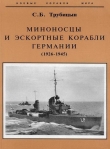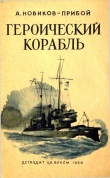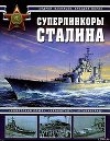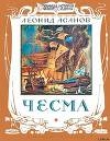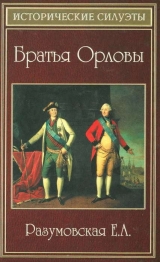
Текст книги "Братья Орловы"
Автор книги: Елена Разумовская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Глава 3.
ФЛОТОВОДЕЦ, ГУЛЯКА И КОННОЗАВОДЧИК АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ
Мифы об Алексее Орлове
Люди, знаменитые и пользующиеся широкой известностью, всегда на виду. Не мудрено, что все, с ними связанное: их жизнь, характер, слова и поступки, – обрастает массой слухов и домыслов. Что люди не услышали, то домыслят; что не знали, то напридумывают. Алексей Григорьевич Орлов, один из самых активных участников государственного переворота 1762 г., возведшего на российский престол Екатерину II, явно относится к самым известным личностям XVIII столетия. О нем можно раскопать сколько угодно самой разной информации, поскольку его имя обязательно встречается во всех воспоминаниях и записках его современников, участников и очевидцев событий той эпохи. Граф Алексей Орлов – фигура, пожалуй, даже более заметная, чем его старший брат Григорий, фаворит императрицы, и зачастую в рассказах о нем невозможно отличить правду от вымысла. Да мы и не станем пытаться этого делать. Просто попытаемся изложить основные события жизни и деятельности Алексея Орлова, «коренного русского человека», который «представляет из себя живой и народный тип, не обезличенный подражательностью последующих поколений» {59} , опираясь на богатейший исторический материал.
Итак, Алексей Орлов был третьим из выживших сыновей Григория Ивановича Орлова и его супруги Лукерьи Николаевны. Он родился 5 октября (24 сентября ст. стиля) 1737 г. в Тверской губернии. По воспоминаниям современников, все братья Орловы отличались богатырским телосложением, большим ростом и огромной силой. С отрочества Алехан, как прозвали его родные и любовно называли самые близкие до самой смерти, с огромным увлечением отдавался буйным забавам – бегу наперегонки, борьбе и драке на кулаках. Он любил побеждать и в любом занятии был первым среди сверстников, в физической силе опережая даже ребят постарше возрастом. Едва Алехану исполнилось 14 лет, его и его старшего брата-погодка Григория записали в Семеновский гвардейский полк рядовыми. Оба брата быстро стали любимцами в полку, поскольку отличались нравом веселым и были способны на любой опасный поступок, способный принести славу. Через несколько лет оба получили чин гвардейских сержантов, и с момента вступления России в Семилетнюю войну подали прошения направить их на фронт. Правда, нет никаких доказательств, что Алексей участвовал в боях, подобно брату Григорию, отличившемуся на полях сражений.
Зимой 1762 г. А. Орлов вышел в отставку и стал жить-поживать в Петербурге, несмотря на то что тянуло на малую родину, в Москву (коренным москвичом Алехан, каким был его отец, оставался всю свою жизнь и умер в Москве). Причин тому было несколько. Во-первых, в Москве служили два брата Алексея – старший, Григорий, и младший, Федор; во-вторых, Григорию, влюбленному в молодую супругу императора Петра III, могла потребоваться помощь… Именно братья Алексей и Федор стали «первыми соучастниками заговора» против Петра Федоровича: Екатерине, которую император, вошедший во вкус полновластия, уже собирался официально заменить своей фавориткой, грозила опасность. Во всяком случае, в глазах влюбленного Г. Орлова.
Алексей Орлов, его влияние среди гвардейцев и былые связи пригодились. Поскольку Григорий не мог слишком привлекать к себе внимание, чтобы не бросить на Екатерину Алексеевну ни малейшей тени, делом вербовки сторонников занимался Алехан: на его счету около 40 гвардейских офицеров, принявших сторону императрицы в семейных разборках, вылившихся в настоящий переворот! Алексей Орлов привез императрицу в Петербург, он же, командуя кавалерийским отрядом, разбирался с голштинцами императора Петра III. Екатерина никогда потом не забывала, каким уважением пользуется, какую силу и влияние имеет среди людей Алехан Орлов. В том 1762 г. она отблагодарила его не только графским титулом наравне с прочими братьями, но возвела, минуя промежуточные ступени, сразу в чин секунд-майора Преображенского полка, наградила орденом Святого Александра Невского да подарила 800 душ крепостных. С тех пор Алексей Орлов занимал многие должности и совершал подвиги во славу России и императрицы Екатерины, о которых будет рассказано ниже, но всегда он умел остаться самим собой.
Внешне он отличался от прочих людей, даже среди братьев-богатырей, ростом и гармоническим сложением. Его, пожалуй, назвали бы одним из красивейших людей эпохи, однако отметина на лице, за которую Алехан получил прозвание «Меченый», несколько портила его внешность, прибавляя его лицу выражение суровости и даже жестокости. О происхождении этой отметки ходили разные слухи. Английский посланник Каткарт, например, писал, что шрам был получен графом Алексеем в молодые годы, во время борцовского поединка. Действительно, борьбу Алехан любил, и, забегая вперед, скажем: вышедши в «вечную отставку», он частенько устраивал поединки борцов у себя в московской усадьбе и в подмосковном имении, наблюдая со стороны и вмешиваясь с увещеваниями, едва благородный бой рисковал перерасти в безобразную драку; люди слушались его беспрекословно, и, по воспоминаниям тех, кто имел честь быть гостем графа Алексея Григорьевича, ни разу не случалось среди борцов серьезных травм: «Доброе слово, даже движение головы прекращало все споры…» {60}
Согласно другой версии, шрам был приобретен Орловым-«Меченым» во время ссоры: некогда в юные годы, крепко выпив с друзьями в доме виноторговца Юберкампфа, сержант Семеновского полка Алексей Орлов из-за картежного проигрыша ввязался в ссору с рядовым лейб-кампании Шванвичем. Началась потасовка, и Шванвич ножом ранил Орлова в лицо, слева от рта. Хотя друзья тотчас же отвезли раненого Алексея к известному в Петербурге врачу Герману Кааву, лейб-медику великого князя Петра Федоровича, жившему на Миллионной неподалеку, и тот немедля оказал необходимую помощь, шрам остался на всю его долгую жизнь. В другом месте говорится, что шрам получен А. Орловым на дуэли: он заключил пари с друзьями, что один сумеет побить на саблях нескольких бравых гренадеров. Алехан выиграл пари, но получил, кроме славы непревзойденного бойца, отметину в виде шрама на левой щеке. Иными словами, известно твердо, что шрам был, однако происхождение его является одним из тех многочисленных мифов, связанных с биографией этого самобытного, неподражаемого человека. При всех своих достижениях и заслугах, при том уважении, которое питала к нему императрица Екатерина Великая, Алексей Орлов оставался человеком необычайно скромным, с простыми манерами, располагавшими к нему людей. Его любили все, с кем он сталкивался по службе, дружбе или в семейных отношениях, за обезоруживающую доброту, и фраза из письма А.С. Шереметьевой, его далекой родственницы: «Только что это за человек! Чем больше его знаешь, тем больше любишь!» {61} , прекрасно характеризует его с этой стороны. Его отличало завидное качество: даже в величайшем счастье и на высотах общественного положения жить так, чтобы люди ему не завидовали, а любили его и восхищались им. Но простоту в обращении с равными и подчиненными он компенсировал прямотой и изрядным достоинством в делах, когда речь шла о чинах вышестоящих. Орлов никогда и никому не боялся высказывать своего мнения о чем бы то ни было. И шло это не от убеждения, что Екатерина защитит и прикроет, а от внутренней уверенности в себе, в собственной правоте и в праве давать оценку событиям.
Кроме своей любви к борьбе, Алексей отличался и как искусный наездник, и знаток лошадей. При своей богатырской мощи он легко мог остановить лошадей и карету на всем скаку, и рассказывали, что ему великая императрица была обязана не только престолом, но даже самой жизнью. Однажды в Царском Селе были устроены гуляния; Екатерина принимала вместе с прочими участие в катании на деревянных горках в колесницах: колесницы, в которых сидели дамы, а на запятках стояли виднейшие кавалеры двора, катились по колее. Никто не ожидал несчастья, но тут вдруг колесо повозки, в которой сидела Екатерина, выскочило из колеи; повозка начала заваливаться набок, грозя на полном ходу выбросить пассажирку, но Алексей Орлов, удостоившийся чести стоять на запятках императорской колесницы, соскочил и удержал своим телом повозку от неминуемого падения.
Вместе с Григорием он участвовал в рыцарской карусели 1765 г. Это было популярное в то время развлечение знати, в котором принимали участие лучшие всадники императорского двора, подражавшие рыцарям Средневековья. Это красивое зрелище, возрожденное Екатериной II, стало символом дворянского сословия России. Участники состязались в воинском искусстве, как древние рыцари на ристалищах Европы. Четыре подразделения всадников назывались кадрилями и были облачены в национальные одежды разных народов мира: славян, испанцев, индусов, римлян и турок. Во главе Римской кадрили красовался Григорий, а Турецкой предводительствовал Алексей Орлов. Прочие участники обязаны были перед состязаниями доказать свою родовитость и чистоту дворянского происхождения распорядителю турнира или знаменитым кавалерам, участвовавшим в карусели.
Выступления происходили на Сенатской площади, перед Зимним дворцом, где была устроена арена, окруженная рядами зрительских кресел (временный этот амфитеатр возводился по плану итальянца Антонио Ринальди). Для императрицы и наследника престола были обустроены уютные ложи.
Императрица подала знак распорядителю, и герольды затрубили в медные трубы. В рыцарской кадрили Екатерининского времени позволялось участвовать и дамам; они открывали состязания: они ехали в сверкающих колесницах, которыми управляли опытные возницы, и метали в цель дротики. Рыцари рубили на полном скаку головы куклам, изображавшим свирепых животных и дикарей. Звенела сталь, пели в воздухе дротики, дробью стучали копыта скакунов. Но самым большим зрелищем карусели были наряды участников и участниц. Обозреватель Петербургских «Ведомостей» писал: «Зрители увидели переливающуюся гору богатства изобилия в драгоценных каменьях и всякого рода кавалерских и конных золотых и серебряных уборах. Одеяние кавалеров богато блистало драгоценными каменьями, но на дамских уборах сокровища явились несчетные…» {62}
Целая коллегия судей, во главе которой стоял граф Б.-К. Миних, присуждала награды победителям состязаний. Среди женщин-амазонок победила дочка П.Г. Чернышова, Наталья Петровна. Мнения судей, кому должен достаться первый приз среди кавалеров, разделились, но все сошлись, что братья Григорий и Алексей Орловы были самыми блестящими всадниками всех четырех кадрилей. Однако же участь главной награды должна была быть решена, и на следующий день братья Орловы устроили перед восхищенными зрителями бешеную скачку на скорость. В тот раз Алексей уступил старшему брату, и не ему, а Григорию достался лавровый венок победителя, но и он не остался обойденным: придворные дамы одарили проигравшего живыми цветами со своих уборов. Потом, в старости, Алексей Григорьевич неоднократно устраивал рыцарские карусели, в которых блистала уже его дочь, Анна Алексеевна…
В отношениях с братьями Алексей всегда был верным другом, соратником, помощником во всем. В 1762 г., когда столь резко началось возвышение их рода, он всегда находился близ Григория, поддерживал его и был прекрасным советником во времена его взлета и наивысшей славы; когда место Григория подле Екатерины занял «тезка» Григорий Потемкин, он не покинул брата, уйдя в отставку, хотя его императрица отпускать не желала: она нуждалась в услугах и советах Чесменского победителя.
В декабре 1766 г. в особой манифесте Екатерина объявила о созыве в столицу депутатов от всех российских сословий, чтобы узнать от них «нужды и чувствительные недостатки» своего народа, по всему государству стали проходить выборы людей, которым народ доверял представлять их интересы у императрицы. На собраниях в Петербурге, кроме прочих, были избраны и два брата Орловых: Алексей и Иван Григорьевичи получили большинство голосов каждый от своей части. Главой 105 представителей города был избран всеми уважаемый Н.И. Зиновьев, но, когда пришла пора приводить их к присяге, он заболел, и старшинство над петербургскими депутатами взял генерал-поручик Ея Императорского Величества граф А.Г. Орлов. Он же был назначен полномочным представителем от Петербурга в Комиссии, созываемой императрицей Екатериной. Надо ли говорить, что Алексей Орлов был весьма благодарен городу за доверие и, принимая поздравления со столь ответственной должностью, обещал не обмануть его и исполнить поручения сограждан.
Известно, что практически любой мог обратиться к А. Орлову за помощью и протекцией; если то был человек надежный и хороший, граф Алексей Григорьевич обязательно помогал: «Но рядом с этим он полагал первейшим удовольствием даже предупреждать просьбы ищущих его покровительства» {63} . В его биографии есть множество случаев такой помощи. Именно протекции Алексея Орлова обязан юный Г.Р. Державин, великий поэт екатерининской эпохи, произведенный из рядовых в капралы. Он с благодарностью вспоминает заступничество секунд-майора Преображенского полка, графа Орлова, без протекции которого так и оставался бы рядовым: прочитав письмо рядового Державина, где тот описывал свою службу и просил помощи в продвижении, граф Орлов ответил: «Хорошо, я рассмотрю». И с новым праздником Гавриле Романовичу Державину был пожалован чин капрала.
Другой случай связан с лекарем Ерофеичем, знахарем-шарлатаном, лечившим никому не ведомыми настоями и травками страшные болезни. Случилось так, что граф Алексей Григорьевич сильно заболел, и все знаменитые доктора от него уж отказались. От какой причины приключилась с ним эта немочь, неизвестно. Возможно, Орлов просто надорвался и физически переутомился, ведь он был богатырь и часто любил щеголять своей необычайной силою. Говорят, что по молодости лет он в трубочку сворачивал серебряные блюда так, что их можно было использовать вместо зубочисток, а потом без труда возвращал в прежнее плоское состояние. Граф И.И. Бецкой предложил ему испытать на себе искусство безвестного знахаря, лечившего слушателей Академии художеств, и тот с охотой согласился, решив, видимо, что все одно помирать, отчего ж не попытать Фортуну?.. О знахаре говорили, что он долго путешествовал по Сибири и Дальнему Востоку и набрался у тамошних народов весьма действенных, но простых рецептов лечения, да к тому же привез из странствий толстенную книгу, где были описаны подробнейшим образом всяческие болезни и средства их излечения. Ерофеичу повезло; он был зван к графу Орлову и, собрав анамнез, вылечил его. Императрица, обрадованная выздоровлением Орлова, призвала знахаря ко двору и щедро наградила его, а Алехан часто советовал потом его услуги своим знакомым, не последним при дворе Екатерины. Одним из таковых был Григорий Александрович Потемкин. Это было время, когда Потемкин еще не занял главного места при императрице. Братья Орловы не ждали от него опасности своему положению. У Григория Потемкина были проблемы с глазами, и он окривел, впал в хандру, боясь, что, слепой на один глаз, он не приглянется императрице. Вот Алехан и предложил ему через брата Григория своего Ерофеича, который, правда, тут уж помочь ничем не мог, поздно было. Ерофеич благодаря помощи Алексея Орлова, замолвившего за него словечко средь богатейших и знатнейших людей страны, составил себе большое состояние и великую славу.
Алексея Григорьевича Орлова смело можно назвать титаном: он отличился во всех областях, за какие бы ни брался по собственной охоте или по приказу государыни. В отличие от брата Григория Григорьевича Алексей был человеком государственным, «совсем другого сорта», чем Григорий и Федор Орловы, как отзывалась о нем Екатерина. Им двигали не личные пристрастия или антипатии, которые обычно у людей меняются день ото дня, но любовь к России и верность Екатерине и своей семье. Поскольку он не получил светского образования, он так и не говорил по-французски; но иноземные послы, которые сталкивались с ним неминуемо при дворе русской императрицы, отмечали его беспристрастные суждения в важных делах и стремление докопаться до сути, а уж когда все обсуждено и решение принято, – «решительность и неуклонность в преследовании своих целей» {64} .
Екатерина очень ценила Алексея и уважала за совет и дело, за то, что он, единственный из всех, мог понять ее мысли, даже если она не говорила ни слова. Он был ей помощником в государственных делах и составлял компанию в развлечениях; к нему она ездила на новоселье и играла в карты, с ним она частенько игрывала партию-две на бильярде. Но очевидцы их встреч, среди которых и представители иноземных держав, также утверждают: императрица побаивалась Алексея Орлова. Многие иностранцы замечали, что едва Меченый входил к императрице, та неуловимо менялась. Чего она боялась, неизвестно, ведь граф Орлов всегда показывал свою преданность ей и верность, она доверяла ему такие дела, которые не могла доверить никому больше. Возможно, его не перед чем не останавливавшегося бесстрашия и гигантской неукротимой силы; недаром потомки сравнивали Алехана с легендарным русским богатырем и разбойником Василием Буслаевым, выступившим в драке против всего Великого Новгорода. Но, как и в любом русском человеке, силушка богатырская шла не только и не столько во зло: мощи Алексея Орлова нашлось достойное применение, и его имя прославилось в веках российской истории.
Во всех своих поступках Алексей Орлов сообразовывался со своими представлениями о чести и совести; никогда он не ломал себя, не прикидывался кем-то другим, а всегда был самим собой. Всегда его отличала какая-то особая «русскость»: он был русским до мозга костей, и это видно по всем фактам, какие только можно о нем раздобыть. Он не старался нравиться простому русскому люду; он по сути дела принадлежал к нему, как пишет один из биографов Алехана, «в силу того, что у него с народом были общие вкусы, общие радости, общие стремления и общие верования» {65} . В нем было все лучшее и худшее в русском человеке, причем в огромном количестве: бесшабашность и верность, мужество и безрассудство, сила и желание всегда ею хвастать. Современники утверждали, впрочем, что лучшего было, несомненно, больше: «Он любил простую русскую жизнь, песни, пляски и все другие забавы простонародья; он любил все истинно русское, дыша, так сказать, русским, он любил до страсти и все отечественные обряды, нравы и веселости. Бойцы, борцы, силачи, песельники, плясуны, скакуны и ездоки на лошадях, словом, все то стекалось в его дом, что только означало мужество, силу, твердость, достоинство и искусство Русского», и «не редко (sic!) в кругу друзей своих представлял он собою чудеса той мощности, которою Творец благословил любезнейшему из его чад – Русскому народу» {66} .
Алексей Орлов и смерть отрекшегося императора Петра III
Переворот свершился, и свергнутый император в день собственных именин, 29 июня, был отправлен из Ораниенбаума сначала в Петергоф, а оттуда в Ропшу, где в маленьком уютном дворце он и провел свои последние дни, ни на что особенно не жалуясь, под охраной людей, преданных Екатерине. Зачем такие перемещения были надобны, неизвестно. Ходили слухи, что Екатерина надумала засадить своего мужа в Шлиссельбургскую крепость; сама Екатерина утверждала, что обещала супругу отправить его в милую его сердцу Голштинию, едва все в стране поутихнет. Несколько раз император обращался к своей супруге с просьбами, о чем она вспоминает в своих «Мемуарах». Возглавлял группу, охранявшую Петра Федоровича, Алехан Орлов, верный и преданный Екатерине, которому она доверяла, как и его брату Григорию, возможно, даже больше. Через некоторое время, 18 июля, Петра Федоровича обнаружили мертвым. Никаких других фактов, свидетельствующих о событиях июля 1762 г., не существует.
Мы рассмотрим сначала версию, принятую большинством отечественных учебников истории, – версию убийства Петра III графом Алексеем Орловым и его единомышленниками. Личность этого Орлова, «человека, абсолютно ни перед чем не останавливающегося», для которого «ни моральные, ни физические, ни политические препятствия… не существовали, и он даже не мог взять в толк, почему они существуют для других» {67} , как утверждают историки, вполне вписывается в такое представление о давних событиях.
Никто не сомневался, что Петр Федорович, мешавший своей амбициозной супруге, умер не своей собственной смертью (ему исполнилось лишь 34 года!), а был убит приспешниками Екатерины Алексеевны, стремившейся к неограниченной власти. В насильственной смерти отрекшегося императора не сомневались ни русские, ни представители иноземных держав. Так, например, французский посланник Беранже писал министру иностранных дел Франции герцогу Шуазелю, что в убийстве невозможно сомневаться, и он имеет доказательства, подтверждающие распространявшиеся со скоростью лесного пожара всеобщее мнение: кожа трупа, выставленного для последнего поклонения, была черна, «сквозь кожу его просачивалась кровь, заметная даже на перчатках, покрывавших его руки» {68} . И Андреас Шумахер, служащий датского посольства, подтвердил в своих записках, что внешний «вид бездыханного тела, лицо у которого было черно, как это обычно бывает у висельников или задушенных» {69} , ясно говорит о насильственной смерти Петра.
Странным казалось уже то, что тех, кого все-таки допустили к телу умершего императора, записывали представители Тайной канцелярии. И по Петербургу, затем и по Москве, да и по всей России и за ее пределами поползли истории, в коих полуправды было меньше, нежели прямого вымысла; рассказывали, например, что вероятно, бывший император был отравлен! Яд, остававшийся на губах покойного, отравлял и тех, кто по старинному русскому обычаю прикладывался поцелуем к губам умершего: губы потом распухали, и человек, отдавший последний долг Петру III Федоровичу, заболевал…
Новые версии произошедшего множились день ото дня. Одни обвиняли в смерти императора Алексея Орлова, которому помогал князь Федор Барятинский, другие – Григория Теплова, про которого Клод-Карломан Рюльер, секретарь французского посольства, пишет как о «достигшем из нижних чинов по особенному дару губить своих соперников» {70} ; кто-то же прямо, правда, шепотом и в письмах к верным людям, обвинял Екатерину в мужеубийстве. Остальные верили или не верили, но в пересказах история смерти несчастного Петра III, которого «черт догадал родиться внуком Петра Первого» {71} , звучит страшным образом, пополняясь все новыми и новыми ужасающими подробностями. Мы приведем в пример лишь один вариант событий, случившихся летом 1762 г. местечке под названием Ропша, неподалеку от Петербурга. К.-К. Рюльер, оставивший о том времени воспоминания, которые были опубликованы лишь после смерти Екатерины Великой, писал (правда, его запискам историки не слишком доверяют, уж слишком красочные подробности он приводит): «Один из графов Орловых…, тот самый солдат, известный по находящемуся на лице знаку…, и некто по имени Теплов…, пришли вместе к несчастному государю и объявили при входе, что они намерены с ним обедать. По обыкновению русскому перед обедом подали рюмки с водкою, и представленная императору была с ядом. Потому ли, что они спешили доставить свои новости, или ужас злодеяния понуждал их торопиться, через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространялось по его жилам, и злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение – он отказался от другой, они употребили насилие, а он противу них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, которые начали раздаваться далеко, они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю… трое из сих убийц [по рассказу Рюльера, на помощь Орлову и Теплову прибежали князь Барятинский и Потемкин, караулившие двери в покои Петра III], обвязав и стянувши салфеткою шею сего несчастного императора, между тем как Орлов обеими коленями давил ему грудь и запер дыхание; таким образом его задушили, и он испустил дух в руках их» {72} .
Впрочем, как уже говорилось, уже в первые дни после смерти Петра III появились версии, оправдывающие графа Орлова. Так, согласно одной из них, не безвинный Орлов, а тот самый Г. Теплов руководил убийством, подговорив шведского офицера из окружения Петра убить того. Офицер задушил императора ружейным ремнем, и случилось это не 18 июля, как показывали общепринятые сведения, но тремя днями раньше. Оттого и тело убитого распухло и стало черным. Эта версия упорно замалчивалась, ведь она означала только одно: Теплов, в отличие от Орлова, обладавшего известной свободой действий, не мог бы предпринять столь решительного шага в обход Екатерины; то есть признать, что убийца – Теплов, значило признать, что Екатерина Алексеевна принимала в убийстве нелюбимого мужа прямое участие.
Однако свидетельства говорят: о смерти супруга Екатерина узнала впервые от Алексея Орлова, который явился в Петербург из Ропши, «растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости» {73} , чтобы сообщить ей вести возможно скорее и без лишних свидетелей. По свидетельству Никиты Панина, императрица, услышав дурные известия, рухнула в обморок и некоторое время была ни жива, ни мертва. Лишь на следующий день, по совету того же Панина, она сообщила всем, что Петр скончался в Ропше от сильного приступа геморроя. Сегодня невозможно даже предположить, какова была ее роль в смерти Петра. Воспоминания современников говорят: она опасалась за свою репутацию, ведь весь мир теперь должен был подумать, что она, пусть и чужими руками, убила мешавшего супруга. Но, что бы ни думала Екатерина, в ее устах официальная версия смерти Петра III выглядит неприглядно, однако вполне естественным образом: «Его схватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух <…>. Яопасалась, не отравили ли его офицеры. Явелела его вскрыть; но вполне удостоверено, что <…>, умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено» {74} . Впрочем, Европа поняла все, исходя из кровавой истории собственных королевских домов. В европейских газетах печатались статейки; авторы их сопоставляли смерть Петра III с судьбой короля Эдуарда III Плантагенета, которого руками наемных убийц отправила на тот свет его супруга, королева Изабелла, вошедшая в сговор с представителями дворянской оппозиции. Пусть Фридрих Прусский и утверждал, что «императрица ничего не знала об этом убийстве, она услышала о нем с непритворным отчаянием; она предчувствовала тот приговор, который теперь все над ней произносят» {75} , но большинство европейцев верило в причастность Екатерины к смерти Петра Федоровича, внука двух великих императоров – Петра I и Карла XII.
Прямым доказательством бездушного убийства, приписываемого Орлову, является лишь одно – якобы собственноручное письмо графа Алексея Екатерине, написанное из Ропши, в котором он сознается в страшном злодеянии, совершенном спьяну: «…Государыня, свершилась беда: мы были пьяны, и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором; не успели мы рознять, а его уже не стало. Сами не помним, што делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата…» {76} Известно, что таких писем было три. Алексей подробно извещал государыню о тяжелом состоянии ее супруга, непрерывно страдавшего от «колик» так, что под конец даже почти утратил память и разум. Все они хранились в секретном архиве Екатерины, и лишь Павел, после смерти матери, прочитал их, ища доказательств убийства человека, которого он считал своим отцом. По воспоминаниям княгини Е.Р. Дашковой, он, увидев, что граф Орлов сам признался в убийстве, воскликнул: «Благодарение Богу!»: он радовался получить свидетельство невиновности матери, которую, впрочем, никогда не любил.
Первые два письма сохранились в подлинниках, но третье, самое интересное, с повинной Алексея Орлова, – только в копии, снятой Ф.В. Ростопчиным. Они были опубликованы лишь десятилетия спустя после описываемых событий, поскольку обеляли Екатерину в глазах общественности: ведь вот он, убийца законного императора, один из Орловых, самый буйный и неистовый, а великая императрица вовсе не имеет отношения к убийству супруга! Однако время шло, и сравнительно недавно была проведена экспертиза подлинности этих обличающих Алехана писем {77} . Вот что выяснилось: да, первые действительно являются подлинниками, но третье – подделка Ростопчина, свидетельствующая против Алексея Григорьевича, а значит, и против всех Орловых. Во времена Екатерины было множество людей, которым поперек горла стояло возвышение Орловых «из грязи да в князи»; среди них не последнее место занимал граф Никита Иванович Панин, вынашивавший прожекты, как бы на трон Российский посадить вместо немки Екатерины сына ее Павла, коего Панин был воспитателем…
Впрочем, с другой стороны, Екатерина была только заинтересована в компрометации Орловых. Ходили слухи, что она твердо вознамерилась выйти замуж за красавца Григория, тем более что подобный прецедент в российской истории имелся. Да и граф Григорий Григорьевич настаивал на венчании. А когда Екатерина зачем-то поехала в Воскресенский монастырь, что в Ростове, по Москве стали говорить: венчание состоялось, тайком, в Ростове, и императрица, убившая своего супруга руками брата своего возлюбленного, стала вдруг госпожой Орловой. Слухи не подтвердились; более того, вскоре был арестован человек, распускавший их, – камер-юнкер Ф. Хитрово, поддержавший Екатерину во время заговора. По словам допрошенного Хитрово, и он сам, и другие дворяне, которым небезразлична была судьба России, уговаривали императрицу не вступать в брак с Григорием Орловым, увещевая, что на русском престоле народ потерпит даже чистокровную немку, венчанную супругу Петрова внука и матерь будущего императора Павла, но никак не госпожу Орлову. А так Екатерина, которая была женщиной государственного ума и умела далеко вперед рассчитывать свои шаги, могла не опасаться более претензий на венчание с ней ни от одного из Орловых (ведь поговаривали, что она, возможно, за Алехана, а не за Григория замуж собирается): один из них был уж замаран молвой в страшном преступлении цареубийства и оправданию не подлежал – ни тогда, хотя Екатерина не предала его праведному суду, ни теперь, когда минуло почти 250 лет.