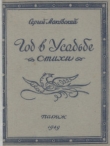Текст книги "Вечный сдвиг. Повести и рассказы"
Автор книги: Елена Макарова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Эх, если б только мог мой народ знать, где он окажется в скором времени, какая грандиозная ломка сознания ему будет почти что завтра предстоять… А что бы он мог сделать, кабы и знал? Мылом, сахаром, солью еще можно запастись, а вот мясом и молоком никак невозможно, таких холодильников размером чуть ли в нашу уборную, как я потом в Америке увидала, ни у кого дома нет. И зачем им нужны такие холодильники, если у них в магазинах все есть, хоть каждый день туда ходи, и все равно все есть. А у нас если выкинут что, сразу разберут. Поэтому надо брать побольше, а для побольше и нужны американские холодильники. Но куда их ставить? Некуда нам их ставить, значит, не нужны.
Главу ОВИРа холодильники не волнуют. У нее все есть. А голова все равно разрывается. Как своих не выпустить, а чужих не впустить? У главы нормального ОВИРа одна задача, как не выпустить, а у Веры Ивановны – две. За невыпуск отвечает левое полушарие, за невпуск правое. Двойная нагрузка на мозги. Иностранцы – при машинах, и не успеешь глаза спросонья накрасить, как вжик – свернули с Ленинградского шоссе направо, ты еще не все на себе заколол и зашпилил, а правое полушарие наливается тяжестью.
Будь Вера Ивановна скульптором, она бы с первых дней перестройки воздвигла на центральной площади города, на месте плиты в честь будущего установления памятника к шестидесятилетию Октябрьской революции, памятник Горбачеву.
Хотя работы не убавилось, а прибавилось и секретность все еще не снята. Это только граждане города думают, что им дали полную свободу, а им дали частичную, но с иностранцами стало проще. ГАИ с утра не подымает по рации, ну подумаешь, прошмыгнул иностранец, что он увидит так вот сверху, да ничего, пусть хоть в бинокль глядит, пусть хоть с самолета, и даже смешно стало Вере Ивановне – чего мы их боялись, они ж не кроты! А на поверхности народ шпионов выявляет сам, безо всяких органов. Да и что бы они нашпионили сегодня – соски с презервативами! Нет, ну правда, порой волосы дыбом встают от одной только мысли о том, как мы жили раньше.
И как тяжело было быть плохой, как иногда даже неловко было смотреть в глаза населению, особо если человек пожилой, интеллигентный, еще из сферы искусства, ты ему – нецелесообразно, а он почему да почему, ты не можешь ответить, что из-за секретности города, это-то и есть главная тайна, а он, бедный, сидит перед тобой и молча ищет на себя компроматы, хотя анкета у него, что чистое стеклышко, член партии, не судим, никто из близких по прямой линии не привлекался, никаких родственников за границей нет, и стаж работы на одном и том же месте больше десяти лет – все, каждая буква за, а положение города против, и это ты под страхом смертной казни не можешь выдать, и умоляешь даже иной раз не огорчаться, попробуем вторично, снова все документы соберем, а фотографий и этих будет достаточно, не исправляется у человека настроение, это еще если брать целиком благонадежных, которых ты никак бы не хотел расстроить, а подозрительные, у которых из всех пунктов один неблагополучный, а явное нельзя, когда вся анкета против, а человек такой приятный на вид, и тоже с подарком, и какая эта мука брать подарки, зная, что не сможешь отплатить добром на добро, и, бог мой, дарят-то часто совсем от безумия, такое дарят, мамочки мои, самое свое святое готовы отдать, одна даже дама, которая собралась к дочке в Париж, десять лет ее не видела, и хоть честно сразу ей скажешь, нет и не пытайтесь, а она откуда-то фамильные золотые часы выудит – и дать-то как следует не умеет, вот держит их на ладони, так я уж ей помогу, облегчу и часы не приму, а она в слезы, только отпустите, у меня единственная дочь, и тут, чтобы враз все это прекратить, нужна большевистская строгость отказа, твердое как сталь «нет», но она все равно кладет приглашение на стол, все равно настаивает, чтобы я приняла документы, а там она будут действовать через Центральный, и за одно то, чтобы я выдала ей бланки на заполнение, она готова отдать фамильную драгоценность. И берешь, и ума не приложишь, как ей объяснить, что все это впустую!
Куда как приятней брать теперь! Берешь и выпускаешь! Но и опасней брать теперь, столько народу валит, что не каждому в лицо успеваешь посмотреть, раньше часами убеждал, что нельзя, все говорили, да что тут, Вера Ивановна, чикаться – нет, и все, но как же нельзя, мы же имеем дело с людьми, они могут до смерти огорчиться, и бывали такие случаи, скажем, патологические – или выпустите, или я все равно здесь жить не буду. Я говорю, если ты жить здесь не будешь, значит, ты вообще жить не будешь, тебя с секретностью никто не отпустит! Нет у меня секретности! Правильно, у тебя лично нет, но у нас, намекаю прозрачно, секретность общая. Улыбаюсь и очки снимаю, чтобы он мог прямо в зеркало моей души глядеть, общая, повторяю, у нас с вами судьба, общая у нас с вами и секретность. Я в Карловы Вары и те с такими сложностями выехала, а в капстранах не бывала никогда. Тем более ПМЖ! И по-хорошему я с ним, и со всей строгостью, а он зубы сжал, подбородок выставил и как плюнет прямо на мой рабочий стол. «Выполняйте свои обязанности, это, кричит, КГБ решать, а не вам. Вы тут мелкая сошка!» А, вот как ты заговорил. Молча анкеты достаю из сейфа, объясняю спокойным тоном всю процедуру, еще и карандашиком трудные моменты подчеркиваю, чтобы убедился он, что я впрямь конторская крыса, чтоб никогда не догадался, от кого его судьба зависит, пусть думает, что я его анкету в Центр свезу. Да если б я все это туда возила, они б с перегрузкой отказов за год не управились, с такими мы на месте кончаем. ПМЖ в Америку с завода Лавочкина?!
Получил он, как и полагается, отказ по истечении срока подачи, и руки на себя наложил. Хуже того – указал настоящую причину самоубийства – не пустила его Вера Ивановна в Америку.
Сколько ж после этого посыпалось на наш город нареканий! Не ведем разъяснительную работу среди населения, мало толковых агитаторов и содержательных политинформаций. Главе ОВИРа следует поставить на вид, и чтобы впредь из Химок подобных сигналов не поступало. Но это тоже перегибы, мы, конечно, должны направлять сознание народа, но мы не можем указывать, что писать перед смертью. Не надо доводить человека до смерти, но если уж он доведен, пусть пишет, что хочет, я считаю. И считаю еще, что лично я проявила выдержку, этот плевок я глубоко переживала в душе, а ведь он именно туда и плюнул, другой бы на моем месте не стерпел, а я даже отказ ему послала в указанный срок, чтобы долго не мучился. Ведь главное мучение – это томиться в ожидании отказа!
Теперь люди тоже ждут, но с оптимизмом, теперь я их документы свободно могу тасовать, кому уж очень приспичило, у того беру, а кто поспокойней, тот и так получит, в общем порядке.
И чего только не несут! С одной стороны, не жалко, там накупят, там все есть. С другой стороны, брать столько, сколько несут, опасно. Несут-то мне одной, это потом я между всеми распределяю. Коллега из Центра подал мне отличную идею – день рождения каждый месяц. Посидеть в домашней обстановке, за рюмочкой, никогда у нас не было так демократично поставлено, и ты их только помани, мигом примчатся. С вафлями к чаю, никакого спиртного.
И все бесконечно грустно, Бенци. Да песня про подарки еще не спета.
Подарки продуктовые. Кофе, чай, икра, рыбка красная. Талоны на сахар, в летний период на варку варенья. Сахар в пакете как-то вроде неудобно дать, может обидеться. Дары природы – грибы сушеные, ягоды, фрукты, мед. Специи в заграничных баночках. Конфеты. Вообще все заграничное, не важно что, но в упаковках – супы, концентраты, кремы. Винно-водочная продукция, весь ассортимент, от чешского пива до коньяка «Наполеон».
Денежно-вещевые. Деньги любые, какие есть. Вещи – телевизор, видео, стерео, микроволновая печь, радио с наушниками, наушники без радио, одежда, обувь импортная любых размеров, в семье подрастающее поколение и много родственников.
Предметы культа. Крестики золотые, серебряные, позолоченные, на цепочках, медальончики. Святые книги, Библии солидные и карманные, где есть прямо все, ну все-все-все, потому что сын Веры Ивановны любит оттуда цитаты. Вера Ивановна не успевает и заглянуть в эту старинную премудрость, но призналась недавно, когда религию снова разрешили и даже поощрили, – что когда лежит эта книжка на тумбочке в изголовье, она легко засыпает и сны ей снятся легкие, а как возьмет ее сын да и забудет положить к ночи на место, так не уснуть, вздремнет, и такие кошмары начинают мучить, что-то в ней есть, определенно, прямо не хуже Кашпировского помогает, даже лучше, потому что на телесеансы надо настроиться, чтобы подействовало, а у меня дома телефон, сами понимаете, дымится, а книжка каши не просит, лежит и молчит, никакого внимания не требует, а все снимает с тебя, всю накипь. И что еще интересно, зависит от кого. Казалось бы, везде одно и то же написано, но бумага разная, буковки где совсем как бисер, а где нормального размера, обложки все разные, один раз взяла я самую красивую обложку, настоящим золотом поверху написано, а сон не берет. Что ж это, думаю, все не сплю и не сплю?! Видно, человек подарил с дурным глазом.
Вера Ивановна впадает в откровения неожиданно, и если уж впадет, а это от просителя зависит, иной сразу расположит, а иной уж слишком на отъезд нацелен, с таким никаких откровений, – но стоит кому-то ковырнуть душу, пропало дело для всей очереди с хвостом на улице. Это неразгаданная тайна – вошел человек в кабинет и как умер. Сначала думают сочувственно. Наверное, у того, кто вошел и не вышел, случился приступ, не всякому легко дождаться своей очереди, а уж как дойдет, так он в кабинете забывается, иногда не помнит точно, зачем пришел, и в словах путается, и вещи забывает, а потом робеет за ними вернуться – словом, много извинений можно найти тому факту, что посетитель вошел туда и будто умер, но все же через час-другой очередь начинает лихорадить, и в хвосте обнаруживается пробел, и самый нетерпеливый отпадает от хвоста и, расталкивая народ, прет прямо в кабинет, но тотчас возвращается, ничего не добившись, поскольку «гражданин, разве вы не видите, что я занята, идет прием».
И очередь уже озлобляется и желает смерти тому, кто у Веры Ивановны застрял, перестает совершено сочувствовать, а Вера Ивановна все еще рассуждает про чудесное и уму непостижимое, потому что никто не делает ей точечный массаж или сеанс аутотренинга, и если б не умение с интересными людьми расслабиться, ее бы давно инсульт на месте разбил – двадцать первых лет никого не впускай и не выпускай, а последние три почти всех впускай и почти всех выпускай, основные же душевные ресурсы сейчас расходуются на мотивировку отказов, и это теперь уже не отсебятина, а решается на совещаниях в Центре, так что самой Вере Ивановне остается лишь отчитываться за отказы перед тем, кому отказано, потому что сейчас публика все берет на карандаш, вчера ты сделал вот такусенькую ошибку в мотивировке, а через месяц узнаешь в «Огоньке», в отделе читательских писем, что нарушил права человека, закон такой-то и такой-то, и могут за это снять, а это что же значит для существа Веры Ивановны, это значит оказаться ненужной людям, да и хуже того еще. И посетитель на это руками машет, что вы, Вера Ивановна, не вы, так кто же, а она, зная, что проситель – хороший окулист, в довершении беседы о чудесах между прочим интересуется про импортные линзы, женщина в моем возрасте… А вы и в очках хороши, прелестная!
Комплименты должностному лицу?! И она надевает очки, и распрямляется, и убирает ноги под стол, и посетитель пугается внезапной перемены настроения, бормочет «контактные линзы, контактные линзы, это, пожалуй, можно устроить», и Вера Ивановна расплывается в женской улыбке и опять достает ноги из-под стола, и закладывает их одну на другую, и обещает его документики держать наготове, и, как только выяснится с линзами, она свезет папочку в Центр. Ах, как интересно просто так без цели общаться с человеком, купаться в словах, плескаться в них рыбкой, и невзначай задеть хвостиком за что-то такое, и тем завершить прием данного лица, и еще Вера Ивановна находит интересную связь между разговорами о библиях и пользе, всегда так, если начинаешь с отвлеченностей, завершаешь конкретикой.
Драгоценности и украшения. Берет все. Проверено.
Книги. Предпочитает с картинками, без картинок идут книги обменного фонда и книги авторов с надписями. «Дорогой Вере Ивановне с благодарностью на всю жизнь», «Дорогой Вере Ивановне с вечной признательностью», от всего сердца, от всей души, от всего нашего народа.
Сувениры из-за границы, или из «Березки», или что-нибудь уж очень редкостное местного производства, медвежья шкура, оленьи рога, нэцкэ из китовых костей.
Предметы искусства – картины, гравюры, скульптуры. Скульптуры, разумеется, малых форм.
Предметы гигиены. Мыло, шампунь, желательно для жирных или в крайнем случае нормальных волос, а также импортные моющие средства для мест общего пользования.
Нет, это просто невозможно, как много человек потребляет, стыдно дальше писать эти списки, и не только за Веру Ивановну, за все человечество. Зачем ему столько, почему не ввести ограничение, почему вместо лозунгов из произведений марксизма-ленинизма не взять цитаты из Франциска Ассизского, про цветочки, птичек и кусочек хлебушка?
Только подумал, и твой голос услышан – вводят карточки на сахар и мыло, даже на дрожжи вводят лимит, чтобы не все тесто пышно всходило, а ровно столько, сколько нам того надо. Лозунги про изобилие в одну ночь исчезают, и начинает цениться истинное – свобода и независимость, акцент с физического перемещается на духовное.
Почему все исторические процессы такие долгие, а жизнь такая короткая? Кажется, вот оно, еще чуть-чуть, самую малость, последнюю пятилетку в четыре года одолей, и все. Но как ни спешишь, как ни прешь историческому процессу наперерез, как из последних сил ни выбиваешься – процесс не поддается и доводит тебя до могилы. Нет, такого лучше не представлять, особенно на ночь, ты же не можешь каждый день расстраиваться, ты не один, в конце концов, и разыгравшееся воображение может стать опасным для окружающих. Вон Сен-Симон с Фурье и Оуэном не выполняли пятилетку в четыре года, они всего-то вообразили новый мир, и теперь мы в нем живем. Мысль – материальна, у нее есть цвет и запах.
Вера Ивановна цвета мысли не различала, хотя кто-то сказал, что у нее редчайшая по цвету аура, но в зеркале ее не видно, а иначе как в зеркале невозможно увидеть, что у тебя над головой. Что в голове, она знала, главное, чтобы этого не знали другие, – и поэтому она носила прическу с высоким начесом, где, как в люльке, покоилось записывающее устройство. Что касается нюха, то он ее никогда не подводил. И она, под предлогом выезда за рубеж (визы еще никто не отменял!), пригласила на очередной день рождения семейку, которая, как подсказывал ей нюх, явилась причиной зловредной эпидемии, разразившейся в кооперативном доме «Дружба».
Застолье
Застолье застоя: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало», или: «Гуляет, погуляет – устанет, перестанет».
Застолье перестройки: «Оттерпимся – до чего-нибудь дотерпимся»; «Оттерпимся – и люди будем».
«Пословицами русского народа» в двух томах будет ли наш отъезд ускорен? Похоже, подарок удался. Вера Ивановна во главе стола фиолетовый том листает, синий на очереди. «Не учи сороку вприсядку плясать, ученого учить – только портить…» Какой же у нас народ мудрый, радуется Вера Ивановна и гости вместе с ней. Забыли и кушать, а кушать есть чего – все подарочное, все, как в старые времена, и икра не на поверхности желтка золотится, а лежит в блюдечках, как жемчуг ненанизанный, и рыбка жиром истекает, нототения, и картофель отборный укропчиком присыпан, а время не сезонное для укропа, февраль, и кура-гриль тут, и шпроты, и сервелаты, и карбонаты – даже неприлично сегодня такой день рождения закатывать, но Вера Ивановна лихая, гулять так гулять! Для веселья большой выбор напитков и пословиц, вот эта, например, просто в масть: «Пьем да людей бьем: знай наших, поминай своих!».
Давай, Веруля, за тебя выпьем, разливайте, граждане, я тост скажу.
И пока выбирают напитки, а коллега Верулин из Центра набрасывает в уме слова поздравления, хозяйка представляет гостей.
Подруга детства, Олечка, врач, никогда не откажет, ночью прибежит, если что, это Элла Семеновна, внучка Долорес Ибаррури, испанка настоящая…
Веруся, давай потом, очень поздравить тебя хочется!
И Веруся поправляет прическу, а прическа у нее особая, волосы над головой собраны в пышный пучок, и внутри него как бы что-то находится инородное, и чтобы это что-то случайно не выпало, у загривка целый забор из заколок. Вера Ивановна кокетливо голову откинула, привычным жестом пальцы в волосы завязила и улыбается обворожительно мужику рыжему, носатому, усатому, специалисту по Ближнему Востоку в определенном разрезе, и тот громко пальцами щелкает, тишина мол, гости, торжественная минута настала.
И что он говорит про Верулю, все чистая правда.
Все чокаются, закусывают, по второй, закусывают, а после третьей уж языки и развязываются. Кто справляет себе день рождения ежемесячно, тот уж эту систему изучил. Вера Ивановна не пьет, пригубляет. И две дамы с ее работы тоже не пьют по состоянию здоровья, зато часто отлучаются курить на лестничную клетку.
Вера Ивановна, настоящая подвижница, настоящая идеалистка, живет в двухкомнатной квартире, в спальне у нее и правда Библия лежит на тумбочке в изголовье, и больше ничего. В комнате, где мы гуляем, диван да стол со стульями, в кухне мойка, холодильник, куда же она все девает, по каким углам дары рассовывает? Например, все, что ей нанесли сегодня, на наших глазах, ящики, свертки, где они? Неужели это и есть явочная квартира, о которых мы знаем понаслышке?
Зазвонил телефон, и Вера Ивановна из коридора прибежала взволнованная – надо на полчаса ей отлучиться к маме, в больницу, и сосед по лестничной площадке вызвался свезти, надо же, такая неприятность в день рождения, но подруги Веры Ивановны даже и не расспрашивают, что с мамой, видно, та привычно тяжело болеет, и Вера Ивановна что-то отовсюду спешно выгребает, а у парня уже ключ от машины наготове, и берет Нина Ивановна из вазы три гвоздики, – да бери все, Верочка, маме будет приятно получить большой букет, и пока она возится с цветами, молодой человек уже испарился со всем, что было в коридоре.
Вера Ивановна уехала, а мы сидим. Что же там с мамой? Сообщение о тяжелой болезни как бы упало с вилки на скатерть, и все делают вид, что ничего с вилки на скатерть не упало, и продолжают веселиться, центр веселья образован. Специалист по ближневосточным проблемам много поездил по миру и каких только женщин не видал, а каких только у него не было, хорошо, что мы все взрослые, а уж больше всех, конечно, он любил свою жену, а она с ним развелась и ребенка у него оттяпала – и он стихи стал писать, на фарси, по-русски о любви так не скажешь, Восток – страна любви, эротики даже в большей мере.
А подруги вместе с внучкой Долорес Ибаррури тоже заводят про заграницу, они все там были, по долгу службы. Венгры скупые, поляки – жадные и воры, немцы и французы расчетливые, итальянцы – обманщики.
Сколько нам еще сидеть в этой компашке, пора уж припереть Веру Ивановну к стенке, чтоб сказала, сколько и кому надо дать в Центре, и чтобы после уж больше никогда не отмечать ее дней рождений, забыть все эти недоразумения нашей полувековой жизни.
– Израильские женщины, скажу я вам, это не то, что здешние, прошу прощения, еврейки. Надеюсь, я за этим столом никого не обидел? – и смотрит на молодую кормящую мать, но, не дождавшись ответа, продолжает: – Израильтянка приз красоты взяла, у них глаза, шеи, грудь – давайте выпьем!
И только выпили за глаза, шеи и грудь израильтянок, щелкнула дверь, и Вера Ивановна, в сопровождении соседа и в совсем другом, не напряженном состоянии, вступила в родную обитель, где сегодня собрались по известному случаю ее друзья, и шампанское взбурлило, и пробки полетели к потолку, и начался праздник, какие только возможны у нас и не бывают у них, потому что они там дружить не умеют, а мы здесь если что и умеем, то только это.
Народ повалил валом, Вера Ивановна едва успевает рассаживать да холодцы разлаживать, поправляя прическу, она пьет до дна, для смелости и снятия напряжения, – операции под кодовым названием «мама в больнице» хоть и отлажены, но каждый раз перед началом она волнуется, есть такие дела, которые сколько ни делай, никогда к ним не привыкнешь, как аборты, например, или зубы лечить, – все равно нервничаешь, когда идешь, зато потом какой камень с плеч, валун целый долой – и уже следующее задание Центра проводишь душевно, с чистым сердцем даже.
Пользуясь новым настроением Веры Ивановны, я прижимаю ее в кухне к холодильнику, с тарелками пустыми и рюмками на них, и задаю ей один вопрос, потому что домой хочется очень, а уехать еще больше хочется, Вера Ивановна, кому дать? Вы – кристальная, про вас и подумать такого невозможно, а вот в Центре берут, но кто именно?
Вера Ивановна вопросом моим ничуть не смущена, только люди посуду ждут, потом поговорим. Ты мне только ответь, почему ты меня ТОГДА обманула.
Она относит посуду и тотчас возвращается, потому что профессиональное ее любопытство я уже целый год как терзаю. А если точнее, то двадцать лет. После первого отказа в поездке в Чехословакию она взяла моду не пускать меня за границу ни под каким предлогом. Мы встречались с ней ежегодно, она питала слабость к представителям культуры и искусства, и то, что она при таком вот человеческом расположении должна была по служебному долгу гадить, – сегодня, в новые времена, она переживает по-новому. Как она радовалась, когда меня впервые, по службе, отпустил за границу московский МИД, и не в соцстраны, а в саму Америку. И думала она, что теперь и она меня отпустить может, а тут я возьми и привези запрещенные к ввозу документы из дружественной Чехословакии, ей с Шереметьева поступил сигнал. Она позвонила с домашнего, пригласила на чашечку кофе с коньячком и спросила, как бы между прочим, что там в аэропорту стряслось.
А ты мне ответила – ничего. Ленуль, я к тебе была всей душой, читала твою статью в «Огоньке» и плакала, неужели такое могло быть, чтобы детей в газовые камеры… У меня, знаешь, Ленуль, в голове не укладывается, как посмотрю на эти личики, на эти бабочки из концлагеря, сон как рукой снимет. Ой, Ленуль, а у нас, у нас-то что творилось, и многие знали, и делали это сознательно, вот что страшно, Ленуль! Так ты скажи, если у тебя опять вышли с ними неприятности, ты все-таки очень неосторожная, а мне ведь тебя снова отправлять надо… Что у тебя с ними было? Как я тебя в Израиль отправлю?
Вера Ивановна по панбархату ладонями водит, против ворса, один у нее парадный костюм, из химчистки в химчистку, так и носим, и кофточка моя свободного буржуазного покроя ей импонирует, и я готова сей же момент кофточку с себя, но Вере Ивановне неловко, будто бы она выцыганила, ну что вы, Вера Ивановна, вы просто очень непосредственная, и я уже кофточку мысленно складываю, на следующий визит, туда же и магнитофончик портативный, на который мне в кухне намек дан, что вот хочется ей иногда погрузиться в мир музыки, в наушниках, чтобы волшебные звуки заглушали усталость, и как хорошо, что мы пришли на день рождения, когда еще так от души потрепешься, и даже ей хочется один секрет мне вот сейчас раскрыть, что и она, Вера Ивановна, в последние годы начала сочинять что-то ей самой непонятное, в японском стиле, один переводчик ей томик стихов подарил, и она заболела Японией, в коротеньком стихе, даже безо всякой рифмы, столько настроения, и я поддакиваю, конечно, с удовольствием прочту это ее «что-то отрывистое, как ветер пролетел или как лист на землю осенний опустился, без рифмы», – и Вера Ивановна глядит на меня с таким неприкрытым уважением, как двадцать лет подряд глядела, и сильное это чувство к представителю культуры она смогла пронести по дороге застоя к вершине перестройки, и то, что она меня вынуждена была не пускать, не сделало меня врагом в ее лице, как обычно бывает, когда к своей собственной жертве испытываешь нехорошие чувства, потому что она заставляет тебя поступать против совести, и я посоветовала Вере Ивановне об этом обязательно сочинить танку или хокку и как бы между прочим вернула ее к исходному пункту, а именно кому все-таки дать, и Вера Ивановна на эту настырную ложку дегтя ответила медовым голосом, мол, кисулечка, зачем мараться, неужели ты мне не доверяешь?! Вам-то я доверяю, но паспорт выдают в Центре, и всем известно, что там берут.
Мараться?! Никогда. Одним горжусь – ничего не брала, пусть в любой час дня и ночи придут, пусть руки мне веревками свяжут, пусть все вверх дном перевернут… Вера Ивановна аж пятнами пошла от этого признания, столько воли и правды вложила она в заключительные слова.
Ленуль, мне бы сына как-то определить в менеджмент, кстати, какого числа вы планируете выезд в гости? Вера Ивановна не называет страну вслух, а «гости» произносит с вопросительной интонацией, глядит в упор, советский наш сверхчеловек, сколько дел успела спроворить на кухне под ля-ля, а дату никак вот не запомнит. Да ведь валом валят, как удержать всех в одной горемычной головушке, а компьютеров не ставят, но это так, между прочим, она-то знает, что я компьютер привезла из Америки. А в комитетах стоят, по три штуки в комнате, иначе не уследить, и Веру Ивановну опять уносит в эмпиреи раздумий, а я продолжаю твердить про дату выезда, а она – не успеем, боюсь, а я – тогда и мы не успеем стихи прочесть и вашего сына к менеджменту приладить и насчет компьютера подумать.
На этом разговор прервался – пора к гостям, – и она села демократично не во главе, а на углу, семь лет без взаимности, что было замечено специалистом по ближневосточному региону, но Вера Ивановна и не взглянула в сторону шутки, не взыграла.
– Эпидемический дом у вас, – Вера Ивановна не шутила.
С чего, в разгар непосредственного веселья, среди дружелюбного застолья, Вера Ивановна начинает темнить, как на службе, и со сладких мыслей о загранице сбивает на мысли о нашем доме, где происходит что-то ужасное, судя по модуляции ее голоса. Нельзя с органами в кошки-мышки играть, даже в период свободы мысли.
А что если Вера Ивановна про эпидемию завела, чтобы нас еще раз прощупать?
– Да что за эпидемия, Верочка?
– Все пишут, – выдохнула Вера Ивановна и под прическу полезла, что-то там подкрутила, судя по движению пальцев.
– На тебя пишут?
…Нет, ни в коем случае не надо этого переводить на иврит, ни на какие вообще языки переводить не стоит наше унижение. Лучше выпить снотворного, переспать перестройку. И пусть отравленный мозг утекает за границу, хотя и жаль временами, зато вместе с серым веществом утекает и человек, его содержащий, освобождается жилплощадь, и оставшимся становится просторнее вдыхать и выдыхать, мы же не жалеем, когда переполненный вагон метро покидают излишние граждане, мы физически этому радуемся, так как дышать – это врожденная потребность человека, как еда и сон, и если уж еды не осталось и сна не вызвать без снотворных – дышать мы обязаны, и потому на отъезжающих лучше смотреть, затаив дыхание, – в этом и есть суть нового мышления. Каждый имеет право на выезд и въезд. Многие хотели бы к нам въехать, но пережидают, пока те, кто выезжают, освободят место. Особо нетерпеливым гражданам, преследуемым ЦРУ и ФБР, наша дружелюбная предоставит квартиру вне очереди. И был уже такой почин, правда единичный пока. Даже черномазым нужны мыло и шампунь, а не пустая вода с хлоркой.
Ну что было переться к Вере Ивановне?! Казалось бы, хочешь ехать – плати и езжай. Нет, это неинтересно! Из этого сюжета ничего не проистекает, а нам нужно, чтобы проистекало, иначе не о чем потом рассказывать и писать, а мы-то и живем, чтобы рассказывать, а рассказываем, чтоб жить.
* * *
– В вашем доме пишут, – заявляет вдруг Вера Ивановна. – И этот дилетантизм в литературе обойдется вам втридорога. Люди наши обидчивые и подозрительные, считается, что от недостатка ласки, в детстве, мол, им недодали. Так додайте себе в зрелые годы, пощадите друг друга, – говорит, а сама в прическе возится, что-то у нее там отказало, может, блок питания мозга ослаб, и из-за этого она еще больше нервничает, но поди вычитай причину в ее новых глазах с линзами! Раньше настроение ее распознавалось по очкам – очки сняты или надеты, если надеты, как именно, на лоб, ближе к носу, сидят на хрящике или на самой косточке носа, смотрит сквозь стекла, или поверх, или, может, сняла и играется с дужками, чешет ими за ухом, у виска или в носу, – это при глубочайшей внутренней связи с подателем бумаг, – словом, когда специалисты по Вере Ивановне изучили все нюансы игры в очки, она сменила их на линзы. Новое мышление требует и новых форм организации производства, прежде всего – прямого взгляда на вещи, в данном случае одушевленные, никаких очкопротираний байковой тряпочкой, никаких уклонений взгляда в сторону. А от этого слезятся глаза, и вот интересно, одни тотчас бросаются утешать, а другие, стопроцентные эгоисты, каменеют, предполагая отказ. И за это Вера Ивановна их наказывает продолжительным копанием в бумагах на столе, хотя дело лежит прямо перед ней – и решено положительно. Глаза-то у нее слезятся не потому, что отказ, а потому, что линзы отечественные. А ей нужны заграничные. И этого посетители никак уловить не могут, сколько ни намекай. Господи, когда мы, наконец, помолодеем? Годы застоя наложили на наши женские личики печать неудовлетворенности. И какой труд надо вложить в себя, чтобы расцвести, чтоб всякие мелочи радовали, а большие неприятности не сильно огорчали?! Это и есть психологическая перестройка, самая, может быть, тяжелая, но крайне необходимая. Потому что еще множество вещей осталось от застоя, да те же очереди, в которых женщины теряют привлекательность и стареют на глазах. На их месте Вера Ивановна лучше в заграницу бы не поехала, чем целыми днями стоять, но здесь она не советчик, теперь у нас каждый делает, что хочет. И вот эту-то конечную фразу она произнесла вслух, чтобы как-то прервать общее молчание.
– Теперь у нас каждый делает, что хочет.
Во времена застоя за этим утверждением обязательно бы последовало «но».
Нет, ну какое все же унижение быть зависимыми от каждого Веры Ивановниного чиха, а с другой стороны – не день рождения этот, осталась бы я в Химках с «Русскими пословицами и поговорками» в двух томах, сочиняла бы разнузданные пасквили, за которые пока вроде бы не сажают, а теперь мне отсюда жалко всех, даже Веру Ивановну.