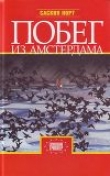Текст книги "Он ждет"
Автор книги: Элджернон Генри Блэквуд
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Элджернон Блэквуд
Он ждет
Сентября 4. Рыскал по всему Лондону в поисках жилья, сообразного моим доходам – 120 фунтов в год, – в конце концов нашел нечто подходящее. Две комнаты в старинном ветхом доме, лишенном, разумеется, современных удобств, зато до П. -плейс рукой подать, да и расположен дом в одном из самых респектабельных кварталов Лондона. Арендная плата невысока, всего двадцать пять фунтов в год. Я уже отчаялся найти что-нибудь стоящее, как вдруг мне повезло: подвернулись эти две комнатки. Чистейшая случайность, тут и распространяться не о чем. Арендный договор предложили мне заключить сроком на год, на что я весьма охотно согласился. Мебель, которой была обставлена наша старая квартира в Г…шире и которая так долго ждала своего часа, отлично разместится здесь.
Октября 1. И вот я уже обитаю в своих двух комнатах в центре Лондона, поблизости от редакций журналов, куда время от времени приношу статейку-другую. Дом мой стоит в конце аккуратно вымощенного, чистенького тупика; сюда выходят задами почтенные учреждения, среди которых, впрочем, имеется и конюшня. Дом гордо именуется доходным. В один прекрасный день, сдается мне, честь этого звания окажется для него непосильной ношей – раздувшись от гордости, он лопнет и развалится на части. Как я уже упомянул, здание очень ветхое. Пол в моей гостиной подобен пересеченному ландшафту, изобилующему долинами и возвышенностями. Дверь и потолок, демонстрируя великолепное пренебрежение к общепринятому порядку вещей, расходятся, образуя широкую щель. Должно быть, лет этак полсотни назад они крупно повздорили меж собой и с тех пор предпочитают держаться друг от друга на расстоянии.
Октября 2. Моя хозяйка, тощая старуха с блеклым, точно присыпанным пылью лицом, весьма необщительна. Несколько слов, которые она роняет порою, причиняют ей, кажется, физические страдания. Верно, легкие у нее забиты пылью. Чего не скажешь о моих комнатах, вовсе избавленных от этой субстанции стараниями самой хозяйки и ее помощницы, юной атлетки, в обязанности которой входит также приносить мне завтрак и разжигать огонь в камине. Итак, хозяйка моя отличается крайней замкнутостью. В ответ на мои учтивые расспросы она скулю сообщила, что сейчас я единственный ее жилец. Мои комнаты несколько лет пустовали. Правда, наверху жили джентльмены, но теперь они съехали.
Хозяйка, говоря со мной, никогда не глядит прямо в глаза; она останавливает обычно свой сумрачный взгляд на средней пуговице моего жилета, чем повергает меня в сильнейшее беспокойство – не на ту пуговицу застегнул, нервно думаю я, или, может быть, пуговица не там пришита.
Октября 8. Расходную книгу моя хозяйка содержит в образцовом порядке, и счет она мне выставила за неделю вполне умеренный. Молоко и сахар – семь пенсов, хлеб – шесть пенсов, масло – восемь пенсов, джем – шесть пенсов, яйца – один шиллинг и восемь пенсов, прачка – два шиллинга и девять пенсов, керосин – шесть пенсов, прислуга – пять пенсов, итого – двенадцать шиллингов и два пенса.
У хозяйки есть сын, он, по ее словам, «кондухтор на омнибусе». Изредка он приходит навестить матушку. Похоже, «кондухтор» не пренебрегает горячительными напитками, ибо наверху мне слышно, как он падает, натыкаясь на мебель, и изъясняется при этом неподобающе громогласно во всякое время дня и ночи.
Все утро я провожу дома – кропаю статьи, стишки в юмористические журналы, ну и, конечно, роман, над которым тружусь вот уже три года и который снится мне по ночам; пишу также книгу для детей, где даю волю воображению, и некий трактат, который мне суждено писать до конца моих дней, ибо сочинение это есть честное свидетельство борений моего духа, его торжеств и поражений. Помимо всего упомянутого, я не оставляю трудов над сборником стихотворений, который служит мне отдушиной и моих сновидений не тревожит. Словом, занят я постоянно. После обеда, правда, стараюсь совершать для моциона прогулки через Риджентс-Парк и Кенсингтон-Гарденз или за город, в Хэммпетед-Хит.
Октября 10. Сегодня все идет неладно. Обычно к завтраку мне подают два яйца. Нынче утром одно оказалось тухлым. Я позвонил. Когда пришла Эмили, я, не поднимая головы от газеты, буркнул:
– Яйцо тухлое.
– Неужто, сэр? – воскликнула она. – Мигом принесу другое. – И ушла, прихватив с собой яйцо.
Я не начинал завтракать, ожидая, когда она вернется. Минут через пять Эмили наконец явилась, положила яйцо на стол и вышла. Отложив газету, я собрался было приступить к трапезе и тут обнаружил, что Эмили унесла свежее яйцо, а испорченное – пожелтевшее и местами покрытое зеленью – так и лежит в полоскательной чашке. Я снова позвонил.
– Вы унесли не то яйцо.
– Ах! – всполошилась она. – То-то, гляжу я, оно пахнет не сказать чтоб так уж плохо.
Эмили снова ушла и вскоре воротилась со свежим яйцом. Теперь я получил два свежих яйца, но вовсе потерял аппетит. Разумеется, это пустяки, но такая бестолковщина привела меня в крайнее раздражение. Злосчастное яйцо повлияло на все, что мне пришлось делать сегодня. Статью я написал очень дурно и порвал ее. Потом у меня разыгралась страшная головная боль. Весьма недовольный собою, я выругал себя скверными словами и, поставив крест на работе, отправился на долгую прогулку.
На обратном пути пообедал в дешевом ресторане и около девяти вернулся домой.
Едва вошел в дом, как начался дождь и поднялся ветер. Все предвещало недобрую ночь. Мой переулок выглядел уныло и мрачно, а в сенях на меня пахнуло могильным холодом. Это была первая ненастная ночь, которую предстояло мне провести в новом жилище. В доме гуляли ужасные сквозняки. Они налетали с разных сторон и сходились посреди комнат, образуя водовороты и вихри; ледяные воздушные струи, казалось, шевелили волосы у меня на голове. Старыми галстуками и разрозненными носками я заткнул щели в оконных рамах и сел у дымящего камина, чтобы немного согреться. Попытался писать, но обнаружил, что рука коченеет и превращается в ледышку.
Ну и шутки разыгрывает ветер со старым домом! Он врывается в наш забытый богом переулок с таким звуком, точно сотни ног мчатся в спешке и замирают вдруг у самых дверей. И мне чудятся какие-то странные лица; прильнув к окнам, они внимательно глядят на меня. Потом толпа вновь приходит в движение и с тихим бормотаньем и смехом в мгновение ока бесследно рассасывается. И вот опять бешеный порыв ветра – и снова прибегают какие-то люди и жадно глядят в мои окна.
В другой стене моей комнаты тоже есть небольшое квадратное окно, оно выходит в некое подобие шахты или колодца, ибо до стены соседнего дома не более шести футов. Ветер влетает в эту трубу порывами и, завывая, умирает в каменном жерле. Прежде мне никогда не приходилось слышать подобных звуков. Так я и сидел у камина в теплом пальто, слушая то вой ветра, то басовое гудение огня. Казалось, будто я на корабле, в море, и пол, точно палуба, ходит подо мной ходуном…
Октября 12. Если бы я был не столь одинок и не столь беден!.. И тем не менее я люблю свое одиночество и свою бедность. Одиночество заставляет ценить общество дождя и ветра, а бедность помогает сохранить здоровую печень и избавляет от соблазна впустую тратить время и волочиться за женщинами. Дурно одетый бедняк – не слишком желанный поклонник.
Родители мои умерли, а единственная сестра… Нет, она-то как раз не умерла – вышла замуж за богача. Они все время путешествуют: он – чтобы обрести здоровье, она – чтобы забыться. Я давно изгнал сестрицу из своей жизни по причине ее полного ко мне пренебрежения. Дверь за нею закрылась навсегда после того, как, не давая о себе знать целых пять лет, она вдруг прислала мне к Рождеству чек на пятьдесят фунтов. Чек, подписанный рукой ее мужа! Разумеется, я вернул его – разорвал на мелкие кусочки и вложил в конверт без марки. По крайней мере, получил удовольствие от мысли, что ей это послание даром не пройдет! Вскоре она прислала мне ответ, написанный пером столь толстым, что три строчки заняли всю страницу: «Видно, ты, как всегда, не в своем уме и к тому же груб и неблагодарен».
Надо сказать, я живу в вечном страхе, что безумие, которым были одержимы некоторые из моих предков по отцовской линии, может, пощадив два-три поколения, вселится в меня. Мысль, что я могу лишиться рассудка, не дает мне покоя, и сестра знает это. После вышеупомянутого обмена любезностями я и захлопнул со стуком дверь моего сердца теперь уже навсегда. Со стен, разбившись вдребезги, попадал драгоценный фарфор, с которого только и надо было что немного стереть пыль, – там хранились такие редкостные вещи! А в зеркала, украшавшие стены, я любил заглядывать порою, ловя в них туманные образы детства: зеленые лужайки, венки из маргариток, лепестки цветущих яблонь, сорванные ветром и унесенные прочь теплыми дождями, разбойничью пещеру – заветную цель дальней прогулки, яблоки, припрятанные на сеновале… Сестра была в то время моей неизменной спутницей. Но когда дверь захлопнулась, трещины рассекли зеркала сверху донизу, и навсегда исчезли видения, населявшие их. Теперь я совсем один. В сорок лет поздно заново заводить тесную дружбу, а все прочие отношения не стоят и стараний.
Октября 14. Спальня у меня небольшая – десять на десять футов. Она расположена ступенькой ниже передней комнаты. Погожими ночами в обеих комнатах на удивление тихо – в нашем глухом переулке совсем нет уличного движения. Если не считать бесчинств, которые порой устраивает здесь ветер, то наш тупик – поистине укромный уголок. В конце его, как раз под моими окнами, с наступлением темноты собираются со всей округи кошки. Они усаживаются в широкой нише слепого окна соседнего дома, и после половины десятого, когда ненадолго появляется почтальон, ничьи шаги уже больше не нарушают зловещего кошачьего бдения – ничьи, кроме моих собственных, да еще порой протопает нетвердой походкой хозяйский сын, «кондухтор».
Октябрь 15. Обедал в закусочной яйцами-пашот и кофе, потом прогулялся вокруг Риджентс-Парка. Когда вернулся домой, было десять часов. Насчитал ни много ни мало тринадцать кошек – все, как одна, серые, они жались к стене, прячась от ветра. Ночь стояла холодная, и звезды сверкали в иссиня-черном небе, как ледяные кристаллики. Кошки повернули головы и молча смотрели мне вслед. Под взглядом их немигающих глаз меня охватила странная робость. Пока я возился с замком, они бесшумно попрыгали наземь и припали к моим ногам, точно просили, чтобы я их впустил. Но я захлопнул дверь у них перед носом и поспешно взбежал наверх. В передней комнате, куда я вошел за спичками, было холодно, как в склепе, и в воздухе чувствовалась странная сырость.
Октября 17. Несколько дней трудился над глубокомысленной статьей, в которой не было места для игры воображения. Мне постоянно приходится обуздывать фантазию строгими доводами рассудка; я боюсь дать ей волю, ибо она заводит меня порою бог знает куда: то в заоблачные выси, то в преисподнюю. Никто, кроме меня, не понимает, как это опасно. Однако какую глупость я написал, ведь рядом нет никого, кто мог бы знать или понимать что бы то ни было! В последнее время мне приходят в голову странные мысли – мысли, которые прежде никогда не посещали меня: я думаю о лекарствах и снадобьях, о том, как лечить редкие болезни. Даже вообразить себе не могу, откуда это у меня, – никогда в жизни меня не волновали подобные вопросы. Вот уже несколько дней, как мне пришлось отказаться от моциона, ибо погода стоит ужасная; послеобеденные часы неизменно провожу в библиотеке Британского музея, куда мне открывает доступ читательский билет.
Сделал пренеприятное открытие: в доме водятся крысы. Ночами, лежа в постели, слышу, как они носятся по ухабам и ямам, которыми изобилует пол в передней комнате. Какой уж тут сон!
Октября 19. Обнаружил, что в доме живет маленький мальчик, вероятно сын «кондухтора». В погожие дни он играет в переулке – катает по булыжной мостовой деревянную повозку, у которой нет одного колеса, производя при этом душераздирающий грохот. Вот и сегодня… Крепился, сколько мог, пока не почувствовал, что нервы мои раздражены до крайности и что я не в состоянии написать больше ни строчки. На мой звонок явилась служанка.
– Эмили, не могли бы вы попросить малыша не шуметь? Невозможно работать.
Девушка удалилась, а мальчика вскоре позвали, и он исчез в кухонной двери. «Вот чудовище, – мысленно выбранил я себя, – испортил малышу всю игру!» Однако через несколько минут шум возобновился. «Нет, это он чудовище», – подумал я: теперь мальчишка волочил сломанную повозку по булыжникам за веревку. Я почувствовал, что мои нервы больше не выдержат этого испытания, и снова позвонил.
– Этот грохот должен быть немедленно прекращен.
– Да, сэр, – усмехнулась Эмили. – Понимаете, у тележки колеса нету. Конюхи хотели было починить, но малый уперся, не дам, говорит, мне так больше нравится.
– А мне до него нет дела. Шум надо прекратить. Я не могу работать.
– Да, сэр. Пойду скажу миссис Монсон.
Наконец-то воцарилась тишина.
Октября 23. Всю неделю каждый божий день повозка грохотала по булыжной мостовой, так что мне наконец стало казаться, будто это громыхает огромный четырехколесный фургон, запряженный парой лошадей; каждое утро я вынужден был звонить и просить, чтобы юного джентльмена хоть немного утихомирили. Последний раз миссис Монсон сама поднялась ко мне и выразила сожаление по поводу того, что меня обеспокоили.
– Больше этого не повторится, – пообещала она и, став вдруг разговорчивой, поинтересовалась, достаточно ли удобно я устроен и нравятся ли мне комнаты.
Я отвечал весьма сдержанно. Упомянул о крысах.
– Это не крысы, а мыши, – возразила она.
Тогда я указал ей на сквозняки. Она в ответ:
– Да, ваша правда, дом-то худой.
Наконец, я пожаловался на кошек, а она заметила, что, сколько себя помнит, кошки водились тут всегда. И в заключение сообщила, что дому этому более двухсот лет и что джентльмен, который занимал эти комнаты до меня, был художник и владел «подлинными картинами Чима Буя и Рафла, все стены ими завешал». Я не сразу сообразил, что она имеет в виду Чимабуэ и Рафаэля.
Октября 24. Вечером приходил сын, «кондухтор». Очевидно, он был навеселе, ибо, уже лежа в постели, я слышат громкие раздраженные разговоры в кухне. Мне удалось даже разобрать несколько слов, донесшихся ко мне из-под пола: «Сжечь этот дом дотла, и дело с концом». Я постучал в пол, и голоса сразу смолкли, правда, потом мне сквозь сон снова слышались крики.
Вообще говоря, комнаты у меня очень тихие, порой мне кажется даже, слишком уж тихие. В погожие ночи здесь безмолвно, точно в могиле; можно подумать, дом стоит в глухой деревне.
Уличный шум если и достигает моего слуха, то лишь как отдаленный низкий рокот, который порой звучит зловеще, подобно топоту надвигающихся полчищ или грому исполинской приливной волны, где-то далеко-далеко набегающей на ночной берег.
Октября 27. Миссис Монсон при всей своей замечательной немногословности на редкость бестолкова и суетлива. Она делает преглупые вещи, например, стирая пыль в моих комнатах, учиняет страшный беспорядок. Пепельницы, которым надлежит стоять на письменном столе, тупо выстраивает рядком на каминной полке. Подносик для перьев ухитряется запрятать среди книг на пюпитре, вместо того чтобы поставить рядом с чернильницей. Перчатки с идиотическим упорством каждый день аккуратно раскладывает на полупустой книжной полке, и мне приходится перекладывать их на низкий столик у двери. Кресло задвигает между камином и лампой так, что сидеть в нем крайне неудобно. А как неровно стелет скатерть с изображением Тринити-Холла! [1]1
Один из колледжей Кембриджского университета, основан в 1350 г. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть]При взгляде на него мне начинает казаться, что галстук у меня съехал набок, а сюртук застегнут не на ту пуговицу. Она доводит меня до белого каления. Даже самая ее безответность и кротость раздражают меня. Так бы и запустил в нее чернильницей – пусть хоть какое-то выражение мелькнет в ее рыбьих глазах и что-нибудь вроде жалобного писка сорвется с бледных губ. Бог мой! Что за мысли! Какая жестокость! Ну, не глупо ли? У меня такое странное чувство, будто эти слова, эти выражения не из моего лексикона, будто кто-то нашептал их мне на ухо – настолько несвойственны они мне.
Октября 30. Вот уже месяц, как я здесь обосновался. Видимо, это жилище мне не благоприятствует. Головные боли участились и усилились, а расстроенные нервы являют собою постоянный источник дурного самочувствия и раздражительности.
Я невзлюбил миссис Монсон, и, уверен, она платит мне тем же. Довольно часто у меня почему-то возникает ощущение, что в доме происходит нечто такое, о чем я и представления не имею и что хозяйка старательно от меня скрывает.
Сегодня ее сын ночевал здесь, и утром, стоя у окна, я видел, как он выходит. Он посмотрел наверх и поймал мой взгляд. Эдакий грубый, неуклюжий мужлан, и рожа отвратительная. Да еще, увидев, что я на него смотрю, позволил себе издевательски ухмыльнуться. Так мне показалось, по крайней мере.
Видимо, я становлюсь слишком чувствителен ко всяким пустякам. Полагаю, причиной тому расстроенные нервы. Сегодня после обеда, когда сидел по обыкновению в читальном зале Британского музея, вдруг заметил, что несколько человек, глядя поверх книг, внимательно следят за каждым моим движением. Стоило мне поднять глаза, как я ловил на себе их взгляды. Это показалось мне столь невыносимым, что я решил уйти из библиотеки ранее обыкновенного. Подойдя к двери, я оглянулся и увидел, что все головы повернулись в мою сторону. Это чрезвычайно меня расстроило, хотя, наверное, глупо принимать близко к сердцу такие пустяки. Когда я здоров, они меня совсем не трогают. Надобно чаще ходить на прогулки. В последнее время я почти вовсе от них отказался.
Ноября 2. Совершенное безмолвие этого дома начинает удручать меня. Мне бы хотелось, чтобы наверху кто-нибудь поселился. А так ничьих шагов не слышно у меня над головой, никто не пройдет мимо моей двери, никто не поднимется по лестнице, ведущей наверх. Любопытно бы поглядеть, что там в этих верхних комнатах…
Я так одинок, мне не с кем словом перемолвиться. Я заброшен в этот глухой угол и всеми забыт… Однажды поймал себя на том, что вглядываюсь в высокие, рассеченные трещинами зеркала, силясь разглядеть в их глубине солнечный луч, пляшущий в листве яблонь. Но теперь там толпятся лишь таинственные тени, и я спешу отвернуться.
Весь день сегодня темно и безветренно. Пришла пора густых туманов. По утрам читать приходится с настольной лампой. Повозки сегодня не слышно, и, право, мне не хватает ее жизнерадостного громыхания. Нынешним хмурым безмолвным утром я, наверное, был бы рад ему. Ведь это привычный, повседневный шум – не то что некоторые другие звуки, которыми полнится этот заброшенный дом в конце тупика. Ни разу не видел здесь полисмена, да и почтальон вечно спешит прочь, никогда ни на минуту не замешкается.
10 часов вечера. Сейчас, когда я пишу свой дневник, мне слышно только слабое невнятное бормотание большого города и тяжкие вздохи ветра. Эти звуки сливаются друг с другом. Но время от времени во тьме раздается жуткий, пронзительный кошачий вопль. Как только спускаются сумерки, кошки собираются под моими окнами. Ветер залетает в узкий колодец, образованный стенами домов, громко ухая, точно где-то вдали хлопают огромные крылья. Какая тоскливая ночь! Чувствую себя потерянным и всеми забытым.
Ноября 3. Из окон мне видна парадная дверь. Когда к ней подходят, я вижу шляпу, плечи и руку, дергающую звонок. С тех пор как я поселился здесь два месяца назад, только два моих прежних приятеля приходили навестить меня. Обоих я видел из окна, прежде чем они успевали войти, и слышал, как они справляются обо мне. Ни тот ни другой больше не приходили.
Глубокомысленную статью я таки дописал. Однако, перечитав, остался недоволен собою и перечеркнул чуть ли не все страницы. Странные мысли, странный язык – я даже не мог объяснить, откуда они взялись, и взирал на написанное мною в изумлении, чтобы не сказать – в тревоге. Это не мои мысли, и способ их выражения совсем мне не свойствен, не припомню даже, писал ли я это вообще. Быть может, память начинает изменять мне?..
Как всегда, не могу найти перьев. Эта глупая старуха каждый раз прячет их в новое место. Следует отдать должное ее удивительной изобретательности – попробуй найди столько тайников! Я не раз говорил с ней, но она неизменно отвечает: «Да, я скажу Эмили, сэр». Эмили же говорит: «Да, я скажу миссис Монсон, сэр». Тупость этих двух особ безмерно меня раздражает и мешает сосредоточиться. Взять бы эти перья да вонзить им в глаза, а потом выгнать – пусть их, ослепших, исцарапают и раздерут в клочья голодные кошки.
Ну и ну! Что за отвратительная мысль! Откуда она взялась, ума не приложу? Уж кто-кто, только не я мог вообразить себе такое. Однако я чувствовал, что непременно должен это написать. Точно какой-то голос звучал у меня в ушах, и перо мое не желало остановиться, покуда не вывел я последнего слова. Какой дурацкий вздор! Мне следует сдерживать себя, и я не отступлю от этого намерения. Необходимо регулярно совершать прогулки, ибо нервы у меня совсем расходились, да и печень ужасно досаждает.
Ноября 4. Слушал во Французском квартале любопытнейшую лекцию на тему смерти, но от духоты в зале и переутомления нечаянно задремал. Однако то, что успел услышать, поразило мое воображение. Говоря о самоубийстве, лектор заметил, что оно не есть способ избежать страданий в настоящем, но лишь приготовление к скорбям грядущим. Самоубийцам, сказал он, не удается уйти от ответственности за содеянное: они обречены вернуться, дабы продолжить жизнь именно с того момента, когда насильственно ее оборвали, да еще принять новые страдания за свое малодушие. Многие из них блуждают в потустороннем, жестоко мучаясь, покуда не вселятся в чье-нибудь тело, обычно в лунатика или слабоумного, которые не могут противиться страшному вторжению. А для самоубийц это единственное спасение. Право, какие ужасные вещи он говорит, подумал я, просто кровь стынет в жилах! Лучше бы мне всю лекцию проспать и не слышать этого вздора. Мой ум и без того отличается болезненной впечатлительностью, и подобные мистические бредни скверно воздействуют на меня. Я бы запретил распространение столь вредных для общества идей, – и куда только смотрит полиция? Напишу-ка в «Таймс» и выскажу, что я об этом думаю. Хорошая мысль.
Возвращаясь домой по Греческой улице, что в Сохо, я вдруг представил себе, будто время пошло вспять и я перенесся на сто лет назад – Де Квинси [2]2
Де Куинси, Томас (1785–1859) – английский писатель-романтик, продолжатель традиций «озерной школы», автор автобиографической «Исповеди англичанина, любителя опиума» (1822).
[Закрыть]еще жив, вот он бредет в ночи, обращаясь в стихах к своему неизменному, вкрадчивому и могущественному зелью. А вот где-то рядом его фантастические видения. Воображение мое разыгрывается, дальше – больше: мне грезится, как он спит в огромном холодном пустом доме, а рядом странное маленькое бездомное существо, напуганное призраками, таящимися в углах; и тени обступают их обоих, накрытых одним плащом. Или вот он блуждает по ночным улицам, и призрак Анны следует за ним; или спешит на вечное свидание на Грейт-Титчфилд-стрит – свидание, на которое она никогда уже не придет. Какое убийственное уныние, какая безысходная несказанная скорбь, какая пронзительная боль обрушиваются на меня, как только я осмеливаюсь приобщиться к тому, что томило душу этого безнадежно одинокого юноши, почти мальчика!..
Свернув в тупик, я увидел свет в верхнем окне и неправдоподобно огромную тень головы и плеч на шторе. «Что может делать там, наверху, хозяйский сын в столь поздний час?» – с удивлением подумал я.
Ноября 5. Утром, сидя по обыкновению за письменным столом, я вдруг услышал, как скрипят ступени под чьими-то шагами. Кто-то осторожно постучал в мою дверь, я подумал, что это хозяйка, и сказал:
– Войдите! – Стук повторился, я крикнул громче прежнего: – Войдите! Да входите же! – Но никто не повернул ручку двери. – Не хотите – стойте там! – раздраженно буркнул я, продолжая писать.
Продолжая? Как бы не так! Я попробовал было, однако мысли мои смешались, и мне не удалось написать ни строчки. Утро выдалось темное, стоял плотный желтоватый туман – словом, черпать вдохновение было неоткуда, а тут еще эта глупая старуха затаилась под дверью, ожидая, когда я снова приглашу ее войти. Во мне поднялось такое раздражение, что я уже не мог усидеть на месте. Вскочил, распахнул дверь…
– Что вам надобно и почему вы, собственно, не входите?
Однако слова мои повисли в пустоте. За дверью не было ни души, только сырая тяжелая мгла желтоватыми клубами наполняла темную лестницу.
Я в сердцах захлопнул дверь, проклиная этот злосчастный дом с его таинственными шорохами, и вернулся к работе. Через несколько минут Эмили принесла мне письмо.
– Что, миссис Монсон или вы стучали сейчас мне в дверь?
– Нет, сэр.
– Вы уверены?
– Миссис Монсон ушла на рынок, и в доме только я да малец, больше никого нету. А я вот уже целый час как мою посуду, сэр.
Мне почудилось, что Эмили слегка побледнела. Она беспокойно переминалась с ноги на ногу, а потом шагнула к двери, бросив через плечо тревожный взгляд.
– Погодите, Эмили, – остановил я девушку и рассказал ей, как кто-то стучал ко мне в дверь. Она тупо молчала, но глаза ее беспокойно бегали.
– Кто это был? – спросил я, кончив свой рассказ.
– Миссис Монсон говорит, мыши и боле никто, – монотонно бубнила служанка, точно повторяя затверженный урок.
– Мыши?! – воскликнул я. – Ничего подобного! Говорю вам, кто-то стоял у меня под дверью. Кто это? Хозяйский сын дома?
Эмили вздохнула и ответила вдруг с неожиданной искренностью, как будто решилась открыть мне правду:
– Да нет же, сэр. В доме никого нету, только вы, я да малец, кому же еще торчать у вас под дверью? Право слово, некому. Что касается до этого стука… – Она вдруг осеклась, точно нечаянно сказала лишнее.
– Ну, так что же насчет стука? – спросил я как можно мягче.
– Дохлое дело, – запинаясь пробормотала она, – это не мыши, и шаги тоже… – и снова осеклась.
– Может быть, что-то неладное с домом?
– Господи помилуй, нет, сэр; трубы в полном порядке!
– Я говорю не о трубах, милочка. Я спрашиваю, не случилось ли здесь чего-нибудь… дурного?
Эмили покраснела до корней волос, потом внезапно снова побледнела. Очевидно, бедная девушка испытывала сомнения: ей и хотелось, и боязно было мне что-то открыть. По-видимому, ей запретили говорить на эту тему.
– Мне ведь, в общем, все равно, – сказал я ободряюще. – Просто хотел знать, что произошло.
Подняв на меня испуганный взгляд, служанка забормотала что-то об «оказии с джентльменом, который жил наверху». Тут вдруг снизу раздался пронзительный голос:
– Эмили! Эмили!
Это вернулась хозяйка, и девушка тотчас ринулась вниз, будто ее за веревочку дернули, оставив меня теряться в догадках о том, что же такое, в самом деле, могло произойти с жильцом сверху и какое касательство это происшествие имеет ко мне, жильцу снизу, вынужденному прислушиваться к каким-то подозрительным звукам…
Ноября 10. Я добился серьезного успеха – окончил глубокомысленную статью, ее приняли в «Ревю» и туг же заказали новую. Чувствую себя бодрым и здоровым, регулярно совершаю прогулки, сплю крепко – ни головных болей, ни нервных расстройств. Отличные пилюли дал мне аптекарь! Слушаю, как внук хозяйки громыхает своей повозкой, и не испытываю никакого раздражения, порой, кажется, сам охотно присоединился бы к нему. Даже хозяйка с ее мучнисто-бледным лицом и та вызывает у меня теперь только сочувствие; мне жаль ее, она такая старая, такая изможденная и так же нескладно сколочена, как и ее дом. Похоже, ее однажды ужасно напугали, и с тех пор она так и живет, ожидая всякую минуту нового потрясения. Когда я сегодня попросил ее – очень мягко – не класть перья в пепельницу, а перчатки на книжную полку, она, кажется, впервые подняла на меня свои бесцветные глаза и проскрипела с неким подобием улыбки:
– Я постараюсь запомнить это, сэр.
Я почти готов был похлопать ее по плечу и сказать: «Ну, ну, приободритесь и смотрите веселей! Жизнь не так уж плоха, в конце концов».
О, я чувствую себя гораздо, гораздо лучше, а все благодаря прогулкам и здоровому сну, а также тому, что работа ладится! Точно по волшебству, воскресает душа, изъеденная отчаянием и горечью несбывшихся ожиданий. Даже кошки вызывают у меня теперь прилив дружеского расположения. Когда я вернулся домой часов в одиннадцать вечера, они строем проводили меня до двери; я наклонился, чтобы погладить ту, что была поближе ко мне. Увы! Кошка зашипела, фыркнула и ударила меня лапой. Когти оставили на коже кровавую царапину. Стая с воем унеслась во тьму. Можно подумать, я оскорбил этих коварных созданий в лучших чувствах. Похоже, они и впрямь ненавидят меня, наверное, только ждут подкрепления, чтобы напасть. Ха-ха! Несмотря на минутную досаду, мысль эта позабавила меня, и я, улыбаясь, поднялся к себе.
Огонь погас, и мне показалось, что в комнате еще холоднее, чем всегда. Пробираясь ощупью к камину за спичками, я вдруг почувствовал, что тут кто-то есть – стоит в темноте подле меня. Разумеется, видно ничего не было, но, шаря по полке, я вдруг коснулся пальцами чего-то холодного и влажного… Ей-богу, чья-то рука! Мороз пошел у меня по коже.
– Кто здесь?
Мой вопрос канул в тишину, точно камешек в глубокий колодец. Ответа не было, но я услышал, как кто-то тихо крадется к двери – неверные шаги и шорох одежды, задевающей мебель. Я нащупал спичечный коробок и чиркнул спичкой, ожидая, признаться, увидеть миссис Монсон, Эмили или даже хозяйского сына, «кондухтора», но пламя газового рожка осветило пустую комнату – в ней не было ни души.
Я почувствовал, как волосы у меня на голове встают дыбом, и инстинктивно прижался спиной к стене – так, по крайней мере, можно быть уверенным, что никто не подберется сзади. Смятение охватило меня, однако через минуту-другую я взял себя в руки. Дверь была отворена; дрожа от страха, я еще раз осмотрел комнату и вышел на лестницу. Свет из моей комнаты падал на площадку, но я никого не видел и не слышал.
Хотел уже вернуться в комнату, когда ухо мое вдруг уловило какой-то звук – совсем слабый, наподобие дуновения ветра, он доносился откуда-то сверху, однако то не мог быть ветер, ибо ночь была тиха, как могила. Хотя звук больше не повторялся, я решил подняться и выяснить, в чем дело. Не могли же и слух, и осязание одновременно обмануть меня. Итак, со свечою в руке я, бесшумно ступая, пустился в это не сказать чтоб приятное странствие по таинственному верхнему этажу.
На первую лестничную площадку выходила только одна дверь – запертая, на вторую тоже одна, и, когда я нажал ручку, она отворилась. В лицо мне пахнуло застоявшимся холодом, какой всегда бывает в нежилых помещениях, и в нос ударил неописуемый запах. Пользуюсь этим эпитетом сознательно: запах, хоть и слабый, едва уловимый, был тошнотворен и ни на что не похож, поэтому я затрудняюсь его описать.