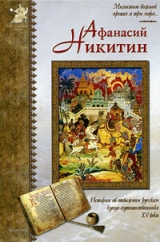
Текст книги "Афанасий Никитин"
Автор книги: Екатерина Мурашова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Мурашова Катерина
«АФАНАСИЙ НИКИТИН»
Повесть о тверском купце
Каффа

Пронзительно скрипнули узкие сходни. Высокий худощавый человек сбежал на берег. Казалось, город оглушил его, и он застыл прямо на дощатой пристани, уронив к ногам увесистую котомку. Никто не обращал на него внимания. Мало ли людей сходит на берег в Каффе? Каждый день в гавани бросает якорь до десятка кораблей из разных концов мира. Прибывает на них и оседает в каффских складах дорогое шерстяное сукно, испанский сафьян, стекло, зеркала, изящная посуда, янтарь, мечи, кинжалы, брони и кольчуги. Множество караванов идет по суше – из далеких областей Азии, Персии, Руси, Сибири и Китая. Везут они в Каффу пушнину, москательные товары, шелковые ткани, драгоценные камни и металлы.
Большой торговый город Каффа. Могучие двадцатиметровые стены и двадцать шесть башен охраняют каффскую крепость и дворец, где живет и правит наместник, консул могущественной Генуэзской республики.
Десять тысяч жителей и гостей города населяют Кафу. Вот и еще один пришелец нырнет сейчас в пеструю толпу и растворится в ее водовороте.
На вид человеку чуть более сорока лет. Годы и пережитые испытания не состарили, но как-то проявили его лицо, прорезав глубокими, выразительными бороздами. Каждому, кто глянет на это лицо, ясно – вот человек, который многое повидал, многое вынес, но не сломился, а лишь закалился и окреп, как закаляется в огне стальной клинок. Волосы его, брови и борода выгорели почти до соломенной белизны. Одет человек странно. На нем хорасанские штаны, арабстан-ская накидка, сандалии, какие носят на северном побережье Африки, рубаха неизвестного в Каффе покроя. Но самое странное в человеке – это вовсе не его одежда. Глаза. Светло-голубые, с черным ободком вокруг радужки. Как будто тоже выгорели под неизвестным палящим солнцем или выбелены морской солью. Как будто видели такое, о чем вечером у очага не расскажут и в сказках…
Вот человек нагнулся, подхватил свою котомку, поправил кошель на поясе и вошел в толпу.
Толпа в порту многоцветна и многоязычна.
– Эй, господин, не желаешь ли приобрести коня для поездки на север? Ты ведь с севера?
– А вот благовония для твоей красавицы!
– Есть ли у тебя ночлег, господин?
– Возьми финики. Сладкие, как шербет. Даром отдаю, себе в убыток!
– Подай, добросердечный ходжа, на бедность слепому калеке… Во имя Аллаха милостивого и милосердного!
– А вот лалы ормузские… Мимо, мимо…

К. Богаевский. Феодосия
Каффа – центр генуэзских колоний в Крыму (современное название – Феодосия).
Генуя – город в современной Италии, в средневековье – столица могущественной торговой республики. Много лет конкурировала с Венецианской республикой за рынки сбыта производимых товаров и получение прибылей от далеких колоний.
Фарси – персидский язык, на котором говорили купцы во многих странах.
– Поди! И ты поди! – голубые глаза с черным ободком смотрят куда-то вдаль. Или внутрь себя…
И вдруг человек словно споткнулся: старый нищий в лохмотьях, весь в беловатой коросте безнадежно тянет корявую руку:
– Пода-айте, Христа ради! Помогите, добрые христиане, ради Христа, ради Его Святой Матери…
Человек, раздвигая прохожих, в три прыжка оказывается рядом со старым нищим. Наклоняется так низко, что едва не падает на мощенную камнем мостовую. Говорит на фарси, слегка задыхаясь, словно после долгого бега:
– Ты… русскую речь… ты, отец, от Руси пришел? – спохватывается, повторяет то же самое по-русски.
– Да, – кивает головой убогий старик, – русич… Пода-ай…
Нищий смотрит на странного человека с опаской и надеждой. По лицу вроде бы и земляк. Но вот одежда… И эти выгоревшие глаза…

Человек развязывает кошель, протягивает нищему большую, тускло блестящую монету. Золотой?! Нищий замирает, не веря, потом скрюченные пальцы хищно хватают монету, и она мгновенно исчезает в глубине лохмотьев.
Странный человек щурится на солнце, вытирает глаза тыльной стороной ладони. Неужто слезы?! Выпрямляется, собираясь уходить.
– Кто ты? – спрашивает с любопытством нищий вслед уходящему человеку.
– Афанасий Тверитя-нин, – отвечает тот и, помолчав, добавляет: – Я пять лет русской речи не слыхал… Теперь вот услышал, будто в родном дому побывал…
– Чудны дела твои, Господи! – вздыхает нищий, незаметно ощупывая монету.
– Как на русское купеческое подворье пройти, знаешь?
– Сейчас прямо иди, в горку. Как ворота крепостные увидишь, повернешь направо. Там вскорости и будет подворье. А ты разве купец?
– А что, не похож разве? – усмехается человек.
– Да уж и не знаю, – старый нищий снова прячет глаза.
– Ладно, отец, прощай, Господь с тобой!
– Христом спасаемся, милостию Его, – бормочет нищий.
– Истинно так… – задумчиво соглашается незнакомец и идет прочь.
Старик облегченно вздыхает и еще глубже прячет заветную монету.

Лиса Винченцо

Вино из тонкогорлого серебряного кувшина налил в кубки темнокожий слуга.
– Афонас, торговый гость и гость в моем доме! Воистину ты совершил диковинное путешествие, – восторгался хозяин.
– Хожение мое еще не окончено, Винченцо, – качнул головой Афанасий, пригубливая терпкое душистое вино. – Надобно еще на Русь пройти.
– Пройдешь! Как не пройти! – с воодушевлением воскликнул Винченцо Перотта, помощник и доверенное лицо консула Генуи, Джоффредо Леркари, представитель могущественного Генуэзского банка святого Георгия. – Столько стран и народов ты уж преодолел, столько морских миль проплыл! Тебе, должно быть, сказали, что я – любитель слушать рассказы торговых гостей. Многие диковинные люди морем и сушей прибывают торговать в Каффу, много странных историй и баек рассказывают. Но такого удивительного рассказа мне слышать еще не приходилось! А нет ли у тебя, Афонас, карт тех мест?
– Нет, рисовать пути я не умею, да и готовых карт в Индийской земле не видывал.
– Жаль, Афонас, очень жаль… Но вот что ты обязан сделать! Ты же писать обучен?
– Грамоте разумею. Еще батюшкиными стараниями в малых годах, в родном дому обучен дьяком Димитрием.
– Вот! – искренне обрадовался Перотта. – Так запиши же обо всем, что видел. Это будет документ бесценный. Что мы об Индии знаем? Байки одни да сказки дикие. Это здесь, в просвещенной Каффе. А на родине твоей?
– Не кори, Винченцо, – Афанасий нахмурился, покачал головой. – Родина моя, Русь, грамотными и мудрыми людьми вельми богата. Ты бывал ли там, говорил ли с людьми смыслеными (мудрыми)? Или тоже байки слушаешь?
– Не сердись, Афонас, – Винченцо огорченно выпятил губу, блеснули живые сливовые глаза. – На Руси я не бывал и тебя обидеть не думал. Тебе верю. Да и должен каждый человек свой родной край ценить и хаять не давать. Так правильно. На том только на чужбине и выстоять можно. Верно я говорю?
– Верно, Винченцо! Ох, как верно сказал ты! – горячо подтвердил Афанасий. – Трудно в одиночку в чужом краю сохранить веру правильную, взгляд прямой! Так и хочется приспособиться, поддакнуть, где надо, промолчать, где выгодно…
– Аи, Афонас… – Перотта затряс головой, как бы вытряхивая что-то из волос, и неожиданно хлопнул в ладоши. – Джакомо-менестреля сюда!
Почти сразу, словно поджидал неподалеку, в зал вошел юноша в лиловых, обтягивающих длинные ноги штанах. В руках он держал лютню. Винченцо кивнул менестрелю, и тот протяжно запел на незнакомом Афанасию языке. Грустная, незамысловатая мелодия, как белый голубь, металась под высокими сводами зала и не находила выхода. Винченцо тосковал вместе с балладой, на его подвижном лице отражалось страдание. Торговый гость слушал вроде бы отрешенно, но вот резким движением рванул завязку у ворота, сжал в руке серебряный кубок. Мелодия смолкла, умолк и голос менестреля.

– О чем он пел, Винченцо?
– О том, как рыцарь отправился в дальний путь с благочестивой целью. Благородная дама осталась его ждать. На пути рыцаря было много препятствий, он сражался, побеждал чудовищ, но где-то потерял себя. И теперь он не знает, куда лежит его путь и ждет ли его еще благородная дама… Я слушал твой рассказ, Афонас, и подумал, что тебе будет близка эта баллада… Я сам люблю ее больше других. Прости, если напрасно растревожил тебя. Долг хозяина развлекать гостя…
– Ах, Винченцо! Ты правильно угадал! Эта песня про меня! Я не мог больше жить на чужбине, но и на любимую Русь иду в тревоге великой. Не потерял ли я себя, как тот рыцарь?!
– Ты глубоко смотришь в мир, Афонас. Ты найдешь ответ. Не знаю почему, но я верю тебе. Я слышал много рассказов торговых гостей. Все они не удерживались от того, чтобы рассказать больше, чем видели, уходили вслед за своим или чужим воображением. Только ты говорил о том, что видел сам. Больше десяти лет я представляю в Каффе Генуэзскую республику. Знаешь ли ты, где моя родина?

И. Айвазовский. Венеция

Неизвестный художник. Панорама Генуи
– Нет, Винченцо, откуда мне знать. Я думал, ты генуэзец.
– Я родился в Венеции, Афонас, и уже больше тридцати лет не видел родины. Джакомо пел венецианскую балладу. Он часто исполняет их для меня. Ты знаешь, Венеция до сих пор снится мне. О, как она прекрасна на рассвете, когда тени дворцов лежат на зеленых водах Большого канала, а тысячи голубей, просыпаясь, воркуют на площади Святого Марка… И гондольер у пристани, тихонько напевая себе под нос, собирает со дна гондолы цветы и факелы, оставшиеся после веселой ночной прогулки. Если бы ты видел, как грациозно скользит гондола по тихой воде…
– Почему же ты покинул Венецию?
– Там я был беден, мой род разорился, и у меня не было будущего. Я был молод. В Генуе и потом здесь, в Каффе, я нажил богатство, сумел сделать карьеру. Теперь у меня большой дом, семья, много слуг, я служу Генуэзскому банку святого Георгия, и в чем-то моя власть больше, чем у самого консула. Но иногда меня мучает мысль: зачем все это, если я не в Венеции? Ты понимаешь меня, Афонас?
– Да, да, Винченцо! Я думал об этом тысячи раз, глядя на чужое небо и мечтая о Руси. Сейчас я близко от цели, и опять сомнения терзают меня: правильно ли я поступаю, возвращаясь назад?

– За тебя, Афонас! – пылко вскричал Винченцо, пригубил вино и, нарушая все правила этикета, вскочил из-за стола, подошел почти вплотную к гостю. – Слушай, что я тебе скажу. Ты купец судьбой, но поэт в душе. Я такой же, и уже много лет в своих тайных записках изливаю мою тоску по Венеции и размышляю о сути вещей. И ты можешь и должен написать обо всем. И о своих терзаниях тоже. Твой рассказ – кладезь сведений о жизни заморских стран. Я перескажу твой рассказ в своих записках. Но… – Винченцо низко склонился к гостю и понизил голос: – Афонас, ты знаешь, что после падения Царьграда турецкий султан перекрыл проливы, и корабли из Генуи почти не пробиваются в Каффу. Ты не должен никому передавать мои слова, но я уверен, что Каффу скоро захватят турки. Что будет со мной и моими записками? Ты должен написать на своем языке и унести свои записки на Русь. Твои земляки прочтут и будут знать правду об Индийской земле. Все равно ты будешь ждать в Каффе весеннего каравана. Ты напишешь, Афонас?
– Святые люди, паломники, записывают свои хожения. А я кто?
– Ты тот, кто видел незнаемое. Тот, кто может рассказать об этом. Вот рассуди: сам бы ты у себя в Твери прочитал о таком? Если бы не ты, а кто другой написал?
– С великим интересом прочел бы! – горячо согласился Афанасий. – Всегда любил о хожени-ях в дальние места читать!
– Ну вот! – Винченцо торжествующе прищелкнул пальцами. – Убедил я тебя?
– Не знаю, что и сказать. Что ж это получится?
– А вот то и получится. Хожение Афонаса Тве-ритянина… куда хожение? В землю Индийскую?
– Так я сначала еще и через Персию с Божьей помощью прошел, и через Хвалынское море переплыл…
– Вот! Еще лучше… «Хожение за три моря Афонаса Тверитянина»… Как тебе?
– Афанасием Никитиным меня на родине кличут. По батюшке.
– Значит – «Хожение за три моря Афанасия Никитина». Теперь угодил?
– Хитрый лис ты, Винченцо. Угодил! И вином заморским напоил, и кушаньями вкусными накормил, и песней изукрасил, и в душу мою заглянул, и в свою заглянуть позволил. Как тебе теперь отказать?
Винченцо прав. Турки действительно захватили генуэзскую колонию. Случилось это в 1475 году, менее чем через три года после беседы Никитина с Пероттой. Судьба самого Перотты и его записок неизвестна.

К. Богаевский. Древняя крепость

– О! Я же говорил: глубоко глядит Афонас. Меня так в молодых годах и звали: Лиса Винченцо. А ты угадал!
– Ладно. Я тоже не лыком шит. Хочу с тобой о здешних торговых делах потолковать…
– Что ж не поговорить…
Винченцо быстро вернулся на свое место. На сливовые глаза словно шторки упали. Нету больше Винченцо. Сидит за столом важный генуэзский чиновник – синьор Перотта.
– Слушаю тебя, Афанасий Никитин…
У южной башни поджидал Афанасия чернявый юркий человечек с двумя слугами. Как завидел, бросился навстречу.
– Ну как, как, Афанасий? Не томи, скажи слово! Удалось ли договориться с Пероттой? Он хитрый лис, интересы своего банка ставит выше самой Генуи, а уж какие-то купцы русские ему и вовсе… Донага готов раздеть…
– Так его и звали… – задумчиво сказал Афанасий.
– Кого? – удивился человечек.
– Перотту. В юные годы сверстники звали его Лисой.
– Поделом. Ну что ж, удивил его твой рассказ?
– Удивил… Только непростой он человек. И мысль в мою душу заронил непростую…
– Все непростые, – проворчал человечек, с неудовольствием глядя на отрешенное лицо Афанасия. – Однако купец торговать должен. Прибыль иметь. Или я неправильно говорю?
– Правильно, Григорий, все правильно говоришь, – подтвердил Афанасий. – И я ничего не забыл. Все твои со Степаном торговые вопросы в разговоре ребром поставил.
– А сроку-то, сроку ждать сколько?
– До Введения во храм Богородицы обещался решить…
Григорий пожевал губами, прикинул что-то, покивал головой.
– Дай-то Господь, дай-то милостивец, – пробормотал он. – Успеем отторговаться так-то…
«Введение во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии» – праздник православной христианской церкви. Празднуется 4 декабря. Часто в средневековье считали время не по светскому (астрономическому), а по церковному календарю.

К. Богаевский. Старый Крым

И. Айвазовский. Башня. Кораблекрушение
«Дикое поле» – донские степи и земли вокруг них. Этот путь считался опасным, так как торговые караваны на этом пути часто грабили разбойники и кочевые орды татар.
Стило – палочка для письма с заостренным концом.
На русском подворье в ноябре малолюдно. Осенний караван ушел через Дикое поле месяц назад. Остались те, кто не решился с ним отправиться, опасаясь татар, да те, кто, как и Афанасий, прибыли позже и решили зимовать, дожидаясь весеннего каравана. Времени впереди много, вечера темные. Бегут по черному небу серебряные тяжелые тучи, горят промеж них яркие южные звезды, и мягко светит луна, которая одна на все земли. Горит в небольшой палате масляный светильник. Беленые стены, деревянный стол, каменная лавка, накрытая татарским ковром. За столом, сгорбившись, сидит на табурете человек. Перед ним шитая тетрадь, раскрытая на первой чистой странице. В руке у человека стило. Обтерев ладонью лоб, человек оборачивается в красный угол к иконе, истово крестится, обмакивает стило в горшочек с арабстанскими чернилами и решительно выводит первые строки: «За молитвы святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня, раба грешного, Афанасия Никитина сына…» Остановился, положил стило. – Грешен, ох, грешен! – бормочет Афанасий. Видно, что начало труда дается ему нелегко. Высокий лоб весь в поту, рука чуть заметно дрожит. – Кто я таков, чтоб о делах своих писать?! Перот-та – лис искуситель! Разве бросить все… Скрипят несмазанные дверные петли. На пороге Степан Васильев – московский купец, красивый, голубоглазый, с русой кудрявой бородой по грудь. Настоящий богатырь. На подворье рассказывают, в позатот год в низовьях Дона на его караван ночью разбойники напали. Так он один чуть не дюжину татар раскидал. Говорят верные люди, сами с тем караваном шли, своими глазами схватку видели.
– Ты чего, Афанасий, к трапезе не пришел? – с ласковым укором говорит Степан. – Люди без твоих рассказов соскучать успели. Меня пытают: где Афанасий? А я говорю: разве я сторож ему?
– Пост у меня сегодня.
– Каков же пост? – недоуменно хмурится Степан. – Четверг сегодня. Не перепутал ли ты, брат Афанасий, чего? А ты, гляжу… Чего делаешь-то? По торговым делам подсчеты ведешь?
– У меня свой пост, – терпеливо разъяснил Афанасий. – Чтоб душу и тело очистить. Дело я задумал. Вот с вечерней зори сижу, все не решаюсь приступить.
– Что ж за дело? Богоугодное?
– Надеюсь, что богоугодное, Степан. Очень надеюсь… Хочу вот хожение свое описать…
– О! Это славное дело ты задумал, Афанасий! – оживился Степан. – Рассказами твоими все подворье живет. Славное дело! А ты умеешь ли? – простодушно поинтересовался он.
Афанасий, обхватив руками плечи, застонал.
В среды и пятницы православные христиане постятся – не едят мясного и молочного. В эти дни разрешено есть рыбу. Четверг – не постный день.

«Дарья» – от персидского «дория» – море. Никитин пишет о трех морях. Их современные названия: Каспийское море, Аравийское море (часть Индийского океана) и Черное море. Кроме того, Никитин дважды плавал по Персидскому заливу.
– Откуда ж мне знать, Степан?! – вскричал он. – Грамоте я обучен. А так… Как же узнать не попробовав?
– Тоже верно, – Степан задумчиво поскреб в бороде толстыми пальцами. – Ну я тебе, пожалуй, мешать не буду, пойду…
Степан вышел, осторожно притворив дверь.
Афанасий снова взял стило и, низко склонившись над тетрадью и высунув от усердия кончик языка, вывел пониже строчкой:
«Записал я здесь про свое грешное хожение за три моря: первое море – Дербенское, дарья Хва-лынская, второе море – Индийское, дарья Гундус-танская, третье море – Черное, дарья Стамбульская.
Пошел я от Спаса Златоверхого…»
Затуманились странные глаза Афанасия. Поплыл в них огонек светильника, растворился, словно дымкой подернулся доселе ясный взгляд. Вспомнил Афанасий родную Тверь, которую уж шесть лет не видал…
Вперед всего вспомнился отчего-то холм над Волгою, с которого любил юноша Афанасий смотреть на родной город. Уходил на сенокосные поляны, слушал треск кузнечиков, вдыхал медовый запах трав, думал, молился, смотрел на небо высокое, плавно текущую реку… Велика и прекрасна русская земля! Чудно и загадочно устроен мир! Сколько в нем еще неоткрытых и непроявленных чудес! Удастся ли повидать их?

И. Горюшкин-Сорокопудов. Старая Русь

Словно разноцветные грибки рассыпаны маковки тверских церквей. На правом берегу девять церквей, а на левом – больше сотни! Над всем царит золоченый купол каменного собора – Спас Златоверхий.
Тверской кремль-крепость имеет вид треугольника. Самая длинная стена протянулась вдоль берега Волги, другая выходит к речке Тьмаке, а третью отделяет от посада глубокий сухой ров, поросший репьем и колючками. Стены кремля из бревен и жердей, обмазанных глиной. И церкви все, кроме Спаса, деревянные, и дома. Потому и горит Тверь часто. От одного дома занимается другой, от другого – третий… И так едва ли не треть города может выгореть. Береглись от пожаров, как могли. Только тепло в город придет, ходят по улицам Твери бирючи и кричат:
– Заказано накрепко, чтоб изб и мылен никто не топил, вечером поздно с огнем не ходил и не сидел, а для хлебного печенья и где есть варить – поделайте печи в огородах, подальше от хором; от ветру печи огородите и дубьями ущитите гораздо.
Бирючи – глашатаи князя. Громко выкрикивают на улицах и площадях его распоряжения и таким образом оповещают о них население города.
Ширванское царство занимало в то время область прикаспийского Закавказья. Главные города царства – Шемаха (помните Шемаханскую царицу в «Золотом петушке» у Пушкина?), Нуха, Куба и Дербент.
Вспомнил Афанасий и пожар лета 1465 от Рождества Христова. С него, если поразмыслить, и все его скитания начались. Стен кремлевских тогда огонь не тронул, но почти четверть посада превратилась в уголья. Пытались посадские люди пожар тушить, и от князя люди прибежали, да злой ветер разгонял огонь, нес с кровли на кровлю пылающие ошметья. Два дня и три ночи горела Тверь. Тогда и дом Афанасия сгорел почти со всем добром. Хорошо, жена Анфиса с детьми вовремя из дома выбежала, все живы-здоровы остались. Сам Афанасий на пожаре, чинов не разбирая, вместе с дворовыми людьми да слугами работал, руками да лицом обгорел, потом долго кожа клочьями слезала, язвами шла. Как поправился, стал думу горькую думать: как дела поправить, где денег взять, чтоб новый дом справить, сызнова дело торговое начать. Тогда-то и пришла в голову мысль: взять товару в долг и отправиться в Ширван. Там расторговаться, а, вернувшись, новый дом поставить – краше прежнего.
Ложась спать в наскоро возведенной избе, укрывшись лоскутным одеялом, Афанасий с женой мечтали о настоящих хоромах. Как наяву, представлял Афанасий свой новый дом. Три (обязательно три!) этажа – клеть, подклеть и терем для дочки. Крыльцо с пузатыми резными колоннами и крышей навесом. От крыльца вверх – парадная лестница. Ее перила, подпорки, кровля украшены резными петушками, солнышками, листьями, цветами и весело раскрашены яркими персидскими красками. Посмотришь – и душа радуется. Окна по фасаду с золочеными фигурками фантастических зверей, какие в книгах описаны. Афанасий сам резчикам объяснит, как резать.

Теперь уж не только в книгах, а наяву всяких диковинок повидал всласть.
Ставни, которыми окна на ночь закрываются, тоже можно пестро расписать, чтоб уж вовсе красиво было. Мыльню и поварню удалось от огня отстоять, там вода была, успели отлить, а вот конюшню, сенник и сарай для дров – все заново строить придется…
Сад-огород тоже от пожара пострадал. В огороде уж через две недели новая поросль пошла – на пепле все хорошо родится, а вот деревья когда еще восстановятся…
Пока в чужих странах был, наверное, уж и деревья выросли…
А у дома кустов сирени насадить. Дивно сирень росным утром пахнет, ни с чем тот запах не сравнить… Выйдешь летом к заутрене, глянешь на мир с крылечка расписного: солнышко восходящее на золотых куполах играет, колокол малиновым звоном душу гладит, сиреневый дух снизу восходит… Вот так бы и жить…
Афанасий до хруста сжал кулаки, глянул в узкое оконце. За окном стеклянная осенняя ночь, чужие смоляные запахи, откуда-то доносится визгливая перебранка на чужом языке да тоскливая песня припозднившейся цикады…
Поднялся, разминая пальцами затекшую спину, подлил из медного кувшинчика масла в светильник. Бросил взгляд на раскрытую тетрадь. Вспомнил, как учился читать-писать у дьяка Димитрия, желчного, болезненного человека, как тыкал Димитрий желтым пальцем в Псалтырь, хлестал Афанасия по плечам хворостиной и кричал тоненько, сердясь на нерадивость ученика:
В старом русском зодчестве подклеть – нижний, обычно нежилой этаж деревянного дома. Теремом называли и высокий богатый дом, и жилое помещение в верхней части такого дома.
Псалтырь – часть Библии, книга псалмов – религиозных песнопений.
На Руси посадом называли торговую часть города.

– Глаголь здесь, глаголь! Неужто не видишь, бестолочь! Первая буквица – глаголь!
Вслед за дьяком Димитрием вспомнилось и все детство, счастливое и беззаботное, в общем-то, время.
Отец Афанасия Никита Босой выбился в купцы из «походячих» торговцев, которые имели всего-то товару на полтинник, да и тот носили с собой. Умен и отважен был Никита, умел выгоду видеть и за себя постоять, потому и сумел к зениту жизни и денег скопить, и жениться, и лавку завести, и дом на посаде построить.
Сына родил поздно, оттого и любил его до безумия, и спрашивал строго.
Вспомнился строгий, неулыбчивый лик отца, обильная седина в густых волосах, в бороде, насупленные лохматые брови.
«Небось, я сам теперь вот так же выгляжу! Годы-то почти те же», – подумалось вдруг, и Афанасий снова устремился следом за воспоминаниями.
– Ты, Афанасий, моего дела продолжатель, – говорил Афанасию отец. – Сейчас должен учиться прилежно да к торговым делам с умом приглядываться. Разумеешь ли, что говорю?
– Разумею, батюшка, истинно разумею! – кивал Афанасий вихрастой головой, а сам прикидывал, как бы половчее да побыстрее сбежать на улицу к мальчишкам – в салочки да лапту поиграть.
– Так иди же урок повтори. А после обеда приходи в лавку.
– Да, батюшка, – понурившись, отвечал сын. Вот и опять некогда на улице погулять!
Жизнь в купеческом доме начинается рано. Летом с восходом солнца, зимой – часа за три до рассвета. Сутки делятся на две половины – день и ночь. Час восхода – это первый час дня, час заката – первый час ночи.
У Афанасия была своя маленькая комнатка на чердаке, там он спал, там и хранил свои нехитрые пожитки. За эту батюшкину прихоть величали Афанасия на улице – «боярином». Все друзья-сверстники своих покоев не имели – спали в общей комнате с домочадцами.
Утро начиналось с молитвы. После нее все низко кланялись батюшке-хозяину и расходились по своим делам. Матушка хлопотала по дому, раздавала уроки слугам и работникам. Позавтракав, батюшка обходил свое хозяйство, проверял, все ли в порядке, беседовал о том же с матушкой и лишь потом отправлялся в лавку.
В полдень он возвращался домой, и наступало время обеда. Обедали в самой большой комнате. Помолившись, садились на скамьи, прикрепленные к стенам, и «стольницы» – четырехугольные табуреты. Стол всегда был покрыт красивым под-скатерником. Афанасий по сей день помнит вышитого на подскатернике огненного петуха. Мальчишкой он всегда смотрел на него во время молитвы, и казалось, что петух подмигивает ему изумрудным бедовым глазом. К обеду поверх подскатерника стлали скатерть, и петух прятался.
Еда подавалась на стол вся сразу. Варево хлебали из общей миски, соблюдая очередь (первая очередь, естественно, батюшкина), осторожно и неторопливо неся ложку ко рту, подставляя под нее ломоть хлеба, чтоб не капнуло на скатерть.
Урок – это работа, заданная для выполнения в определенный срок.
На Руси считалось, что вышитые птицы оберегут дом от бед и несчастий.
Жареное или вареное брали из общего блюда руками. Перед каждым на столе стояла «торель», в которую полагалось складывать кости и другие объедки. Дети за столом сидели молча, а взрослые могли вести тихую, неторопливую беседу. В батюшкином дому (как и после в дому самого Афанасия) строго соблюдались все посты: в среды и пятницы мясного и молочного не ели, а только рыбное. Великим же постом не употребляли и рыбу, а только овощи да кашу на воде.

После обеда все по обычаю ложились отдыхать. Батюшка с матушкой спали, а Афанасий читал в своей комнатке. Потом, спустя пару часов, каждый возвращался к своим делам. Торговали в лавке часов до шести. После ходили в гости или занимались домашними делами. Затем ужинали.
В десять часов вечера весь дом засыпал.
Мирная, спокойная жизнь. Жить бы и радоваться. Но Афанасия с детства словно тянуло куда-то. Скучно было представить, что так и пройдет жизнь, день за днем, год за годом. Мир, как дивная сказка, лежал где-то вдалеке. Хотелось увидеть своими глазами, потрогать руками.
В 13 лет, глядя в пол и обмирая до мороза внутри, сказал батюшке:
– Вырасту, пойду на «отъезжий торг». Пусть в лавке приказчики торгуют, штаны протирают. А я хочу мир поглядеть, страны дальние…
Хорошо, вольготно прогулялась батюшкина плетка по худой Афанасьевой спине. После последовали разъяснения. Про опасность и ненадежность «отъезжих торгов», про риск потерять не только прибыль и товар, но и саму жизнь, про русские дороги, про татар и иных лихих людей. Афанасий порку вынес, не крикнув, и поучения все стоя выслушал. Остался при своем.
А батюшку пожалел. Один у него сын-наследник, а годы немалые. Вот и боится и его потерять, и дело, своим горбом сотворенное.
Но разве удержишь талую воду, когда она, журча и пенясь, стекает по дну оврага? Разве удержишь горячего коня, понесшегося вскачь?
Батюшка с матушкой, надо отдать им должное, по-всякому удержать пытались. Не получилось.
И вот повидал мир. Но доволен ли? Шесть лет дома не был, жену с милыми ребятишками не видал. Дочка Олюшка теперь уж невеста. Да и сыновья, небось, такими сорванцами выросли…
Афанасий покачал головой, облизнул потрескавшиеся губы. Нет! И дай Господь прожить жизнь заново, ничего не стал бы менять! Каждому Господь посылает свое испытание, и надо с честью его выдержать. Нет у Господа напрасных путей. Значит, и его, Афанасия, путь не напрасен. «Все, что видел, что пережил, – мое! И тысячу раз прав Лиса Винченцо – надо, обязательно надо рассказать о том…»
И Афанасий вновь склоняется над тетрадью…









