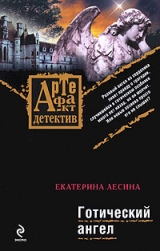
Текст книги "Готический ангел"
Автор книги: Екатерина Лесина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Матвей
Офис компании «Золотое руно», принадлежавшей Игорю Казину, занимал отдельное здание – уютного вида двухэтажный особняк с толстыми колоннами, поддерживающими щедро сдобренный лепниной портик. С лепнины на горшки с нарядными вечнозелеными шарами можжевельника текла вода. Ох и мерзкая же осень… холодно, адски холодно, и в горле снова першит. Вот чует сердце, что за все труды праведные ждет его ангина.
Внутри особняка было тепло, и личный секретарь Казина, солидного вида дама в строгом костюме, к шефу пустила без проблем.
– Вы только аккуратнее с ним, – попросила она, открывая массивную дверь. – Игорь Юрьевич – хороший человек, просто у него… сложная жизненная ситуация.
Игорь пребывал в той кондиции опьянения, которая свидетельствует о длительности и непрерывности процесса. Выглядел он отвратительно: немытые волосы прилипли ко лбу, физиономия опухла и покраснела, да еще и редкая белесая щетина придавала облику некую логическую завершенность.
– От Жанки? – Игорь поднялся навстречу, но зацепился ногой за изящный столик на колесиках, который и опрокинул вместе с содержимым. Бутылки покатились по полу, добавляя к букету запахов резкую спиртовую вонь.
– Вали отсюда! И скажи – развод! Сегодня же подам! Сегодня!
– Меня нанял ваш компаньон. – Подходить близко к неприятному типу, провонявшему потом, чесноком и водкой, желания не было, но, наверное, придется. Все-таки дело – прежде всего. Попытавшись проявить вежливость, Матвей представился: – Матвей Курицын.
– И на кой ты Генке? За сеструху просить прислал? Ведьма! Всегда знал, что ведьма! Покойная-то моя жена добрая была, ласковая, а Жанка – стервозина! Истеричка! Чего тебе надо?
– Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти вашей дочери. – На всякий случай Матвей отодвинулся, мало ли, алкоголики – народ непредсказуемый. Но Казин повел себя спокойно и даже по-деловому. Сел, кое-как отряхнул мятую грязную рубашку, волосы пригладил и, водрузив локти на колени, задумчиво произнес:
– Обстоятельства… ну загнул, обстоятельства… дерьмо, а не обстоятельства… но Генка – молодец… правильно, нужно разобраться, кто Машеньку подговорил. Ведь не сама же она решила?
В карих глазах Казина была такая надежда, что Матвей смутился, чего с ним не случалось уже давно. От смущения и ляпнул:
– Пока не уверен, но кое-какие сомнения возникли.
– Сомнения, значит… Генка говорит, конкуренты копают… и тебя нанял. Я сам должен был. Пить будешь?
– Благодарю, но не употребляю.
– Брезгуешь, – по-своему решил Игорь. – Ну и насрать, что брезгуешь. Я сам, я один… теперь вот один совсем остался, сдохну, и не заметит никто… Машенька, доченька единственная…
Смотреть на пьяные слезы было противно, и Матвей принялся разглядывать кабинет. Кабинет самый обыкновенный, внушающий уважение размерами и дорогой, нарочито массивной, «под старину», мебелью. Правда, бежевый диван пестрел разномастными и разноцветными пятнами, ковер сбился, задрался, открывая припыленный участок пола, а с вычурной скульптуры, неясно кого или что изображающей, свисал галстук.
– Ты спрашивай, спрашивай. – Игорь наклонился за бутылкой и, отхлебнув из горла, занюхал собственным рукавом. – Это правильно, что расследуешь. Я премию дам, если найдешь уродов, которые Машеньку угробили…
Похоже, разговор все-таки имел шансы состояться. Матвей, выбрав кресло почище, сел.
– Расскажите о Маше. Характер. Привычки. Друзья-подруги-увлечения.
– Не было у нее подруг. И увлечений тоже, она в школе училась. Она у меня тихая, в Шурку – это моя первая жена, – пояснил Игорь. – И характером в нее… ну с Жанкой-то они лаялись, но из-за чего, не вникал. Я ж вкалывал, с утра до вечера, без выходных, без праздников… все им, Машеньке и стервозине этой. А ведь поначалу-то как было? Влюбился. Вот увидел и влюбился. Жанночка тоненькая, светленькая, чистенькая такая вся, глядеть и то страшно, чего уж про трогать… ухаживал. Букеты, ресторации, презентации… кольцо в корзине с розами, зеленый алмаз на пять карат и топазы… ей понравилось. И Машка тоже. Точно не выпьешь? Один не хочу, я ж не алкаш – горе у меня…
Матвей покачал головой.
– Ну дело твое. – Игорь снова сделал глоток, но, прополоскав рот, сплюнул на пол. – Мерзость. Я ж не пил, вообще не пил… и с бабами чтобы – ни-ни. Ну разве уж совсем выпадет… корпоратив или баня с партнерами, но какие ж там бабы – шлюхи. Генка не встревал, понимал, что иногда надо гульнуть, Жанка скандалила, конечно, но не сильно, браслетик ей купишь, шубку – успокоится. А оно вон как – отомстила!
– Полагаете, это была месть с ее стороны?
– Полагаю? – переспросил Казин. – Не знаю. Она ж по первости с Машкой ладила, в школу водила, уроки делала, а потом вдруг беременность…
– И что? – Матвей напрягся. О беременности Жанна Аркадьевна ни словом не обмолвилась.
– И ничего, ну, в смысле, ничего не вышло, выкидыш, а у Жанки – истерика. И от Машки ее как отрезало. Гувернантку наняла… а мне сказала – типа, в строгости держать надо, манеры воспитывать, чтоб настоящая леди. Я, дурак, и поверил. Да и не вникал особо, говорю ж, на работе упахивался…
– Скажите, компьютер в Машиной комнате – это ее?
– А чей же? У Жанки свой, правда, не пользуется, но есть. И у меня в кабинете, а у Машки – в комнате.
– Давно купили?
– Ну… с год где-то… – Игорь одернул рукава рубашки, попытался застегнуть воротничок, но пальцы не слушались.
– И часто она им пользовалась?
– Машка? Понятия не имею, пользовалась, наверное.
– А одежду девочке кто покупал?
– Шмотки – Жанка и сама Машка, у нее ж карточка была, я специально открыл, на карманные расходы… А что, ей мало было?
Много. В общем-то, дело не столько в количестве, сколько в разномастности Машиного гардероба: блузы, сарафаны, платья, юбки, костюмы – строгие, стильные, дорогие. И тут же драные джинсы, мешковатые брюки-унисекс, вызывающе дешевые свободные свитера.
– Жанка что-то говорила… типа, Машка всякую хрень китайскую скупает… мне-то что, пусть скупает, если нравится. А теперь уже все. – Он снова заплакал, а Матвей отвернулся. Можно было уходить, все, что нужно, он выяснил.
– Из-за поездки этой поссорились… Машку не нужно брать, а она хотела. Просилась. Дождалась как-то с работы и говорит: «Папа, возьми меня с собой, пожалуйста, я мешать не стану. Обещаю». А я отказался и наорал еще: пришел на взводе, на работе проблемы, поездка срывается, Жанка запилит, она уже и билеты купила, и настроилась… душу и без того воротит, а тут еще и Машка… Я ей… я ее дурой обозвал… а она вены перерезала. Я виноват, да?
– Не знаю, – честно ответил Матвей.
«Скажи, зачем держаться за воздух? Чего искать? К чему стремиться? Зачем любить тех, кто болен равнодушием? Не оценят. Не поймут. Даже не заметят ухода.
Извини, сегодня снова осень, а мир не изменился, в нем так же мало правды, как и прежде. Давай я лучше расскажу тебе о любви…»
Это письмо нашлось в Машином рюкзаке.
«Любовь – это больно. И немного страшно. Любовь – это жертва. Стать на край и шагнуть вниз, веря, что тебя поймают. Ты веришь мне?»
И сделанная от руки приписка: «Конечно, верю. Только тебе и верю».
– Натали, Натали – ангелом была, тонкая, нежная, чувственная… не в телесном плане, я о душе говорю. – Ольховский закрыл глаза, был он бледен и дышал тяжело, и видно было, что разговор этот отнимает последние силы. – Вы не думайте, мы не были любовниками… никогда не были… она для меня – все, сама жизнь. Видите, не стало Натали, ухожу и я. Завтра уже. Или послезавтра. Доктор, собака, врет… не выживу.
Не выживет, вот тут Шумский был совершенно согласен с Сергеем Владимировичем, и доктор, который вначале был преисполнен оптимизма, сегодня уже не спешил с уверениями, что пациент всенепременно поправится.
– Я ее любил, только ее… всегда… с самой первой встречи нашей… и она меня. Свадьбу сыграть думали… поначалу Полина Павловна не протестовала… не особо радовалась, но и совсем от дома не отказывала, а как рыжий этот объявился, мигом переменилась. – Ольховский облизал губы. – Пить охота… дайте… глупая затея была… с дуэлью.
И снова Шумский согласился, глупая, наиглупейшая, а ввиду последствий дуэли еще и трагичная. Ижицын мертв, а Ольховский вскорости отправится за ним.
А хорош! Той самою диковатою красотою, свойственной людям пылким и резким, наделенным от рождения горячей кровью, – оттого и неспокойным, неуемным. Про кровь и неуемность понравилось, надо будет всенепременнейше отметить и использовать, к примеру, в той же пьесе, которая даже начала писаться, но мысленно, тайно и как-то стыдливо, что ли.
Поить Ольховского пришлось самому, горничная куда-то запропастилась, видимо, собирая по дому мелочишку навроде платков, салфеток и серебряных ложечек, которые теперь-то уж точно никто не станет пересчитывать.
Сергей Владимирович пил мелкими осторожными глоточками, но кружка была большая, неудобная, и вода пролилась на подушку.
– Никогда таким слабым не был, – сказал Ольховский. – Всегда сильный… всегда… а тут… руки поднять не могу… дрожит. И больно, все время больно… Думается, скорей бы уж… но сначала рассказать, верно? Должен рассказать… чтоб по порядку. Он к ней приезжать повадился, с подарками, цветами… и матушка радовалась… а я ревновал… я позволил этой ревности и себялюбию уничтожить мою любовь.
Матушка расцвела, матушка только и говорила, что об Ижицыне, каждый день выискивая все новые и новые достоинства, большею частью вымышленные, меня же его визиты несказанно утомляли, и с превеликою охотой я бы отказалась и от графа, и от его подарков, которые становились все дороже, что, по мнению матушки, говорило о серьезности намерений Ижицына.
Сереженька думал так же. Сереженька ревновал, страшно, исступленно, до нервических припадков, когда он срывался на крик и угрозы в адрес Савелия Дмитриевича, и глухого молчания, что пугало меня больше, чем все угрозы.
В один из редких Сереженькиных визитов в наш дом матушка указала ему на дверь, он и ушел. А на следующий день, объявившись у Матрены на кухне – та в отличие от матушки Сереженьку привечала, – предложил мне обвенчаться.
Я испугалась, и за него, и за себя, и за матушку… как можно без родительского благословения? Я попросила время подумать, всего-то день, а он снова ушел, кинув мне в лицо обвинение, будто бы ижицынские деньги важнее любви.
– Ох и бедовый, – сказала Матрена, растапливая самовар. – Тяжко будет с таким жить-то…
Мы пили чай, горячий и безвкусный, и я все думала над Матрениными словами. Бедовый, и вправду бедовый, горячий без меры и резкий, даже со мною резкий.
На следующий день Сереженька не появился, и день спустя, и еще один… Я считала каждый из них, да что там дни – я считала часы и минуты одиночества. А потом получила записку, и ожидание потеряло смысл.
«Я всегда любил тебя, однако выносить сложившуюся ситуацию дальше не имею сил. Полина Павловна никогда не даст согласия на наш брак, а сама ты решиться не способна, потому я решил за нас обоих. Сегодня я отправляюсь в Петербург, оттуда… Впрочем, вряд ли тебе интересны мои дальнейшие планы, потому как в них для тебя места нету. Желаю счастья в браке. Ольховский».
Я читала и перечитывала, не веря, что Сереженька мог быть настолько жесток, настолько несправедлив ко мне, а Матрена, пожав плечами, повторила:
– Бедовый.
Бедовый. Единственно дорогой и любимый, предавший вот так, просто, походя, несправедливый… Я плакала, прямо там на кухне, уткнувшись в пропахшее луком, чесноком да базиликом Матренино плечо. И ночью плакала, и когда принесли очередной букет от Ижицына – крупные карминово-черные розы с тяжелым назойливым ароматом, – тоже расплакалась, а матушка принялась хлопотать, успокаивать и говорить всякие глупости про то, что время лечит и все, что делается, – к лучшему.
Розы я велела выкинуть. Но когда спустя неделю граф Ижицын, по обыкновению запинаясь и краснея, сделал предложение, согласилась.
Какая мне теперь разница, как дальше жить… а матушке приятно будет.
Юлька
Осенние сумерки – это лиловый, фиолетовый и синий, немного желтизны круглых фонарей, немного черноты луж на асфальте, немного белизны на звезды и луна цвета розового перламутра. Надо будет нарисовать сегодня же, пока не забылось, пока не исчезла картинка, растворившись в памяти среди других таких же. Юлька даже постояла немного, запоминая, вслушиваясь, вбирая в себя оттенки.
А ведь нормально вышло, Верка сразу согласилась отпустить в гости к «девочке», велела, правда, вернуться до полуночи, ну да Юльке много времени не надо.
По удачному совпадению Старое кладбище находилось в получасе ходьбы от дома Володшиной, беленая стена слабо светилась, и разлом выглядел обыкновенным черным пятном. Зацепившись штаниной за ржавый штырь, Юлька едва не упала. Но все-таки не упала, а то пришлось бы объяснять, где это она так перемазалась. Протоптанная через заросли крапивы дорожка сильно размокла и скользила, а держаться тут не за что, разве что за ту же крапиву, пусть и пожухшую, поникшую, но все еще жгучую.
Ох, наверное, зря она сюда полезла… забыла, что темнеет рано. А батарейки в фонарике старые, в любой момент сесть могут, хорошо хоть кладбище она знает, как дом родной. Вот слева массивный, чуть скосившийся влево крест… за ним – простой обелиск со скрученной звездой… теперь налево, мимо каменной глыбины с табличкой, кажется, на ней что-то о вечной любви. И прямо. Вот он, памятник с ангелом и скамеечкой, на которой она обычно отдыхает. Ржавая оградка уцелела лишь частично, зато в каменной вазе со сколотым краем стояли ветки можжевельника, которые Юлька в прошлый раз сунула – как-то грустно выглядела ваза без цветов.
Имя пришлось искать долго, желтое пятно света скользило по мокрому камню, выхватывая трещины и пятна лишайника, пока наконец не наткнулось на буквы. «Девица Евдокия Анишина. 1871—1912 гг. От возлюбленной сестры и ея супруга».
– Девица. Евдокия Анишина. – Юлька повторила вслух. – Девица…
Могилка Агафьи Петровны сыскалась неподалеку… а вот Ольховского не было. Юлька искала, пока батарейки не сели, искала, перебирая все могилы в этой части кладбища.
Не было Ольховского!
Или памятника не сохранилось.
Снова зарядил дождь, и ноги промокли, и куртка, и Верка теперь ни за что не поверит, что Юлька в гостях у подруги была, начнет орать, что Анжелку бросила и сама потащилась неизвестно куда, дома запрет, отцу нажалуется…
Под дождем казалось, что постаревший ангел сорокалетней девицы Евдокии Анишиной льет слезы, сочувствуя Юльке. А на обратном пути она все-таки упала, прямо коленями в лужу и ладонями в скользкую холодную глину, и руку порезала, до крови.
Анжелка стояла на улице, у фонарного столба и ревела, уже без слез, всхлипывая и подвывая.
– Ты чего? – Юлька даже не разозлилась. Больно было и холодно, и ноги промокли, а джинсы все в грязи. Надо пойти наверх, попытаться отчистить, хотя бы немного.
– Че, прогнали? Сейчас, да погоди ты, помыться надо, не видишь, какая я?
Анжелка только головой замотала и подняться в квартиру не дала, еле-еле удалось ее в подъезд затащить, там хоть немного теплее, а то руки задубели и пальцы совсем не чувствуются, особенно на той, которая порезана.
– Это… это где ты? – Анжелка уставилась на порез с ужасом и отвращением, и вправду страшно выглядит, грязная рука, частью в глине, частью в крови, разодрана наискось, и платок, которым Юлька еще там, у кладбища, кое-как рану замотала, побурел и съехал набок. – Это ты там?
– Там, – Юлька поправила платок так, чтоб хоть как-то закрывал царапину, рука в тепле начала отходить и гореть, и дергать болью. А если вдруг заражение?
И штаны грязнючие, такие не отмоешь, значит, Верка снова заведет песню про то, какая Юлька тварь неблагодарная и ничего-то не ценит. А Анжелка, значит, благодарная и ценит.
Анжелка стояла рядом, жалась к грязной батарее, на которую кто-то бросил драный сапог, и время от времени всхлипывала. Ну и страшная же она, мокрые волосы слиплись желто-бурыми прядками, тушь и тени растеклись сине-черными дорожками, а размазавшаяся, частью съеденная помада делала рот огромным и отчего-то съехавшим набок.
Анжелка всхлипнула и, потерев ладонью глаза, пожаловалась:
– Т-ты долго. Я ждала, ждала… а ты не идешь. Замерзла вот. Они сказали, что ты – психованная, придурошная и припадочная… что тебя в дурку сдать надо или в школу для дебилов…
– Самих их в дурку… для дебилов. – Грязь не отчищалась, только больше размазывалась, покрывая немногие относительно чистые участки ткани скользкой пленкой глины.
– Сказали, что ночью нормальный человек на кладбище не попрется, – продолжала жаловаться Анжелка, она дрожала, то ли от холода, то ли от страха, и даже жалко ее стало. – И что я, наверное, такая же, как ты.
– Не такая.
– И я им так. А В-Витька, о-он д-доказать потребовал.
– Чего он потребовал? – Юлька даже про боль в руке забыла. Вот придурок, урод чертов, ну все, ему кабздец полный, завтра же зубы из-под парты выметать будет, и наплевать, кто у него там в родителях.
– Д-доказать. П-полез ц-целоваться и лапать, и Кузя с ним… и Тихон тоже. Я… я кричать н-начала…
Юлька вдохнула поглубже, успокаиваясь, правда, не больно-то вышло.
Дауны. Твари безмозглые, что Витек, что дружбаны его – Кузьминичев с Тихомириным.
– А В-Валька сказала, чтоб отпустили, что я малолетка и предкам нажалуюсь… а мне, чтоб убиралась.
– И ты убралась?
Анжелка кивнула, скривилась и снова заплакала. Вот же…
– Ну, не реви, – утешать как-то не получалось, не умела Юлька утешать. – Я им завтра челюсть сверну. Всем троим. Или отобью чего-нибудь, или… или порчу наведу. Хочешь?
– Д-давай домой пойдем? М-мама волнуется.
Ижицын С.Д. Дневник
В моем доме погибла девушка, горничная, кажется, ее звали Маланьей. До чего неуместная, нелепая смерть – упасть с лестницы. Полиция утверждает, что девушка пребывала в интересном положении, что вкупе с незамужним ее статусом придает ситуации определенную пикантность.
Снова ложь и снова слухи. Надеюсь, до Натальи они не дойдут, мне кажется, в последнее время она изменилась ко мне, стала не то чтобы мягче, скорее уж задумчивей, мечтательнее. Считаю это добрым знаком, хотя и понимаю, что выходит она за меня по велению матери.
Пусть так. Пусть хотя бы даст мне шанс, я постараюсь заслужить ее любовь.
И все же эта смерть несколько беспокоит. Не хотелось бы привлекать внимание к дому, который и без того вызывает чересчур уж много интересу. Пожалуй, мысль строить по собственному плану оказалась неудачною.
Василиса
Обеденный зал вобрал в себя все оттенки серого – от легкой жемчужной дымки свежеоштукатуренных стен до резкой графитовой черноты под высоким сводчатым потолком.
– Боже мой! – Динка взяла меня под руку. – Только не говори, что ужинать мы будем тут! Мрак.
Мрак, тьма, ночь, загадка, тайна, готика… Не удержавшись, я провела рукой по стене. Холодная и сухая, неровная и нарочито состаренная.
– Декоративная штукатурка, – сказал Евгений, заметив мой интерес. – Прошу к столу.
Стол располагался в самом центре зала на небольшом постаменте и поражал размерами. Здесь человек сорок уместилось бы или сто сорок, а нас только четверо… Динка и я по одну сторону стола, Ив и Евгений по другую. Противостояние.
Не знаю, почему вдруг в голову пришла мысль про противостояние, но как-то… неуютно вдруг стало. В черном полированном дереве отражалось пламя свечей, салфетки сияли белизной, в круглых вазах плавали темно-бордовые, почти черные в неровном свете розы…
– Мило, – Динка нервно улыбнулась. – Несколько эксцентрично, но в целом – сказочно!
– Благодарю, – вежливо отозвался Евгений. Вот уж кто абсолютно не вписывался в обстановку – блеклый, неуклюжий, совершенно теряющийся на фоне этой псевдоисторической роскоши. От тишины, воцарившейся за столом, стало совсем тоскливо. Динка и та молчала, поэтому, когда Иван заговорил, я, честно говоря, обрадовалась.
– У этого дома темная история. – Иван наполнил бокалы вином, а я вдруг подумала, что сему великолепному действу недостает слуг. Вышколенных, тихих, мелькающих за спиной неназойливыми тенями… Подумала и обрадовалась, что их все-таки нет.
– Что за история? – Динка подняла бокал и прищурилась, разглядывая сквозь жидкое винное золото огоньки свечей.
– Неприятная, – отозвался Евгений.
– Скорее уж мрачная и кровавая, вполне подходящая этому месту…
– Рассказывай, – велела Динка. – Должна же я знать, куда по твоей милости попала. А то с моим сказочным везением… Вы ведь не станете возражать?
Евгений пожал плечами и уставился в тарелку, смотреть на меня он избегал, на Динку, наверное, стеснялся, а больше смотреть было не на что. Я вот розы разглядывала, черные лепестки в стеклянных бокалах, вода искажает свет и линии… Нужно будет попробовать написать, тяжелый плотный фон и в центре яркое пятно вазы… масло, только масло… гармония иссиня-черного, нежно-лазурного… а розы желтыми будут, красные – чересчур мрачно.
– Да в общем-то, если разобраться, самая обыкновенная бытовая трагедия. Просто коснулась лиц знатных и, как принято говорить, облеченных властью. Началось с того, что в городе появился некий граф Ижицын, который предпочел Петербургу покой здешних мест. Одни говорили, что из столицы он уехал из-за сердечной травмы, другие искали причины переезда в политических взглядах. – Иван рассказывал с удовольствием, а вот нынешнему хозяину особняка его откровенность была явно не по душе. Вроде бы сидит, ни словом, ни жестом не пытаясь прервать, а я нутром чую – не нравится.
– Ижицын в провинции прослыл великим оригиналом. Взять хотя бы этот дом, построенный вблизи кладбища. Судя по всему, подобное соседство Ижицына не смутило. Как и затраты на строительство или тот факт, что вряд ли кто здесь оценил мрачноватую эстетику особняка.
– Откуда ты знаешь, что не оценили? – влезла Динка.
– Предполагаю. Пусть будет творческое допущение, если ты не против.
– Да ладно. – Динка пригубила вино и, сморщившись, отставила бокал в сторону. – Кислятина. Не люблю сухие…
Вино и вправду было резковатым, но резкость эта лишь придавала вкусу выразительности. Хотя… я совершенно не разбираюсь в винах, может, и вправду кислятина.
– Красное? – Иван тут же исправил упущение. – Итак, дом был построен, граф кое-как обжился и даже завел себе знакомства в местном высшем обществе. Его приняли, пусть и оригинал, но граф, ко всему состоятельный и холостой… редкое совпадение.
– Надо же, время идет, а ничего не меняется, – пробормотала Динка.
– Спустя некоторое время граф женился на некой Наталье Григорьевне Нуршиной, девице из рода не самого знатного и ко всему обедневшего, оттого фактически обреченной либо на вечное девичество, либо на мезальянс с каким-нибудь купцом или помещиком. Опять же предполагаю, что местная аристократия потере жениха столь выгодного вряд ли обрадовалась, и пару перестали приглашать в свет. Или же граф, желая насладиться обществом молодой жены, сам отказывался от выездов, во всяком случае, на люди супруги не показывались, предпочитая вести замкнутый образ жизни в этом самом доме.
…Среди сумрака и теней, в печальной темноте обеденного зала, или в гулкой тишине бального… в пыли пустующих комнат, в одиночестве музыкального салона… ей, наверное, было очень страшно… Любила ли она своего мужа? Или просто поняла, что его предложение – последний шанс вырваться из бедности и безнадежности?
И почему мне так жаль Наталью?
– Спустя год после свадьбы Наталья родила ребенка, мальчика, а спустя некоторое время умерла. Хотя нет, интрига требует раскрыть сюжет иначе. – Иван определенно вошел во вкус. – Итак, первая трагедия случилась в доме перед самой свадьбой. Некая Палахина Маланья, служившая в доме горничной, свалилась с лестницы и свернула себе шею. Печальное событие, особенно с учетом полицейского протокола, где обращалось внимание на то, что погибшая находилась на сносях, но живот увязывала, что и привело к несчастному случаю, решили, что у нее голова закружилась. Граф женился, про Маланью забыли, а меж тем спустя полтора года история повторилась, но на сей раз жертва покончила с собой, повесившись не где-нибудь, а в опочивальне графа, и была она не горничной, а платной компаньонкой, нанятой развлекать молодую графиню.
Иван ненадолго прервался, и, удивительное дело, даже Динка не решилась влезть в паузу со своими комментариями.
– А надо сказать, у Натальи в прежней дозамужней жизни имелась сердечная привязанность в образе некоего Сергея Ольховского, человека бедного, безродного и обделенного чинами, а следовательно, совершенно негодного в качестве жениха. Не берусь судить, как отнесся Ольховский к предательству возлюбленной, но… – Иван поднял палец, привлекая внимание к тому, что собирался сказать, – …известно, что спустя некоторое время после свадьбы он устроился к графу секретарем. Полагаю, в этом деле не обошлось без протекции. Интересный ход, верно?
– И что он сделал? – поинтересовалась Динка-Льдинка – любительница дамских романов и фильмов про любовь, но таких, чтобы герои обязательно остались вместе.
– Многое. К примеру, отыскал в доме первую супругу графа, запертую в одной из комнат. Бедная женщина сошла с ума в заключении. Далее, Ольховский выяснил, что компаньонка Натальи и граф состояли в любовной связи и смерть ее была убийством, как и смерть горничной. – Иван снова замолчал, на этот раз нарочно, выдерживая паузу, а я уже поняла, чего не удалось сделать молодому Ольховскому.
– Но увы, в одном он опоздал. Наталья умерла, вернее, была убита.
– Как? – Динка оглянулась на меня. Динка не любила трагедий и всегда всем героям желала счастья. – Убита?
– Однажды утром ее нашли мертвой со вскрытыми венами… – Иван перешел на трагический шепот. – Ижицын отомстил за нелюбовь.
– Бездоказательно, – неожиданно встрял Евгений. – Слухи.
– История, – возразил Иван. – Трагическая история о любви и не-любви… Ольховский, вне себя от горя, вызвал графа на дуэль, которая состоялась в саду за домом.
– И что? – Динка подалась вперед, чуть не опрокинув бокал. – Отомстил, да?
– Да. Ольховский убил Ижицына, но… увы, случилось так, что и сам был ранен и вскорости скончался, правда, успел дать показания полиции. Состоялось разбирательство.
– По результатам которого первая супруга графа отправилась в сумасшедший дом, где вскорости скончалась от воспаления легких, второй брак был признан недействительным, а ребенок – незаконнорожденным, не обладающим правами наследника. Правда, племянник графа оказался человеком порядочным, не отправил бастарда в приют и даже образование дал… и во Францию увез, когда началась революция. Извините. – Евгений, с грохотом отодвинув стул, поднялся. – Дела.
Господи, неужели это вялое блеклое существо способно на такие эмоции? Он зол! Более того, он в бешенстве и ушел потому, что не хотел демонстрировать насколько. Откуда я знаю? Без понятия, но, глядя на его сгорбленную спину, я буквально ощущала клокотавшую в нем ярость.
– Неудобно получилось, – заметил Иван. – Как-то увлекся, позабыл, что для Женьки эта история – семейная.
– Неужели? – Динка отправила в рот виноградину.
– Его прадед или прапрадед – тот самый незаконнорожденный сын Ижицына, во всяком случае, Женька в этом уверен, и дом купил в память… хотя, по-моему, от такой памяти избавляться надо.
На полированную поверхность стола упала круглая восковая капля. Похоже на слезу…








