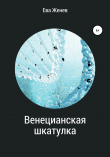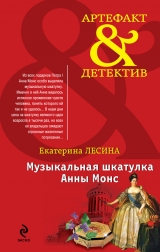
Текст книги "Музыкальная шкатулка Анны Монс"
Автор книги: Екатерина Лесина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Который тоже весьма своевременно отправился в мир иной.
А призрак шкатулки – остался.
Существовала ли она вообще? И Луиза Арнольдовна, словно догадавшись о мыслях Игната, повторила их вслух:
– Я даже сомневаюсь, существовала ли она. Понимаете, такая… неординарная вещь появляется вдруг, фактически из ниоткуда. Оленька прежде не упоминала о шкатулке, даже когда пыталась защитить супруга… тогда еще – супруга. Она говорила, какой он добрый, ласковый, понимающий, талантливый. Что он вот-вот диссертацию защитит. Что на работе его ценят безумно, что… тысячу аргументов приводила, но ни слова о шкатулке, которая, как выяснилось, была семейной реликвией.
Действительно, престранное обстоятельство.– И меня вдруг обвиняют в похищении этой самой реликвии, – Луиза Арнольдовна вздохнула. – Зачем? Денег у меня более чем достаточно. Я не коллекционер-фанатик. И не стремлюсь позолотить свои родовые корни. Меня устраивает собственное пролетарское происхождение, а все эти… игрища вокруг истории кажутся мне смешными.
Но Перевертень был уверен, что шкатулка осталась у Оленьки.
Вернее, о чем именно думал Перевертень, узнать не получится уже. По словам Светланы, отец ее был бессребреником и личностью, к жизни не приспособленной. А вот Луиза Арнольдовна утверждает совсем иное…
И кому верить?
Или – обеим?
Игнату случалось встречать в жизни людей, которые имели несколько лиц. Но вновь все упирается в шкатулку.
– Если вдруг надумаете навестить нас, буду рада, – Луиза Арнольдовна протянула ему визитку. – Только, умоляю, смените портного. Ваша манера одеваться… отвратительна!
Эта женщина влекла к себе Петра. Анна отличалась не только от смиренной, тихой Евдокии, которая жила, казалось бы, одним желанием – угодить мужу, – но и от всех прочих женщин, с которыми Петра сводила судьба. И он, зная за собой беспокойство, неспособность испытывать сколь бы то ни было продолжительную приязнь, ждал, когда утихнет это новое болезненное чувство в груди.
– Завел себе немку… – привычно ворчала матушка, качая головой.
Пожалуй, сейчас она, как никогда прежде, походила на престарелую медведиху, оправдывая данное ей в народе прозвище. И седина в волосах, которые нет-нет да и выбивались из-под черного платка, печалила Петра так же, как и внезапные приступы слабости, все чаще одолевавшие Наталью Кирилловну.
Она же, упрямая от рождения, не желала и слышать про докторов. Иноземцы, мол, что от них хорошего? А травяные отвары, которые подавали ей от сердечной слабости, не особо-то помогали.
– Живешь беззаконно… людей бы постыдился! Жену вон позабыл. А она тебе сына родила. Съездил бы, проведал, порадовал ее…
Наталья Кирилловна зудела привычно, но не зло.
– А то все на Кукуе и на Кукуе… – Она вдруг обожгла Петра взглядом черных глаз. – Что, так хороша немка, что забыть ее не можешь? Прежде-то небось ты к одной юбке не привязывался…
Она верно его укорила: матушка, которая, несмотря на всю любовь к Петру, видела многие его недостатки и мирилась с ними. Охоч был Петр до женщин, до того охоч, что порою не в силах был управиться со своими порывами. Сколько раз случалось ему отвлекаться из-за прехорошенького личика, бросать все, силясь унять зуд в чреслах. Он же был столь силен, что не хватало воли, выдержки, чтобы приличия соблюсти, ночи дождавшись.
И, отпуская жертву – впрочем, Петр вовсе не полагал женщин, которых он одаривал пылкой и скоротечной любовью своей, жертвами, – он зачастую не помнил и лица. Имен-то и вовсе не спрашивал.
Но Анна… Анна – иное дело.
Она была хороша… но разве в этом суть? Красавиц много, но лишь одна заставляла его сердце биться скорее, и оно, утомленное вынужденной разлукой, влекло его на Кукуй.
Что до жены, то… нет, Петр не забывал о ней вовсе, скорее уж скучно ему было с нею, с Евдокией, которая только и могла, что лить слезы, жаловаться да причитать. Петра раздражали ее покорность и готовность услужить, ее робость, стыдливость и постоянные поминания Господа. В постели она была настолько же уныла, насколько и в жизни.
Зато сына любила искренне.
И молилась о нем, царевиче Алексее, и о Петре, и о матушке, которую, впрочем, недолюбливала. Хотя Петр и видел, что нелюбовь эта взаимна, и не понимал, отчего возникла она. Разве не сама Наталья Кирилловна жену ему подыскала? Чего уж теперь сердиться-то…
– Ты гляди, – матушка погрозила ему толстым пальцем. – Баба – бабой, но голову не теряй! Где ж это видано, чтоб полюбовнице больше, чем жене законной, Богом данной, доставалось? Да еще и немка… может, приворожила она тебя?
Глазами синими.
Волосами темными, которые и свои-то, без париков, хороши были. Телом сдобным, мягким, податливым. Смехом живым и голосом звонким.
Бесстыдством, что было ей к лицу, как и платья ее иноземные, легкие, соблазнительные.
Беседами неторопливыми, по местному обычаю, однако лишенными того словесного сора, которым пересыпаны были боярские речи. И рядом с Анной ему думалось легче.
А виделось – иначе.
Многое, ох, многое из того, о чем размышлял Петр, пришлось бы матушке не по нраву. Но разве не видела она сама, сколь сильно нужны перемены?
– Не давай ей волю, – тяжко охнув, Наталья Кирилловна присела на стул. – Это все Лефортовы штучки… голову он тебе морочит, а ты и рад.
Слушал Петр матушку, да не слышал.
Нет, к жене он заглянул и порадовался, когда вспыхнули глаза Евдокии, лишь она его завидела. На шею кинулась, с причитаниями, со слезами. И правда, ненадолго устыдился Петр, что позабыл ее. А наутро тесно ему стало в тереме, наполненном слугами, служанками, няньками, бабками-шептуньями…
Смотрят, крестятся за спиной, ладан жгут безмерно, наполняя и без того душный терем вонью. И Евдокия ходит, важная, что утка, опять на сносях, обеими руками за живот держится, хотя и невелик он еще. А все вокруг ей поклоны бьют, будто царице. Наследник же мал, криклив и страшен, хоть ему уже с полгода исполнилось.
Уехать?
Уедет. И полетят ему вслед письма жалобные.
«Здравствуй, свет мой, на множество лет. Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам, не замешкав. А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет»[1] .
Словеса окружали, затягивали в омут вечного сонного своего существования. Нет! Прочь отсюдова, прочь… недалеко Немецкая слобода. И Анхен, Аннушка, которая ждет его с нетерпением, пусть и поостережется его показывать.
Горда она не в меру, будто и не дочка виноторговца, но самая что ни на есть графиня! И держать себя умеет. И порою глянет так, что сердце Петра страх сковывает. А ну как разлюбила?
Сказать бы кому – да только посмеются. Вон Алексашка всецело уверен, что Монсиха – иначе он Анну и не называет – весьма превеликую выгоду имеет. Разве не назначил Петр ей пансион в семьсот рублей? Разве не подарил свой портрет, алмазами отделанный, за который цельную тысячу уплатить пришлось? И до сих пор страшно было, как это он решился с этакими деньжищами расстаться за-ради бабской прихоти… но нет, все не то.
И, терзаясь смутными желаниями – не в силах были их удовлетворить случайные связи, – Петр вдруг понял, какой подарок он ей должен сделать. Вот только вновь представилась ему матушка, качавшая головой с укоризною: совсем ты, сынок, разум потерял! Разве ж царское это дело?
Царское.
Шкатулку он делал долго, своими руками, отчего-то ему казалось, что именно так будет правильно. Вот с механизмом пришлось повозиться, уж больно хитер был, да и недоставало Петру ловкости, сноровки в том, чтобы отладить его как следует. Благо, нашелся мастер.
Получилось хорошо.
И шкатулку Петр вручил ей самолично. Анна приняла подарок, и если и была удивлена, то виду не подала.
– Что это? – спросила она и, не дожидаясь ответа, провернула в замке ключ. Крышка приподнялась, и Анна увидела чудесную картину. Зеркало-озеро, лебеди и лодочка с фарфоровой, в полмизинчика, девушкой.
– Надо же… – голос ее дрогнул. – Я не думала, что ты помнишь… я тогда боялась упасть в воду. И лебеди, честно говоря, очень страшными выглядят… если вблизи посмотреть.
Рада ли она была такому подарку?
Или же прав Алексашка, что Анне нужны иные дары, куда богаче? Что она, как прочие немки, только и умеет – выгоду свою блюсти. Впрочем, разве сам Алексашка не таков? Может, отсюдова и ревность его непонятная?
Этим вечером Анна была задумчива, рассеянна и ни о чем Петра не просила. Блуждающий взгляд ее то и дело останавливался на Петре, но тотчас Анна спохватывалась, начинала улыбаться, говорить о чем-то… и он поддерживал беседу.
А и правда, вдруг – приворожила?
Пусть Лефорт твердит, что нет ворожей на самом-то деле и ведьмовство всякое – суть мракобесие, которому только бабы верят, но…
Но отчего же не в силах Петр расстаться со своею царицей… а и вправду, подумалось вдруг, вышла бы из Монсихи царица! Умеет себя держать, и подать тоже, и холодность ее, которая порою злила его, доводя до безумия, царице уместна.
Уж она бы не стала сидеть в тереме, дите обихаживая, семечки лузгая да выспрашивая бабок о том, к чему мыши снятся. Нет: понеслась бы в Москву, не боясь ни бояр, ни Натальи Кирилловны… А ведь похожи они! Мысль эта была неожиданна для Петра, и он моргнул, отгоняя ее. Не вышло.
Похожи, Бог видит, до чего похожи!
Не внешностью: матушка, сколько он себя помнил, уже была нехороша, стара, и старилась все быстрее. Но взглядом, неторопливостью суждений, спокойствием… На сей раз уезжал он, не столько будучи чем-то недовольным, сколько пребывая в странной, несвойственной ему прежде задумчивости…
…Анна открыла музыкальную шкатулку.
Подарок… Царь щедр, пусть многие и почитают его скупым, приговаривая, что даже жена его законная не имеет особой воли в тратах и пансионом живет меньшим, нежели Анна.
О его жене думать не хотелось.
Была царица Евдокия, мать наследника, но где-то там, далеко, так далеко, что порою Анне эта женщина казалась чьей-то злою выдумкой. Петр редко о ней упоминал, а когда и говорил, то злясь и сетуя, что Евдокия глупа и покорна. Овцой ее называл.
И на сердце у Анны становилось теплее.
Нет, не было в нем любви к человеку, с которым Анну связали судьба и Лефорт, но все же мелочная женская ревность грызла его порой. Как бы ни хороша была Анна, сколь бы ни славили ее ум и прозорливость, но этого слишком мало, и участь ее определена.
Быть ей, молодой и красивой, в любовницах, а нелюбой Евдокии – в законных супругах. Оттого порой, когда уж совсем немочно становилось на сердце, раскидывала Анна карты особым, цыганским раскладом, выискивая в пиках да трефах признаки грядущей болезни. Порою, просыпаясь в пустой своей постели, на мягкой перине, застеленной белоснежною хрустящей простыней, Анна лежала и думала о том, как бы все повернулось, ежели б не существовало Евдокии вовсе…
Мечтания ее были тщеславны и пусты, поскольку все ж была она женщиной разумной, осознававшей, что не позволят бояре Петру подобный брак. Костьми лягут, бунт подымут, но не дадут немке взойти на российский престол.
Однако же мечтания на то и мечтания, чтобы желалось невозможного.
Анне так и засыпалось легче, и отступали непонятные ей самой тоска, и страх, и горечь, которые появлялись после каждого приезда Петра. Спокойно становилось, будто призрачная корона избавляла от всех горестей разом.
Анна знала, что некоторые ее и без того царицей зовут, правда, не от уважения, а с издевкой.
Пускай.
Зависть – темное чувство.
А ревность – и того хуже. И от нее Анна силилась избавиться, заставляя себя повторять, что те, другие, о которых сплетники доносят ей с превеликою охотой, желая побольнее уязвить кукуйскую царицу, ничего-то не значат. О них Петр забывает быстро, а если и вспоминает, то походя.
Анна – дело иное. Сам говорил. И повторял раз за разом, не прося прощения за измены – в том Петр греха не видел, – а желая привязать ее к себе покрепче.
Подарки дарил… слушал… слушался… Анна не торопилась просить многого, хотя матушка и подталкивала неторопливую свою дочь, что, мол, век бабий недолог, сегодня она расцвела, а завтра, глядишь, и зачахла вовсе. Спешить надобно, брать от жизни столько, сколько выйдет, и лучше всего – червонцами золотыми.
Все-то ей мало…
Пансион Петр определил Анне щедрый. И без него деньгами одаривал часто. И не только деньгами – привозили Анне и ткани дорогие, бархаты, аксамиты, шелка драгоценные… шитье и камни… золото, серебро… все для нее, для лю́бой…
Портрет его, опять же, безумных денег стоивший – Анне о том поведали словно по великому секрету.
Шестерик коней на выезд.
Карета.
И шкатулочка вот, звенит простенькая мелодия, переливается. И по озеру зеркальному лебеди плывут да лодочка с фарфоровой девушкой, хрупкой, какой некогда сама Анна была.
Она вновь завела шкатулку и села, слушая музыку…
…только вдруг в ней послышался знакомый шепоток:
– Дай, дай, дай…
С той первой ночи тени возвращались, когда раз в месяц, а то и реже, но случалось, что и чаще. Анна больше не боялась их, напротив, научилась различать их по голосам, по призрачным лицам, в которых столь явно проглядывали знакомые черты.
Дай…
…попроси… посодействуй… передай челобитную, а то и вовсе реши вопросец, пустяковый же, и минуты не займет…
Поначалу просьб было немного, и Анна всякий раз испытывала преогромное стеснение, озвучивая очередную. А Петр хмурился, видать, и без того много досаждали ему с ходатайствами, но кивал, и в самом ближайшем времени проблема человека, порою вовсе Анне незнакомого, разрешалась.
Но чем дальше, тем большего они желали…
…дай, дай, дай…
И Анна пыталась унять матушку, которая повадилась брать с людей деньги за то, чтобы Анна помогла им, но разве ж по ее силам было противостоять Матильде?
– Не будь дурочкой, – приговаривала она, целуя дочь в напудренную щеку. – У тебя появилась такая возможность, которую надо использовать! Как знать, сколько еще царская милость продлится? Слышала я, что он увлекся…
…имена были всякий раз иные, и Анна привычно давила обиду.
– Ну сама посуди, разве ж мы просим чего-то невозможного? Просто справедливости. С местными судейскими иначе никак. Они же все взяточники! И тянут, тянут из приличного человека деньги, пока вовсе до копеечки все не вытянут…
Об этом Анна знала распрекрасно, и сам Петр ей жаловался, что, дескать, вовсе житья не стало от взяточников. Хоть и грозил он им многими карами, да привычка, с годами в кровь въевшаяся, оказалась сильнее страха.
– Мы же и людям поможем, и сами в обиде не останемся… капитал, милая моя, завсегда в жизни пригодится. Бери пример с сестры. Уж она-то знает, как себя с мужчинами вести, а ты, поговаривают, холодна чересчур…
Она замолкала, глядя на Анну с упреком, и девушка не находила, что ей следует ответить. Холодна? Она старалась угодить Петру, что, в общем-то, было несложно. Он был порывист, тороплив и быстро загорался, но столь же быстро удовлетворял эту телесную нужду. Порою Анне казалось, что для него и вовсе не имеет значения, кто с ним пребывает в постели.
– Я понимаю, – матушка, не дождавшись ответа, садилась рядом и брала Анну за руку. Собственные ее ладони были теплы, пышны и мягки. – Он вовсе не тот мужчина, который мог бы увлечь тебя…
В синих глазах ее виделся вопрос, и Анна качала головой: нет, она не столь беспечна, чтобы завести иного любовника. Уж ей-то известен лютый норов Петра. Пусть к другим своим женщинам он и был безразличен, редко задумываясь о том, что у них могут быть мужья, женихи, любовники… но Анна чувствовала, что стоит ей последовать невысказанному совету матушки, и последствия будут ужасны.
Да и не было никого, кто бы привлекал ее.
Разве что Франц Лефорт, но… он и сам был осторожен. И симпатия, некогда возникшая между ними, оставалась исключительно симпатией. В Лефорте Анна видела верного друга и доброго советчика.
– Но, как все мужчины, он безмерно самолюбив, – матушка вздохнула и погладила руку Анны. – И, потешив его самолюбие, ты получишь многое. Польсти ему…
– Матушка! – Разговоры эти становились невыносимы, однако от возражений Анны Матильда отмахнулась.
– Анна, разве я желаю тебе дурного? – она взмахивала руками, всхлипывала в притворном оскорблении. – Не хочешь слушать меня, послушай Модесту, уж она-то скажет…
…и говорила.
Сестрица заглядывала в гости часто, приговаривая, что родительский дом ей все еще родной. Она же взяла за обычай перебирать гардероб сестры, изымая из него платья, которые, по мнению Модесты, уже вышли из моды или же по иным причинам стали нехороши.
Она была утомительна, назойлива и вновь просила, обычно – денег.
Анна давала, хотя ей было жаль расставаться с рублями, тем паче что и сестрица не бедствовала. Любовники были щедры с нею, и оставалось загадкой, куда Модеста девала их подарки.
– Ох, ты не представляешь, сколько это стоит – сохранить красоту.
Модеста усаживалась перед зеркалом Анны и долго, внимательно разглядывала свое лицо. Она выискивала малейшие морщинки, и седые волосы, и пятнышки на коже, каковые стали бы предвестниками скорой старости. Впрочем, до старости Модесте было далеко, о чем Анна ей часто повторяла.
– Время скоротечно, – отмахивалась сестрица, надувая щеки, чтобы разгладить кожу. – И надобно делать все, чтобы его замедлить, а то будет поздно.
С собой Модеста привозила особые настои, мази, кремы и прочие чудодейственные средства, которые призваны были сохранить белизну ее кожи, густоту волос и крепкие зубы. Она делилась с Анной щедро и в такие моменты добрела, становясь сама собой.
– Дура ты, – говорила она беззлобно, накладывая на лицо темно-зеленую, густую, как глина, мазь. – Я бы на твоем месте…
Модеста жмурилась.
А ведь бывала она на месте Анны, пусть и помалкивала о том. Сколько раз случалось ей увлечь царя? Анна и желала, и не желала знать ответ на этот вопрос. Да и какая разница, если к ней Петр возвращался, а о Модесте вряд ли помнил!
– Не хмурься, от этого морщины появляются. Ты все-то при доме, при матушке, при хозяйстве… если и выезжаешь, то редко. А надо бы чаще, чтоб говорили о тебе. Покажи, кто ты есть…
Самой бы это понять.
Дочь неудачного виноторговца?
Кукуйская царица? Та, в чьей воле решить многие проблемы чужих неинтересных ей людей?
Любовница, задержавшаяся подле Петра дольше прочих?
Несчастная женщина?
Модеста, узнай о подобных ее мыслях, рассмеялась бы. У нее все-то просто: жить надо красиво, с шиком, себя не щадя и других не жалея.
Анна закрыла шкатулку и провела пальцами по сухой, гладкой ее поверхности. Сколько стоит эта вещь? Сама по себе – немного, но… разве ж цена только рублями определяется?
Откинув крышку, Анна еще минуту полюбовалась озером, лебедями и фарфоровой девушкой, а потом велела себе не думать о пустяках. Она отставила царский подарок на полку, недалеко – вдруг возникнет у нее странное желание вновь услышать простенькую мелодию, вновь заглянуть, хоть одним глазком, в прошлое, погрустить о том, что сбылось…
…и помечтать о том, чего с Анной не случилось.
Петр уехал. Он вернется – через неделю, через две, а то и на месяц о ней забудет, заставив матушку Анны волноваться. Но все равно, рано или поздно, объявится царь, обнимет ее крепко, расцелует, обдав тяжелым винным дыханием, и увлечет наверх, спеша удовлетворить свою похоть.
А после велит подать кофию.
И останется, будет расспрашивать о том, как жила Анна… Ничего нового. Все обыкновенно.
Вот только просителей становится день ото дня больше, вот уже и днем Анне слышится привычное: – Дай…
Весь остаток вечера Ксюша боролась с желанием позвонить Игнату. Ей ведь надо рассказать ему про Анну, бывшую невестой Стаса. И про Эллочку… и, наверное, вообще хотелось ей с ним поговорить, пусть бы он тоже поделился с ней тем, что знает.
Но тут же Ксюша себя останавливала: в конце концов, неприлично навязывать свое общество человеку, если он общения не жаждет. Игнат сам позвонил бы, нуждайся он в Ксюше.
А он не звонил.
И Хайд, подглядывавший за хозяйкой искоса, тяжко вздохнул: ему непонятны были такие глупости и метания, скорее уж удивило, что вечерняя прогулка оказалась куда короче обыкновенной. Нет, Хайд не был в обиде на Ксюшу, ему просто любопытно.
– Я хочу вернуться домой до темноты, – пояснила ему Ксюша. Она сама не могла понять, откуда взялось у нее это престранное желание. Обычно Ксюша темноты не боялась.
И вообще, чего ей бояться, если Хайд рядом? Он огромный и жуткий с виду…
…а ночью голос подал.
Ксюша проснулась оттого, что Хайд запрыгнул на кровать – а делать это ему было строго-настрого запрещено – и стянул с нее одеяло. Ткнувшись холодным носом в ее шею, он заворчал.
– Что случилось? – спросонья Ксюша попыталась отмахнуться от него. – Место…
Ворчание стало глуше.
И Хайд, убравшись с кровати, направился к двери.
– Ты что-то съел? На улицу хочешь?
Только бы не понос… такой беды с Хайдом не случалось никогда, но – мало ли. Однако признаков беспокойства он не проявлял, просто сидел, смотрел на дверь и ворчал.
А потом вдруг голос подал, громко так, что Ксюша даже подпрыгнула:
– Ты что?!
Не хватало, чтобы соседи опять жаловаться начали, как тогда, когда Хайд только-только появился у нее.
Пес поднялся на задние лапы – ростом он был повыше Ксюши, – передними заскреб по железной поверхности двери и зарычал уже во весь голос.
– Там кто-то есть? – Ксюше вдруг стало жутко. Она смотрела на дверную ручку: та дергалась, хотя Хайд и не касался ее.
Кто-то.
Тот, кто знает, что Хайд – интеллигентный пес и не тронет человека. Точнее, думает, что интеллигентный и не тронет, а на самом деле он вполне и порвать способен, когда своих защищает.
– Тише, мальчик, – Ксюша положила руку на вздыбленный загривок, отчаянно пытаясь понять, как поступить правильно. Полицию вызвать?
Или закричать?
Или затаиться… замок ведь уже сменили. И тот, кто стоит по ту сторону двери, вряд ли об этом знает.
Тогда надо просто подождать. Он поймет, что не способен проникнуть в квартиру, и уйдет.
Ксюша на цыпочках подошла к двери и взглянула в глазок: ничего. Темнота и тишина. Опять на площадке лампочку выкрутили. И завтра тетя Стеша будет причитать, что из-за всякого ворья честным людям никакого житья не стало.
– Уходите! – сказала Ксюша громко. – Или я вызову полицию…
На миг она показалась себе глупой – вот навоображала… но тут же из-за двери донеслось скрипучее:
– Отдай! А то хуже будет.
– Вот сейчас как спущу собаку…
Хайд выглядел так, что становилось ясно – он морально готов, чтобы его спустили, и даже желает наказать наглеца, посмевшего нарушить границы его территории.
– Отдай…
«А то хуже будет», Ксюша уже слышала такое. Она опустилась на пол возле двери и, обняв Хайда, зарылась в его душную шерсть.
– Ну что ему от меня надо?
Хайд не спешил успокаивать хозяйку, он неотрывно глядел на дверь. А когда все-таки присел рядом с ней, Ксюша поняла, что ночной гость убрался.
Вот только проблема не исчезла. Что-то подсказывало ей: он вернется. Если не сегодня, то завтра… или послезавтра… и выберет момент, когда Ксюша будет одна.
Например, на работу она же Хайда не потащит?
Или…
Нет, глупости, это – ночной страх, он исчезнет утром. Ксюша повторила это вслух, ничуть себя не убедив. Да и с наступлением рассвета ночной страх не стал слабее. Ксюша маялась, бродила по квартире, и Хайд неотступно следовал за ней, время от времени тычась носом ей в коленку, словно подтверждая, что он рядом и в обиду ее не даст.
– Решено, – Ксюша сглотнула. – Ты едешь со мной!
В конце концов, она себе самой дороже любых приличий. Хайд – спокойный, и никому он мешать не станет. А если станет… ну, тогда Ксюша опять уволится и поедет в гости к маме. Или к папе. Или к Насте, которая давненько ее в Крым зазывает.
Хайд зевнул, обнажив белые здоровые клыки.
В офис она приехала первой и, проведя Хайда в кабинет – на пустой и просторной, гулкой стоянке Ксюше показалось, что за ней наблюдают, – велела ему:
– Никуда не уходи!
Она и сама из кабинета носа не высунет, хотя, конечно, вряд ли ее недоброжелатель посмеет напасть на нее днем и при людях. А людей в офисе было много.
Первой появилась Эллочка и, заглянув в приемную, поинтересовалась:
– Этого нет?
– Нет пока, – Ксюша хотела добавить, что она понятия не имеет, когда «этот» появится, но он сам избавил ее от объяснений. Игнат вошел в приемную, покосился на Хайда, который приветствовал старого знакомца зевком, но ничего не сказал.
– Мог бы и поздороваться, – дернула плечом Эллочка и, наклонившись к столу, прошептала: – А мы с Викторией серьезно рекомендуем тете – присмотреться! Бери, пока не прихватили.
Ксюша покраснела и пробормотала, что она совсем о таком не думала, даже близко не думала и… Эллочка удалилась, а на селекторе загорелась зеленая лампочка.
Вызывают.
И наверняка станут ее ругать, говорить, что собаке в офисе не место…
– Здравствуй, – Игнат указал на кресло, сам остался на ногах, видимо, помнил, что еще вчера в солидном, роскошном даже кресле, оставшемся от Алексея Петровича, они нашли труп. – И рассказывай.
– О чем?
Вот неуютный у него взгляд, такой, что Ксюшу сразу тянет признаться во всех своих прегрешениях, включая вылазки на соседский огород, пусть и совершенные ею в далеком детстве.
– О том, что случилось, если ты своего монстра сюда притащила.
Хайд – не монстр, у него просто внешность такая.
Но Ксюша вздохнула и рассказала. Про Эллочку с ее откровениями – конечно, некоторые, вроде ее дружеских советов, Ксюша оставила при себе; про ночного гостя и собственный страх. И про решение, что без Хайда она здесь не покажется.
– Разумно… ключи, надеюсь, при себе держишь? – спросил Игнат, стаскивая очередной преотвратный пиджак, на сей раз с гротескно зауженной талией и широкими плечами на ватине.
– Да. А… что со шкатулкой?
– Ничего. Забудь.
Ага, вот Ксюша сразу взяла и забыла! Во-первых, ей любопытно, хотя любопытство, как известно, сгубило кошку. Во-вторых, она все равно в этом замешана, пусть ничего и не совершила, но ведь это ее дом развалили и ей звонили, и приходили – тоже.
– Вот не надо на меня так смотреть! – Игнат отвернулся.
Как?
– История грязная. И лучше, если ты отпуск возьмешь… уедешь на пару недель куда-нибудь.
– Вам кофе сделать? – Ксюша решила не озвучивать те мысли, которые возникли в ее голове после этакого щедрого предложения.
В отпуск… вот уволится и уйдет насовсем!
– Сделай.
Он обиды ее не заметил. И вообще, какое ему дело до Ксюшиных терзаний? У него в голове наверняка мысли толпами бродят, и все, как одна, премудрые.
– Мужчины, – сказала Ксюша Хайду, слабо шевельнувшему обрубком хвоста. – Самоуверенные вы создания… всюду рветесь, а сами себе кофе сварить не способны!
Как ни странно, день пошел своим чередом. Вот только пустой диван наводил на грустные мысли, и портрет Стаса в черной рамке, который принесла Виктория Павловна, напоминал о вчерашнем происшествии. Ксюша заказала цветы и подумала, что надо бы все-таки съездить к родителям Стаса.
А то неудобно как-то…
Ксюша старалась не думать о том, что потенциальный убийца – кто-то из своих, но порою замечала, что начинает смотреть на людей иначе. Вот Виктория Павловна щебечет по телефону, рассказывая дочери о том, как надо правильно выбирать гранаты.
Могла ли она убить?
Полная, мягкая, неторопливая, но в то же время настойчивая… характер у нее имеется. Без характера сложно в одиночку семью содержать… у ее дочери вечно все не ладится.
И если бы кто-то попытался отобрать у Виктории Павловны работу, убила бы она?
Глупо. Специалист ее уровня без проблем найдет новое место, если только… нет, Стас же не в бухгалтерских отчетах копался – тогда можно было бы заподозрить неладное.
Эллочка беседует с очередным клиентом, наверняка из старых, он не только в ее декольте пялится, но и слушает, о чем ему говорят. А это верный показатель.
Могла ли она Стаса убить?
Из ревности?
Но об их отношениях никто не знал, и выходит, что Эллочка сама мотив подбросила, решившись на откровения с Ксюшей?
Дима сосредоточенно раскладывает бумаги. Он терпеть не может беспорядка на столе. И кипа документов, явно кем-то ему подброшенная, раздражает его неимоверно. Зачем ему убивать?
Стас периодически Димку высмеивал, вроде бы не зло, но Дима краснел и начинал заикаться от волнения. Но тогда причина убийства никак со шкатулкой не связана, и… и насмешки – вообще не повод для убийства. Хотя Димка уже прибрал Стасову кружку, и клиенты его наверняка к нему перейдут. Обычно они Стаса предпочитали, тот умел себя подать. А Димка казался нерешительным. И тугодум он по натуре, он не умеет быстро подстраиваться под обстоятельства. Зато – въедливый, цепкий…
Из-за клиентов, пожалуй, убить можно. В теории.
А на практике?
Акулина вышла из своего закутка, уселась в кресло, которое она выкатила в центр комнаты, и уставилась в стену. Карандаш грызет с видом сосредоточенным. Что про нее сказать можно?
Ничего.
Нет, Акулина любит кактусы и выращивает их на подоконнике, а дома у нее целая коллекция. Еще Акулина не пьет, не курит и питается пророщенным зерном, в котором много полезных витаминов.
Она бегает по утрам, а в ящике стола прячет запасные кроссовки.
Что это дает?
Со Стасом они пересекались редко, и тот Акулину недолюбливал. Конечно, неявно, и Ксюша попыталась понять, откуда у нее взялось это ощущение. Эти двое были вежливы, но… вот: на корпоративной вечеринке Стас приглашает на танец всех, начиная с Ксюши и заканчивая Викторией Павловной. Кроме Акулины…
…Акулина приносит домашние эклеры – иногда ей случается готовить, и готовит она, как правило, много. Угощает всех, кроме Стаса.
Они сталкиваются в приемной – и садятся так, чтобы не видеть друг друга.
Ждут. Молчат.
Нет, пожалуй, ощущение ее было верным… Но откуда взялась эта их взаимная нелюбовь?
И имеет ли она отношение к случившемуся?
Ксюша вздохнула: так она вряд ли поймет, что произошло… а вот если… нет, не будь случай исключительным, Ксюша не решилась бы, но ведь произошло убийство. И как знать, не станет ли она сама следующей жертвой? И значит, Ксюша имеет право! Она же никому не расскажет о том, что узнает. И что вообще в чьи-то личные дела нос сует.
А для душевного успокоения можно Алексея Петровича спросить, он разрешит… но тогда придется объяснять ему про Стаса. А Алексею Петровичу нельзя волноваться.
– Я же ничего плохого не делаю, – сказала Ксюша Хайду, который приоткрыл глаз, желая убедиться, что – да, не делает.
Копии личных дел хранились в рабочем компьютере Ксюши, пусть и под паролем, но она все старые пароли знала наизусть. Вряд ли Игнат додумался их сменить.
Файлы Ксюша скопировала на флешку, решив, что изучит их дома. Здесь ее не оставляло ощущение, что вот-вот дверь в приемную откроется и кто-нибудь войдет, застав Ксюшу за сим неприличным занятием.