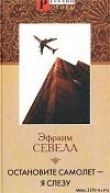Текст книги "Остановите самолет — я слезу! Зуб мудрости"
Автор книги: Эфраим Севела
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Над Атлантическим океаном.
Высота – 30 600 футов.
Дальше все покатилось, как – ну, видали в кино? – снежная лавина. Будто всем евреям поголовно воткнули шило в задницу.
Подумать только, то в одном, то в другом городе потерявшие всякий страх евреи заявляются в здания, которые раньше стороной обегали, – в Президиум Верховного Совета, в МВД, в обком партии – рассаживаются по скамьям, а если нет скамей, так прямо на полу, и объявляют сбитым с толку милиционерам, что не уйдут, пока не получат положительный ответ на свои требования. Не просьбы, а требования! Учтите. Это в Советском-то Союзе, где еще совсем недавно любой бы лучше язык откусил, чем выговорить такое.
А особо ретивые рвались в Москву. Чтобы не где-нибудь, а только в столице, на виду у иностранцев, а значит, – и у всей мировой прессы, сунуть кукиш советской власти под нос.
Поездами, самолетами, в автобусах сотни евреев, побросав работу и свои семьи, перлись в Москву из Риги и Вильно, из Львова и Черновиц, из Киева и Одессы, из Кутаиси и Тбилиси. Забастовка за забастовкой. Голодные, полуголодные и совсем уж не голодные забастовки – с обильным приемом привезенной из дому снеди.
Советская власть растерялась. Приемную Президиума Верховного Совета СССР на Манежной площади, возле Кремля, которую в особенности облюбовали евреи для забастовок, с перепугу закрыли на ремонт. И тогда возмутители спокойствия перекочевали на Центральный телеграф, по соседству.
Власти отступали, как говорят военные, без заранее подготовленных позиций. Иногда огрызаясь. Но беззубо, вяло. Выхватят из толпы двоих-троих, упрячут за решетку, а сотням выдают визы и даже с облегчением выпроваживают за станцию Чоп.
Иногда, словно на нервной почве, милиция совершит налет на поезда, идущие в Москву, ворвется в самолеты, готовые подняться в воздух, и каждого пассажира, чей профиль вызвал бы понос у Геббельса, хватанет за шкирку и вышвырнет наружу. А вслед летят чемоданы и узлы.
Часто хватали невинных евреев, ехавших в Москву по служебным делам, выталкивали армян за подозрительное сходство с евреями.
А сотни и сотни обалдевших евреев с визами в зубах и детьми под мышкой покидали СССР. И другие сотни, увидев, что от смелости не умирают, рвались в Москву, выпучив глаза, чтоб занять на Центральном телеграфе место уехавших и тоже объявить забастовку. Пока советская власть не опомнилась, не натянула поводья, не вонзила шпоры в бока. А как эти шпоры вонзаются и как при этом трещат косточки, было памятно каждому, если только он окончательно не лишился ума на радостях.
На Центральном телеграфе толпилось больше забастовщиков, чем нормальной публики, что нарушало работу этого учреждения, и милиция время от времени совершала профилактические облавы, очищая помещение от лиц с еврейской наружностью. Под жуткие вопли и стенания евреев всего мира, а также прогрессивной общественности, как это называется в газетах. На бедную советскую власть сыпалось не меньше проклятий, чем в 1917 году. Погромщики! Наследники Гитлера! Геноцид! Где права человека? Улю-лю-лю! Ату его!
Становилось смешно. А если народ смеется, то, как известно, для властей это уже совсем не смешно.
Послушайте, и вы сами посмеетесь.
Это история об одном грузине, не грузинском еврее, а чистокровном грузине, кавказском человеке, чуть-чуть не угодившем по ошибке в Израиль. Для удобства рассказа назовем его, скажем, Вахтанг. Договорились? Значит, поехали.
Жил Вахтанг, горя не знал. Возил зимой с Кавказа в Москву цветы. Обыкновенные цветы. Продавал на Центральном рынке. Барыши получал такие, что даже Рокфеллеру не снились. На Кавказе, где и зимой лето, цена одному цветку гроши, в Москве самое меньшее – рубль. Прибыль – стократная. Рейс самолетом Тбилиси – Москва и обратно – шестьдесят рублей. Вахтанг упакует, спрессует в два чемодана сорок тысяч единиц цветов. Это сорок тысяч рублей. Состояние. Расходы – билет в два конца, да сотня-другая на девиц и рестораны. Ну, еще пару сот милиции да инспектору, чтобы не лезли не в свое дело. Все остальное – прибыль. Можно, скажу я вам, с ума сойти. Академику, лауреату Ленинской премии, который годами сушит свои мозги, пытаясь что-нибудь изобрести, не хватит фантазии вообразить такие деньги, сделанные в один день.
Для такого Вахтанга советская власть – малина, сущий клад. Его никакими калачами за границу не выманишь. Тем более, в Израиль. Хотя, как утверждают знатоки, могила крупнейшего поэта Грузии, гордости грузинского народа – Шота Руставели находится в одном из монастырей Иерусалима, и даже спекулянту цветами, должно быть, не грех поклониться праху своего национального гения.
Привез Вахтанг в Москву два чемодана с прессованными цветами, на Центральном рынке оживил их, распушил, водичкой сбрызнул и продал по рубчику штука. Набил один чемодан деньгами доверху – тоже спрессовать пришлось, чтоб влезли. Второй – пустой. Сдал чемодан в камеру хранения и сам по традиции в ресторан, а потом к девицам. Сразу три блондинки – натуральные, без краски. Комсомольского возраста. Поистощился на них Вахтанг. Не денежно, а сексуально. Видно, годы уже не те. Ослаб. Пока отсыпался да приходил в себя, прозевал свой рейс. Пришлось билет менять. А чтоб жена не умерла от страха, решив, что его, наконец, зацапала милиция, пошел на Центральный телеграф дать ей успокоительную депешу.
Входит, смотрит вокруг и глазам не верит. Одни грузины сидят на скамейках. Вернее, грузинские евреи. А чем такие евреи отличаются от грузин, только они сами и понимают. На мой взгляд, ничем. Те же лица, те же усики, тот же кавказский акцент. И даже шапки, знаменитые тбилисские кепки-блины, размером с аэродром, потому что если не самолет, то вертолет уж точно может совершить на них посадку, не боясь промахнуться, – и те у них на головах одни и те же.
Вахтанг, конечно, сразу отличил, что перед ним евреи. Дома, в Грузии, он их не очень жаловал, но здесь, в холодной, морозной Москве, грузинский еврей был для него земляком, а следовательно, самым желанным собеседником и собутыльником.
Был ранний час, и грузинские евреи на всех скамьях Центрального телеграфа приступили к завтраку. К солидной кавказской трапезе. Развязали узлы с пахучей снедью, заготовленной заботливыми женами в Кутаиси, откупорили бутылки с домашним вином. Запахи по телеграфу пошли такие, что белобрысые телеграфистки за стеклянными окошечками дружно пустили обильную слюну, перепортив немалое количество телеграфных бланков.
Ни с одним из этих евреев Вахтанг не был лично знаком, но, опознанный по шапке и усикам, был радушно приглашен разделить скромное угощение. Вахтанг пил и ел, наслаждался беседой на родном языке и забыл даже, зачем сюда пришел. Забыл он также спросить грузинских евреев, по какому случаю они в таком большом числе расположились на Центральном телеграфе.
Острые запахи кавказских специй довели до обморока одну московскую телеграфистку, которая на свою жалкую получку завтракала лишь стаканом кефира. Это дало милиции официальный повод вмешаться и очистить помещение от грузинских евреев. Подъехали автобусы-фургоны без окошек, всю кавказскую братию до единого, включая и Вахтанга, погрузили и увезли в участок.
Бедный Вахтанг никак не мог понять, за что задержан. Неужели за цветы? Ему и в голову не могло прийти, что он, сам того не ведая, оказался участником забастовки грузинских евреев, именно таким путем добивавшихся визы в Израиль. Об этой забастовке потом много писали в заграничной прессе. В отдельных газетах ее называли даже голодной забастовкой.
А писали о ней много потому, что оказалась она наиболее успешной. Разгневанное московское начальство всем задержанным в тот день на телеграфе предложило уматывать в Израиль без лишних формальностей, дав три дня на сборы.
Не еврей, а чистокровный грузин, Вахтанг тоже попал в этот список, и как ему удалось из этого дела выпутаться, я, честно говоря, не знаю. Может быть, за большую взятку он смог сохранить советское гражданство и право жительства, то есть прописку на родном Кавказе. А может быть, кукует в Израиле и как о чудном сне вспоминает свой цветочный рай в Советском Союзе и проклинает русское начальство и грузинских евреев, что подвели под монастырь его, безобидного, аполитичного человека, торговавшего всего-навсего цветами.
Но вся история рассказывается не для того, чтобы оплакивать бедного Вахтанга. Как-нибудь выкрутится. Я хочу вам снова поведать о Коле Мухине. Как он чуть не влип. И причиной был я. Как всегда, без всякого умысла сунувший свой нос, куда не надо. Должен вам честно сказать, что кто свяжется с таким шлимазлом, как я, удовольствия получит очень мало, а неприятностей – вагон.
Начнем с Коли. Как вы знаете, он не дурак выпить. А выпив, любит рукам волю давать. Это он называет: погулять. Кончается это гулянье чаще всего в вытрезвителе. Там Колю знают. Он там свой человек, завсегдатай. Усмирят, окатят холодным душем, уложат в чистую постельку, и назавтра он, уже свежий как огурчик, дома. Пьет огуречный рассол и молча сносит нотации своей Клавы. До поры до времени. До очередного гулянья. И тогда отливаются кошке мышкины слезки. Коля так изукрасит ей физиономию, столько навесит фонарей – больше, чем при иллюминации на улице Горького в День Победы.
Что касается вытрезвителя, то с ним расчет всегда один и тот же. Двадцать пять рубчиков за обслуживание – присылают исполнительный лист по месту работы в бухгалтерию. Копию – в партийную организацию для обсуждения недостойного поведения члена КПСС Николая Ивановича Мухина.
Колю обсуждают на партийном собрании работников жилищно-эксплуатационной конторы, то есть ЖЭКа. Журят, взывают к партийной совести, ссылаются на наши успехи в космосе и на происки врагов за рубежом. Коля слушает внимательно и каждый раз клянется, что это в последний раз. Ему ставят на вид с занесением в личное дело. А когда в личном деле не осталось свободного места в графе «взыскания», стали ставить на вид без занесения в личное дело. И обсуждали его поведение не по каждой повестке из вытрезвителя, а когда соберется штук шесть-семь, тогда и скликали собрание, чтобы пропесочить Колю по совокупности проступков. Нянчатся с Колей по нескольким причинам. Первое, он русский, следовательно, национальный кадр. Второе, рабочий, а рабочих в партии и так мало, нужно беречь каждую единицу. К тому же, он в прошлом заслуженный боевой офицер и инвалид Отечественной войны. Он-то и в партию вступал перед боем и в заявлении писал: хочу умереть коммунистом. Коля не умер, остался жив, хотя и инвалидом. И соответственно до конца своих дней коммунистом. Разве можно такого исключать из партии? Бред.
Чтобы начать эту историю, я должен сразу сообщить: Коля Мухин по пьяному делу в очередной раз попал в вытрезвитель. А причем тут я, Аркадий Рубинчик, ни разу не выпивший больше своей нормы?
Тут-то и начинаются происшествия, одно другого нелепее. Как вы догадываетесь, меня нельзя причислить к мужественным евреям, и ни к каким забастовщикам и демонстрантам я и на версту не приближался. Хоть уже хотел ехать в Израиль и подал документы в ОВИР. Есть авангард и есть обоз. Так я был в обозе. Авангард бился и нес потери, а я ждал своей очереди тише воды, ниже травы.
Ждал уже довольно долго, а результата никакого. Люди пачками летят в Израиль, обо мне же будто забыли. Стал я нервничать. Это и подвело меня.
Встречает меня у ОВИРа, где я обычно околачивался, ожидая, что вот-вот вызовут получать визу, один чудак из тех, что все знают, и шепчет на ухо: мол, не там торчишь, жми скорее к Генеральному прокурору, он сейчас принимает по этому вопросу, и туда очень много народу пошло. Я сдуру и подался.
Тут я должен сделать отступление. У каждого нормального советского человека, куда бы он ни шел, в кармане всегда лежит авоська. Сетка. Плетенная из суровых ниток хозяйственная сумка, которая в пустом виде ничего не весит и никакого места не занимает. Поэтому ее очень удобно таскать в кармане. Авоська – советское изобретение, и изобретение гениальное. Я даже не знаю, как бы мы жили без авоськи. По какому бы делу ни шел, на работу или с работы, глядь – выбросили колбасу, ты – в очередь, и с полной авоськой – домой. Или на другом углу – болгарские помидоры, ты со своей авоськой тут как тут. Или на французских цыплят наткнулся, авоська при тебе, значит, не явишься домой пустым.
Если прикинуться дурачком и специально пойти по Москве охотиться за каким-нибудь продуктом, то останешься без ног и чаще всего ничего не принесешь. В СССР всегда дефицит с продуктами. Это, как говорят остряки, временные трудности, ставшие постоянным фактором. Если что и появится на прилавке, то поди угадай заранее, в каком магазине, а пока угадаешь, товар и кончился.
Авоська – палочка-выручалочка, лучший друг и помощник советского человека. Всегда имей ее при себе, как солдат винтовку, и что-нибудь непременно домой притащишь.
В тот раз, когда я послушал этого болвана и поперся к прокуратуре, в кармане у меня, натурально, лежала комочком авоська. И, должен вам сказать, это очень потом отразилось на моей судьбе. Казалось бы, мелочь, авоська, а какой поворот фортуны!
По улице Горького из Елисеевского магазина народ тащит огурцы. Свежие огурцы в Москве зимой – это явление. Длинные такие, импортные, как оказалось, из Египта. Ближний Восток – как бы привет с исторической родины! Авоська в кармане, я, конечно, в магазин. Кто последний – я за вами.
Очередь была смешная, человек полста, не больше. Набрал я полную авоську этих здоровенных, как поленья, огурцов. Не только для себя. Для соседей тоже. Скажем, для Клавы, Колиной. Я же приличный человек, у меня есть чувство локтя. И Клава, если где что дают, про меня тоже не забывает.
Несу авоську, ее аж распирает от египетских огурцов. Встречный народ меня задерживает:
– Где дают?
Я только рукой показываю, некогда мне. И так задержался, могу опоздать в прокуратуру.
Подхожу, и сразу что-то мне показалось подозрительным. Много милиционеров ходит за оградой. На то и прокуратура, думаю, чтоб милиция вокруг паслась. Но вот почему так много во дворе автобусов без окошек? Черные вороны. Для перевозки арестантов.
Я уж хотел было от ворот – поворот, а милиционер меня за руку:
– Вы по какому делу, гражданин?
Я затрепыхался: да ничего, мол, просто так, товарищей своих разыскиваю.
А он в мою еврейскую физиономию глядит и очень ласково отвечает:
– Пройдемте, уважаемый. Я вас к вашим товарищам провожу.
И поволок за ограду к автобусам. Одну мою руку он держит, в другой у меня авоська с огурцами.
– Пахомов! – кричит другому милиционеру. – Принимай еще одного сиониста. Кажись, последний. Можно ехать.
Впихнули меня в автобус, а там – одни евреи, друг на дружке как сельди. Захлопнули железную дверь, и мы поехали. Через всю матушку-Москву. До Волоколамского шоссе. В знаменитый вытрезвитель.
Вытряхнули нас во внутреннем дворике, построили по двое и повели в помещение. В дверях – заминка. Столкнулись с другими, с настоящими алкоголиками, православными, которых выводили. Там-то меня и увидел Коля Мухин.
– Аркаша! Какими судьбами? – кричит.
И ко мне, в нашу колонну.
Тут нас стали торопить, чтоб не задерживались, и Коля Мухин со всеми евреями попал в большой зал, где нас рассадили по скамьям.
А за столом, крытым зеленым сукном, сидит не милиция, а КГБ. От капитана и выше. Всё – влипли! Сухими из воды не уйти. Будут шить политическое дело.
Положил я авоську с огурцами на колени и совсем поник. Даже не видел, что Коля Мухин вытащил один огурец, откусил и захрустел на весь зал.
За него первого и взялись.
– Эй, ты! – крикнули из-за стола с зеленым сукном. – Который огурец жрет! Встать! Подойти к столу!
Коля Мухин огрызок огурца положил на скамью возле меня и пошел к столу, слегка покачиваясь.
– Фамилия?
– Мухин, – отвечает Коля, – Николай Иванович.
– Николай Иванович Мухин? Довольно редкая фамилия для еврея, – усомнились за столом.
Коля обиделся.
– А это уж не вашего ума дело. Как назвали при рождении, так и с гордостью ношу.
– Молчать! – призвали его к порядку. – Год рождения? Социальное положение? Конечно, беспартийный?
– Почему же? Член КПСС с 1942 года.
– Засорили партийные ряды еврейской нечистью, – вздохнули мундиры за столом.
– Причем тут нация? – удивился Коля. – Мы коммунисты-интернационалисты. Между прочим, Карл Маркс, под портретом которого вы сидите, тоже был из евреев.
– Молчать! Не вступать в пререкания. Не видать тебе нашей партии, как своих ушей. Вычистим, чтоб духу не осталось.
– Это меня? – взревел Коля. – Фронтовика? Вы по каким тылам ошивались, когда я перед боем партийный билет получал?
– Осквернил ты, Мухин, опозорил свое прошлое. За чечевичную похлебку продался, за тридцать серебренников.
– Кому это я продался? – не понял Коля.
– Будто сам не знаешь? Сионистам! Международному капиталу. Хочешь советскую Россию на фашистский Израиль променять!
– Я? – ахнул Коля. – Да ты охренел!
За столом небольшое замешательство. Сразу тон сбавили.
– Погоди, погоди, Мухин, может, ты раздумал ехать в Израиль?
– А я и не думал.
– Значит, осознал, опомнился и раздумал?
– А на хрена он мне сдался, этот Израиль? – возмутился Коля. – Вы меня что, за дурака принимаете?
– Стой, Мухин, не горячись, – один майор выскочил к нему из-за стола и даже обнял. – Вот что, товарищ Мухин, ты – настоящий советский человек, и тебя международному сионизму не удалось поймать на крючок. Сорвалось у них, не вышло! – закричал он всем евреям в зале. – Берите пример с товарища Мухина, отрекитесь, пока не поздно, мы вас всех освободим и забудем, что было прежде. Скажи им, товарищ Мухин, пару слов.
Офицер дружески, совсем по-отечески, подтолкнул его к недоумевающим евреям на скамьях.
– А что я им могу сказать? – не понял Коля. – У них есть цель… На свою родину… В Израиль. Отчаянные ребята… Я их за это уважаю…
– Не то говоришь, – тронул его за плечо офицер.
Коля стряхнул его руку.
– А ты меня не учи, что говорить. Это при Сталине нам рот зажимали. Прошли ваши времена! Понял? Теперь коллективное руководство… без нарушений социалистической законности… И как русский человек… от всей души…
– Мухин! – оборвал его офицер. – Замолчи, сукин сын! А ну, покажи свой паспорт.
Коля лениво вытащил из-за пазухи мятую книжечку.
Офицер заглянул туда и швырнул на зеленое сукно остальным офицерам.
– Так ты же не еврей! – завопил он. – Чего сюда полез?
– Я и не говорил, что я еврей. Я – русский. Я тут ради дружка моего, ради Аркаши. Вот он, с огурцами.
– Вон отсюда, пьяная рожа! – закричал офицер, и я подумал, что его удар хватит. – Вон! Чтоб духу не было!
– Я – что? – пожал плечами Коля. – Я могу уйти. А как с Аркашей? Он ведь если пьет, то только норму…
– Оба – вон! – затопал ногами майор. – И тот карлик с огурцами – вон! Я вам покажу, как устраивать комедию из серьезного политического дела.
Хоть я и был обижен «карликом», но не стал ждать напоминания и, подхватив авоську с огурцами, бросился вслед за Колей к выходу.
За нашими спинами офицер орал на притихших евреев:
– Всех под суд! По всей строгости закона! Руки, ноги обломаем подлым предателям, сионистским выкормышам!
И тогда, уже в самых дверях, Коля повернулся на сто восемьдесят градусов и, сделав проникновенное лицо, как подобает герою, отчетливо и громко, чуть не со слезой произнес:
– Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!
За зеленым сукном онемели, вопивший майор умолк и застыл на одной ноге. Я вытолкал Колю в коридор и захлопнул дверь.
Только на улице, пробежав метров пятьсот, мы остановились. И в очень неплохом месте. Прямо у входа в закусочную Моспищеторга.
В честь счастливого избавления мы приняли по сто пятьдесят грамм с прицепом и закусили египетскими огурцами. Хорошие, должен вам сказать, огурцы. Можно свободно обойтись без другой закуски.
А те чудаки, что остались в вытрезвителе, получили по пятнадцать суток тюремного заключения. Они потом устроили в тюрьме голодовку протеста. И им в поддержку евреи Нью-Йорка и Лондона провели бурные демонстрации и даже побили окна в советском посольстве, что и было, по-моему, единственным фактом хулиганства во всей этой истории, которая началась с простой авоськи и египетских огурцов.
Над Атлантическим океаном.
Высота – 30 600 футов.
Вот сейчас кругом все галдят: сионисты, сионисты. А что это такое, я вас спрашиваю? С чем это едят?
В последние годы в России каждый еврей переболел этой болезнью. Это вроде кори. Никуда не спасешься. Надо переболеть, если ты еврей, или наполовину еврей, или хоть на четвертушку.
Сионисты в Москве были разные, любого калибра. На выбор. Начиная с совершенно чумных, что перли на рожон, чуть не на штыки, и потом прохлаждались в Потьме, до тихих, краснеющих, которые скромно проползали в щель, пробитую первыми, и без особых хлопот приземлялись в Израиле.
Но я знал одного, у которого симптомы этой болезни были ни с чем несравнимы и такие, что не рассказать об этом, прямо грех.
Представьте себе семейную пару. Молодую, симпатичную. И вполне успевающую. Оба – критики. Нет, нет. Они не советскую власть критиковали и не бегали с кукишем в кармане. Наоборот. Даже члены партии.
Критик – это профессия. Они были музыкальные критики. Все советское они, когда критикуют, обязательно хвалят, а все заграничное, даже если хвалят, обязательно немножко покритикуют. Ничего не поделаешь. Такая профессия. Бывает и похуже. Например, санитар в психушке. Б-ррр!
Так они оба жили, беды не зная, занимались критикой и потихонечку накритиковали кооперативную квартиру в Доме композиторов на проспекте Мира, автомобиль «Жигули» и даже небольшую дачку на Московском водохранилище.
Как и у всех нормальных людей, у них была теща, которая, слава Богу, жила отдельно, но так любила свою единственную дочь, что навещала их ежедневно. Зять, конечно, не падал в обморок от счастья и однажды поставил тещу на место.
Я это к тому рассказываю, вы сами скоро убедитесь, что отношения зятя и тещи потом оригинально проявились в сионизме, который рано или поздно должен был добраться и до этого гнездышка.
Зять был человек ассимилированный и о еврействе вспоминал, лишь когда видел тещу у себя в гостях. И шерсть у него при этом становилась дыбом. Как полностью ассимилированный, он утратил еврейскую мягкость и в гневе допускал рукоприкладство, что сближало его с великим русским народом.
Теща дождалась своего часа.
Приходит как-то к ним в гости днем и застает такую картину. Зять лежит на диване, задрав ноги, и книгу читает, а ее единственная дочь ползает по паркету, натирая его шваброй. Теща взвыла с порога:
– Этого ли я ожидала на старости лет увидеть? Моя дочь, талантливейшая критикесса, как последняя рабыня, обслуживает это чудовище, хотя она кончила институт с отличием, а его еле вытянули за уши. Это он должен натирать паркет и целовать следы твои на нем.
Зять отложил книгу, спустил ноги с дивана и так спокойно-спокойно сказал:
– Правильно, мамаша.
И руку тянет к своей жене, а рука у него большая, тяжелая.
– Дай-ка швабру.
Жена не верит своим глазам – как прошибли мужа слова тещи, устыдился ведь и готов сам взяться за уборку.
Отдала она ему швабру. Он подкинул ее в своей руке, вроде бы взвесил, взял поудобней за конец палки и как огреет тещу! Та вывалилась на лестничную площадку и, соседи потом божились, лбом, без рук открыла лифт и – испарилась.
В этой семье наступили мир да лад. На зависть всем соседям. Теща стала шелковой, заходить норовила пореже и всегда на цыпочках, на зятя смотрит, как еврей на царя, а он не часто, но позволяет ей себя обожать.
Эту идиллию погубил сионизм. Добрался и до них вирус. Зять заболел бурно, в тяжелой форме. Сутки делились на время до передачи «Голоса Израиля» и после. Этот «Голос» он слушал столько, сколько его передавали, и каждый раз со свирепым лицом требовал абсолютной тишины от окружающих. Он потерял аппетит, убавил в весе, глаза стали нехорошие, как у малахольного. Жена не знала, что делать, и с ужасом ждала, чем это кончится.
Теща же, всей душой возненавидев сионизм и Израиль, сломавшие жизнь такой прекрасной советской семьи, у себя дома, на другом конце Москвы, каждое утро чуть свет включала транзисторный приемник, специально для этого купленный, и слушала все тот же «Голос Израиля». Прежде политика ей была до лампочки, а слушать запрещенные заграничные передачи и вовсе не смела. А тут прилипала к приемнику, морщилась от радиопомех и ловила каждое слово из далекого Иерусалима.
И знаете почему? От утренней сводки у нее весь день зависел. Если передадут, что в ночной перестрелке на ливанской или иорданской границе, не дай Бог, убит или хотя бы ранен израильский солдат, она чернела с лица и погружалась в траур. Потому что в этот день она уже к дочери зайти не могла. Зять так бурно переживал каждую смерть в Израиле, что предстать пред его очами означало для тещи почти верную гибель. Он бы все свое горе выместил на ней.
И она отсиживалась сутки, лишь по телефону робко общалась с дочерью, и обе разговаривали почти шепотом, как при покойнике в доме.
Зато если в следующей передаче Израиль не понес никаких потерь, да еще впридачу уничтожил с дюжину арабов, захватив большое количество оружия советского производства, теща расцветала и мчалась в гости к дочери. Зять встречал ее ласковый и умиротворенный, и она сидела там как на иголках, ожидая следующей передачи, в которой вдруг да опять что-нибудь стрясется на одной из израильских границ. И тогда надо будет уносить ноги от впавшего в тяжелую меланхолию зятя.
Этот сионист потерял половину своего веса, пока получил визу в Израиль. Вы думаете, он в Израиль поехал? В Нью-Йорке живет, в неплохой квартирке, со своей женой, и оба неплохо освоили английский. Она лучше. Все же кончила институт с отличием. Как говорила теща. Кстати, теща скоро приедет к ним.
Об Израиле в этом доме не говорят. Как о веревке в доме повешенного. «Голос Израиля» ни по-английски, ни по-русски не слушают. У музыкального критика теперь новое увлечение. Изоляционизм. Как стопроцентный янки он считает, что нам – американцам – нечего вмешиваться в европейские дела. Пусть они там наложат головой. И в Европе, и на своем вонючем Ближнем Востоке.
Я уже, кажется, говорил вам, что в Нью-Йорке мне привелось повстречать многих из своих бывших клиентов по Дворянскому гнезду в Москве. Сразу вижу удивление на вашем лице и готов спорить на любую сумму, что знаю, по какому случаю вы удивлены. Что это за Дворянское гнездо в советской Москве? Точно, угадал? Ну, вот видите. И где такое гнездо находится? И как это его большевики не разорили?
Чтобы вы не блуждали в потемках и напрасно не морочили себе голову, сразу открою секрет: большевикам совсем незачем было разорять это гнездо, потому что они сами его создали.
Вот вам его координаты. Ленинградский проспект в Москве знаете? Так это почти в конце его, между станциями метро «Динамо» и «Сокол», а еще точнее – сразу же за метро «Аэропорт». Кооперативные дома работников искусств. Привилегированная каста. Почти как генералы или ученые-атомщики. Их кирпичные дома первой категории, с лифтами и швейцарами в подъездах, как павлины среди облезлых кур, сбились в кучу, заняли круговую оборону в море сборно-панельных типовых домов хрущевской эры, где обитают простые москвичи, как, скажем, мы с вами. Улицы Черняховского, Усиевича, Красноармейская, Часовая и называются Дворянским гнездом.
Здесь живет элита, здесь денег куры не клюют, здесь прислуге платят больше, чем инженеру на заводе.
Как вы помните, а мне тоже память не изменяет, революцию большевики в семнадцатом году сделали, посулив народу уравнять бедных с богатыми. Народ, конечно, обрадовался – думал всех бедных сделают богатыми, то есть, как поется в партийном гимне: «Кто был никем, тот станет всем». Вышло же наоборот – все стали бедными, на этом и уравнялись.
И только очень немногие, может быть, меньше одного процента, при советской власти сказочно разбогатели. Но так, что и американскому бизнесмену не снилось. Ведь в СССР, если ты не под конем, а на коне, то тебе все в руки – и деньги, и власть. А власть в России дороже денег. Тут уж вообще все бесплатно. И государственные дачи, и закрытые санатории, и спецполиклиники, и пайки, и пакеты. И если раньше можно было капризно сказать: все есть, только птичьего молока не хватает, то теперь и эта жалоба отпала – кондитерская фабрика «Красный Октябрь» освоила выпуск конфет под названием «Птичье молоко».
Моя основная кормилица – левая клиентура – живет в Дворянском гнезде. Им – писателям, художникам, режиссерам, артистам, а также их женам – я делаю модные прически на дому и знаю каждый бугорок и впадину на их черепах не хуже, чем московский таксист знает все переулки на Арбате.
Поэтому слушайте меня внимательно, и все, что вас интересует насчет Дворянского гнезда, вы из первых рук узнаете. Для начала я должен сказать, что публика там живет смешанная, неоднородная в национальном смысле: муж – еврей, жена – русская, или наоборот. Дети, естественно, полукровки и, если верить народным приметам, талантливые и красивые. Насчет талантов мы убедимся, когда они подрастут, а насчет красоты – так в нашей коммунальной квартире, где крови не мешались, а если мешались, то лишь с алкоголем, дети выглядели не хуже.
Но зато богатыми были всерьез. Где вы видели в России два легковых автомобиля в одной семье? Там и такое встречалось. Деньги, машины, дачи, туристские поездки. Одевались во все парижское, купленное у спекулянтов или в ансамбле «Березка».
Эти люди занимались искусством, а искусство в СССР партийное, художественная пропаганда. Поэтому они, если разобраться, были не режиссерами, не танцорами, не поэтами, не певцами. Они были гримёрами. Я их так называл. Каждый на свой лад, они накладывали грим на лицо советской власти, делали из нее куколку, аппетитную и съедобную. И делали хорошо. Даже такие пройдохи, как я, иногда покупались и верили. За эту работу советская власть денег не жалела.
В Дворянском гнезде жили великие гримёры. Богатые, избалованные люди. Щеголяли соболями, духами «Шанель» и «Мицуки». Я же был при них придворным брадобреем. Обслуживал их на дому, работая сверхурочно, налево.
Там же я познакомился с одним малым, у которого папашка был величайшим гримёром – не в переносном смысле, а в прямом. Он бальзамировал трупы вождей коммунизма, делал их лучше, чем при жизни, и сохранял в таком виде для будущих поколений, которым повезет дожить до самой последней, завершающей фазы строительства коммунизма.