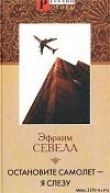Текст книги "Остановите самолет — я слезу! Зуб мудрости"
Автор книги: Эфраим Севела
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Над Атлантическим океаном.
Высота – 30 600 футов.
Всему свое время. Надо вас немножечко развлечь. А что лучше может позабавить двух уважаемых мужчин, чем то, что сейчас называют сексуальными проблемами.
Я проблем никаких ставить не собираюсь. Просто потреплемся всласть, языками почешем.
Но это не просто истории про баб. Это часть моей биографии, и поэтому вы узнаете кое-какие пикантные подробности из жизни простого советского парикмахера Аркадия Рубинчика. А поскольку советский человек, как ни вертись, никуда от политики не может спрятаться, то все, что вы дальше услышите, будет иметь и политический оттенок, и чуть-чуть социальный, и, если хотите, даже исторический. Потому что каждый из нас – частица народа, а народ, как завещали классики марксизма-ленинизма, – творец истории.
Я эти формулировочки назубок знаю, потому что все парикмахеры нашего комбината были стопроцентно охвачены политическим просвещением и каждый год зубрили все те же самые цитаты из Маркса и Ленина. После работы, вечерами. И от всего этого осталось одно ощущение – зверски хочется спать. Но на следующий год наш парторг Капитолина Андреевна, не спросив нас, на добровольных началах снова записывала всех в этот кружок и угрожала большими неприятностями за неявку на занятия.
Но прежде, чем рассказывать про баб, я расскажу вам, за что меня судили и на два года угнали пилить лес, чтобы я за колючей проволокой прошел трудовое перевоспитание и стал полноценным советским человеком.
Началось все самым мирным образом, и ничто, как говорится, не предвещало бури. Поздним вечером, поужинав и надев свой выходной костюм, я шел по засыпающим улицам родного Мелитополя с привычным, хотя и весьма деликатным поручением. Я шел давать взятку. Не индивидуальную, а коллективную. От всего коллектива нашей парикмахерской. И кому бы вы думали? Начальнику милиции майору Губе. В собственные руки, с доставкой на дом. Пятьсот рублей наличными – ежемесячная дань, которую взимал с нашей парикмахерской товарищ Губа.
Почему мы совали взятку, это даже грудной ребенок понимает. На нашу зарплату можно только ноги протянуть. Чтобы этого не случилось и катастрофически не сократилось поголовье парикмахеров в стране, каждый советский парикмахер, беря плату с клиентов, из трех случаев в одном сдает деньги в государственную кассу, а в двух остальных кладет себе в карман. Кому не хочется, чтобы это всплыло наружу, тот должен кое-кого подмазывать. Мы не разменивались по мелочам и давали на самый верх – начальнику милиции. Это – полная гарантия, как у Бога за пазухой. А наскрести пятьсот рубчиков с трех парикмахеров нашей точки – плевое дело. Народ сознательный, отчисляют, как налог.
Почему относил взятку я, а не кто-нибудь другой, тоже нетрудно догадаться. В масштабах Мелитополя я был к тому времени фигурой заметной, местной достопримечательностью, так как незадолго до того занял третье место на всеукраинском конкурсе дамских причесок, и мой портрет, а также статья обо мне появились в киевском журнале. У меня было больше шансов, чем у любого другого мелитопольского парикмахера, разговаривать с майором Губой, не опасаясь его хамских выходок. Тем более, что я шел не брать у него взаймы, а нес ему в зубах довольно жирный кусочек.
Я шел по улице Ленина, посвистывая, и понятая не имел, что гуляю на свободе последний раз. Майор Губа проживал на этой самой улице Ленина в новом, самом шикарном в городе доме. Этот дом построили немецкие военнопленные, а у немцев, как вы знаете, качество не в пример нашему. Это был почти европейский дом в нашем захолустье. Отдельные квартиры для каждой семьи, балконы с ажурными решетками, полы паркетные, ванны с горячей водой круглосуточно и центральное отопление. В те годы это было как сказка, и героями этой сказки, то есть владельцами ключей от квартир, становились только большие начальники. Вроде майора Губы.
Я не первый раз проделывал этот путь и обычно без всяких осложнений вручал конверт с деньгами супруге майора Губы – мадам Губе. И на сей раз она открыла мне дверь. Из дальних комнат слышался многоголосый шум. Я отдал конверт и хотел было уйти, потому что мадам Губа была вдрызг пьяна и еле стояла на ногах, отчего навалилась на меня своей могучей грудью. При моем невысоком росте ее пудовые груди плашмя опустились на мое темя, и я погрузился в них по уши, как в тесто.
– Кто там? – услышал я пьяный голос майора Губы, потому что видеть ничего не мог.
– Да этот… еврейчик… – ответила мадам Губа, качнувшись назад, и я увидел, как майор Губа в расстегнутом кителе и в галифе без сапог подхватил ее сзади, чтобы она не плюхнулась на пол. – Деньги принес.
– Ух, жиды мои, жиды, бесово племя… – сказал майор Губа, и я чуть не задохнулся от коньячной вони. – Беру за вас грех на душу… перед Богом… и… и партией.
– Ваня, тащи его к нам, – позвал кто-то из комнаты. – Пусть с нами выпьет. А то они нас, русских, за дураков считают, а себя умнее всех. Пусть покажет, что не брезгует.
Я человек застенчивый и поэтому ломаться долго не стал, о чем потом очень даже сожалел.
У начальника милиции майора Губы гуляли сослуживцы. Заместитель по политической части капитан Медокин и начальник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности – ОБХСС – капитан Криниця. С женами. Это были вполне натуральные украинские дамы. Полна пазуха цыцок, и такие зады, что на каждом три мильтона могли бы свободно резаться в очко и даже облокотиться обеими руками.
Я угодил в прелестную компанию. Блюстители порядка и социалистической законности были в последней стадии опьянения и, не придумав ничего остроумнее, затеяли соревнование жен.
Замполит капитан Медокин ко всеобщему ликованию назвал это соревнование социалистическим и объявил, что победительница получит переходящий красный член. Не красный флаг, как пишут в газетах, а мужской член. И не какой-нибудь, а обрезанный. Который для блага народа конфискуют они у гражданина парикмахера Рубинчика. То есть у меня.
Я смеялся вместе со всеми. Потому что думал, что это шутка. Не очень смешная, но вполне терпимая, если учесть, что ее автор – милиционер. Мне бы, дерзни я сказать такое, влепили десять лет по статье 58. Контрреволюция. И еще с лишением прав на пять лет. А им хоть бы хны.
Они вывели своих в стельку пьяных жен на балкон, усадили в ряд на корточки, задрали юбки на головы, а трусов ни на одной из них и так уже не было. Затем скомандовали мочиться – какая пустит струю дальше других.
В квартире было два балкона, и сначала бабы расселись на том, что выходит на улицу Ленина. Но замполит капитан Медокин, не терявший политического чутья даже во хмелю, сказал, что это не совсем правильно – мочиться на улицу, носящую имя великого вождя. Милиционеры спорить с ним не стали и, ухватив под мышки своих грузных жен, волоком потащили голозадое мясо на балкон, выходящий во двор, и там поставили их в боевую позицию, то есть водрузили опять на корточки.
Я – не монах. И, как и Карлу Марксу, ничто человеческое мне не чуждо. Отнюдь! Но к этому самому я отношусь с уважением и не терплю бесстыжих баб. Я начисто лишаюсь мужских достоинств, когда попадаю в лапы такой особе.
Меня тошнит, когда баба берет инициативу в свои руки и командует мужчиной, как и что ему делать, чтоб ее ненасытность утолить. И я готов завыть в голос, когда баба делает это все на людях, нарочно показывая, что не знает стыда.
Сейчас по всему миру стало модным целоваться там, где побольше людей вокруг, лизаться, сосаться всенародно до оргазма. Я это видел в Европе и Америке на каждом шагу. В метро усидеть невозможно – обязательно напротив тебя какая-нибудь прыщавая пара влепится губами друг в дружку, закатит глаза и давай высасывать пломбы из зубов. Жуть! Поглядев на них, можно стать импотентом на всю жизнь. Эти бесстыжие суки чаще всего такие страхолюдины, что будь я не парикмахер, а фармацевт, то рекомендовал бы высушить такую пару, истолочь в порошок и принимать перед совокуплением как противозачаточное средство. Да!
Но вернемся к балкону майора Губы, где три украинские грации с голыми задами сидит на корточках, подпираемые, чтоб не свалились, своими мужьями в милицейских мундирах, и старательно мочатся через ажурную решетку в темный двор.
Все было ничего, пока майор Губа не решил осуществить на практике идею своего заместителя по политчасти капитана Медокина.
– А ну, Еврей Иванович, – обратился ко мне майор, – доставай свое обрезанное хозяйство и покажи дамам. Пусть пощупают и убедятся, что оно ничем не лучше нашего.
Я послал его вместе с дамами подальше.
Это милиционерам не понравилось.
– Отказываешься? Брезгуешь нашей компанией? Хочешь быть умнее всех? А ну, вызвать наряд милиции и взять под стражу!
Они не шутили. Позвонили по телефону, явилась куча милиционеров, заломили мне руки, увезли в участок и бросили в камеру.
Это было полнейшим беззаконием, но они сами закон в этом городе, и потому моя песенка была спета. Меня обвинили в попытке всучить майору Губе взятку. Свидетелями были капитан Медокин и Криниця, а также их жены. Припаяли мне два года исправительно-трудовых лагерей, и адвокат клялся потом, что я еще дешево отделался, так как майор Губа проявил снисходительность и снял второе обвинение: попытку изнасиловать его жену.
Так я стал заключенным. Сроком на два года. В тайге. На лесоповале. Мы там мерзли, голодали и работали, как на галерах, поставляя кубометры древесины для великих строек коммунизма.
Мои нежные, мягкие руки мастера-парикмахера на глазах грубели, деревенели, покрываясь мозолями, и я видел, что еще немного – и я уж никогда не смогу вернуться к своей профессии. Об этом мне сказал один знаменитый пианист, тоже заключенный, мой напарник по лучковой пиле:
– Дорогой маэстро Рубинчик, и у вас, и меня руки – это наш инструмент, наша единственная драгоценность. Так вот, должен вас огорчить, они безвозвратно испорчены. Нам грозит профессиональная смерть.
Я не хотел умирать ни профессионально, ни как-нибудь по-другому. Я решил драться за спасение моих рук.
Все мои обращения к начальству с просьбой использовать меня по назначению, по профессии, и спасти руки от гибели, вызвали только насмешки конвоя и повышение нормы на лесоповале. И тогда я обратился к не раз испытанному, всегда безотказному средству. Шерше ля фам, как с большим знанием дела определили это средство французы. Спасти меня могли только бабы. Отзывчивые, добрые русские бабы. Конечно, вольнонаемные. Жены офицерского состава лагерной охраны, тоскующие в этой глуши из-за непристойной, но денежной профессии мужей.
Библиотекарем в КВЧ – культурно-воспитательной части – работала Антонина Семеновна – жена начальника лагеря. Я стал самым заядлым читателем и вечерами до отбоя рылся в библиотеке, в журнальном хламе, среди толстых подшивок, пока не нашел тот старый номер, где был напечатан мой портрет и статья обо мне – призере всеукраинского конкурса мастеров дамских причесок. Подсунул журнал Антонине Семеновне. Она прочла, глазам не поверила.
– Так это вы, гражданин Рубинчик? Не может быть! Господи, что ж это делается? Мы тут, в этой дыре, ходим халдами, дуры дурами, а такой мастер, такой виртуоз своего дела, ворочает бревна, вместо того, чтоб наводить красоту на жен офицерского состава. Ну и покажу я своему дуролому!
Она имела в виду своего супруга – начальника лагеря.
Дальше – как в сказке. Меня немедленно сняли с лесных работ. Дали усиленное питание, разрешили бесконвойный выход за зону. Привезли инструмент, и я стал обслуживать на дому всех жен офицерского состава.
Что я могу вам сказать? Я ненавидел людей, одетых в эту форму. Они напоминали мне майора Губу. И я мстил им, как мог.
А мог я вот что. Я приходил с саквояжем с инструментами к моим клиенткам домой, когда мужьям полагалось быть на службе. Женщины ко мне привязались. Любая благоволит к тому, кто делает ее красивой. Парикмахеров и гинекологов не стесняются. Я стал житье ними со всеми, без исключения. От жен младших лейтенантов до Антонины Семеновны. Я похудел и осунулся, хуже, чем на лесоповале, хотя кормили они меня на убой, и каждая совала мне в карман, когда я уходил, самые вкусные куски от обеда, предназначенного супругу.
Скажу не хвастаясь, что вся женская половина семей офицерского состава души во мне не чаяла, я же испытывал жестокое наслаждение, когда валялся в сапогах на семейном ложе моих врагов, доводил офицерш до истерики и каждую заставлял поносить при мне своего мужа самыми непотребными словами. Они, как преданные рабыни, с упоением поливали помоями своих мужей и славили меня как первого настоящего мужчину в их однообразной жизни.
Чего мне было еще желать? Было чего. Досрочного освобождения. Я смертельно устал от этих баб. Я изнемогал в клетке. Я рвался на волю. Хотя воля и неволя у нас в стране понятия относительные.
И опять помогли бабы. Помимо своего желания. Мужья, эти долдоны в мундирах, стали прощупывать под форменными фуражками явные признаки рогов. Распри пошли внутри семей. Каждая из баб пригрозила своему охламону, что если меня сплавят в другой лагерь, то она потребует развода.
Мужья, не сговариваясь, нашли выход из положения. Именно тот, о котором я мечтал. На меня были составлены самые похвальные характеристики, посланы куда следует, и я оглянуться не успел, как прибыло распоряжение о моем досрочном освобождении. За примерное поведение и отличную ударную работу. Так черным по белому было написано в приказе.
Я убрался из лагеря, даже не сказав «прощай» ни одной из своих наложниц. На память им остались столичные прически. Но сколько держится прическа? Ну, месяц, от силы два. Если не мыть головы. Сказать вам откровенно? Я льщу себя надеждой, что они меня помнят дольше. Как мужчину. Не как парикмахера.
Вот вам истории про баб. И не так уж смешные, а больше грустные. Но плохое забываемся, и только хорошее приходит на память. Поэтому я улыбаюсь, и вы улыбаетесь.
В Израиле каждого еврея, отсидевшего в советских лагерях, называют узник Сиона. И платят неплохую пенсию за то, что человек пострадал за свои сионистские идеалы.
Хотели оформить на пенсию и меня, но я их послал к чёрту. Какой я узник Сиона? За какой это сионизм я страдал? Я честный человек и не люблю примазываться к чужой славе. Мне хватит моей.
Когда я отказался от этой чести и от денег, евреи подумали, что я немножко того… малахольный. А я рассмеялся в ответ невесело. Потому что на этой земле совсем забыли, что кое у кого сохранилась хоть капля совести.
Над Атлантическим океаном.
Высота – 30 600 футов.
Россия… Родина… Родимая сторонка…
Если верить книгам и кино, то русский человек, или, вернее, советский человек, где-нибудь на чужбине, в ужасной тоске или на смертном ложе, в последний сознательный миг непременно увидит белые березки, качающиеся на ветру, и это ему напомнит обожаемую родину.
Я еще не умирал всерьез и ни один миг не посчитал за последний, поэтому предсмертных воспоминаний у меня нет. Но я не раз, а очень даже часто болел ностальгией, тоской по родине, страдал как одержимый, и много раз мысленно возвращался домой.
Вы думаете, в таких случаях перед моим умственным взором проплывали в хороводе белые березки? Поверьте мне, ни разу. Ни березы, ни осины, ни даже чахлые зеленые насаждения на проспекте Мира в Москве.
Для меня символ России был в другом, и этот символ каждый раз и очень отчетливо всплывал в моей памяти в натуральном объеме и даже сохраняя свой кирпичный цвет лица. Через ностальгическую муть пробивалось и возникало как образ Родины одно и то же видение: лицо парторга нашего комбината обслуживания Капитолины Андреевны – с выщипанными бровями и маленькими поросячьими глазками. С двумя подбородками (сейчас, надеюсь, появился и третий). С дешевыми чешскими клипсами в ушах.
Добрейшая Капитолина Андреевна. Матушка-заступница, но и строго взыскующая с нерадивых. Бог московских парикмахеров. Вернее, богиня. Простая русская баба, имевшая несчастье пойти на выдвижение и потому оставшаяся соломенной вдовой. Муж от нее сбежал, по слухам, не выдержав начальственных ноток в ее голосе и казенных цитат, почерпнутых из партийных газет, которые полностью заменили ей русский язык. Тот самый великий и могучий, который, по меткому наблюдению одного классика, совмещает в себе и прелесть гишпанского, и крепость немецкого, и певучесть итальянского, и даже кое-что из языка идиш. Последнего, кажется, классик не учел.
Великий пролетарский писатель Максим Горький особо достойных людей величал так: Человек с большой буквы. Принимая за основу такую оценку, я бы нашего парторга Капитолину Андреевну определил бы так: женщина с большой «Ж». В этом была бы и дань уважения к ней как фигуре большого масштаба, и в то же время рисовался бы объемно и в натуральную величину ее правдивый портрет.
У меня нет оснований жаловаться на Капитолину Андреевну. Я не имею к ней претензий. Наоборот. Если я столько лет работал в такой привилегированной парикмахерской, в самом центре Москвы, и не потерял своего места при самых страшных кампаниях по выявлению безродных космополитов, ротозеев, низкопоклонников перед Западом, то это только благодаря заботе Капитолины Андреевны, благодаря любящему глазу, который она положила на меня. Глазу, конечно, отнюдь не материнскому.
У Капитолины Андреевны была слабость. По торжественным дням – Первого мая, Седьмого ноября, в Женский день и в День Парижской коммуны – на вечера нашего комбината приглашались все парикмахеры и парикмахерши без своих половин, то есть без жен и мужей, потому что Капитолина Андреевна ведь тоже приходила одна. После третьей, а иногда четвертой рюмки она непременно пускала слезу и, громко всхлипывая, сокрушалась, что Сталина больше нет, а труп любимого вождя и корифея выброшен из мавзолея, и от этого все неполадки в стране, неуважение к начальству и отсутствие трудовой дисциплины.
Парикмахеры и парикмахерши, тоже ведь после третьей рюмки, утешали Капитолину Андреевну, обмахивали салфетками ее зареванное доброе лицо и клялись крепить трудовую дисциплину и не подводить своего парторга в социалистическом соревновании предприятий бытового обслуживания.
После пятой рюмки в ее глазах появлялся хищный блеск. Я сразу съеживался и с надеждой косился на дверь: авось, успею удрать. Но обычно не успевал.
– Товарищ Рубинчик, – с металлом в голосе извлекала меня, куда бы я ни прятался, Капитолина Андреевна. – К тебе есть разговор. Поднимись ко мне наверх.
Торжественные вечера у нас обычно проходили в зале заседаний нашего комбината. Партбюро располагалось этажом выше. Указание Капитолины Андреевны означало, что я должен идти туда. Зачем? Об этом знал только я. Другие, возможно, догадывались, но делали вид, что ничего не знают и знать не хотят. Это было в их интересах. Пусть Рубинчик отдувается за весь коллектив.
Капитолина Андреевна грузной походкой раздобревшей и уже в летах женщины поднималась к себе в партбюро, своим ключом отпирала обитую дерматином дверь и держала ее открытой, пока не появлялся я.
Затем она запирала дверь на ключ и на засов, ключ прятала в сумочку и устремляла на меня тяжелый взгляд, означавший: теперь, голубчик, ты никуда не денешься, и будем надеяться, оправдаешь доверие своего парторга.
В кабинете стояли письменный стол и стол для заседаний, оба крытые зеленым сукном. Все остальное было черным. И обивка стульев, и кресел, и большой мягкий диван. С этим гармонировал строгий костюм партийной дамы, который в обтяжку, со скрипом, сидел на упитанных телесах Капитолины Андреевны. И туфли, и юбка, и полу мужской пиджак, и слегка игривый бантик на складках шеи были черными. Кроме белой кофточки. Да еще светлых кос, которые она заплетала по моде времен своей молодости и складывала их в три венца на макушке.
Капитолина Андреевна какое-то время задумчиво стояла, опершись рукой на несгораемый шкаф с партийными документами на фоне растянутого на стене переходящего красного знамени, завоеванного нашим комбинатом уж не помню, в каком соревновании. Помню только, что на знамени золотом было вышито: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – и в данной ситуации это имело не совсем тот смысл, который в него вкладывали основоположники научного марксизма.
– Долго будем стоять? – спрашивала Капитолина Андреевна. – Хочешь унизить женщину?
И без рук, не наклоняясь, скребя носком одной туфли по заднику другой, сбрасывала их с ног, отпихивала под стол и с наслаждением шевелила затекшими в тесной обуви пальцами. Точь-в-точь, как деревенская девка, вернувшись с танцев.
Это был тот случай во взаимоотношениях с женщинами, который я терпеть не могу, но был вынужден подчиняться, чтоб не лишиться покровителя и не остаться без защиты в нужный момент. Наш парторг была из тех баб, которые берут всю инициативу в свои руки и даже в постели командуют мужчиной как своим подчиненным.
Весом она превосходила меня втрое, да и по габаритам была та же пропорция. Как утлый челнок на высоких волнах, качался я, задыхаясь в объятиях Капитолины Андреевны, порой взлетая под самую люстру, без особой уверенности, что приземлюсь на что-нибудь мягкое, а не на пол. При этом я безостановочно получал страстные, взахлеб, директивы:
– Так, Рубинчик! Так, негодник! Вперед, вперед! Не останавливайся на полпути! Дальше! Дальше! Вперед и выше! Так! Еще немного! Поднажмем! Подналяжем! Совместными усилиями! Как один человек! Хорошо, Рубинчик… Молодец, негодник. Ублажил, стервец. Дай дух перевести.
Я был скован по рукам и ногам, потому что терпеть не могу при этом самом деле иметь свидетелей. Я застенчив по своей натуре и считаю это не самым худшим качеством. Электричества Капитолина Андреевна не выключала специально, чтоб по темным окнам и отсутствию светлой полоски из-под двери народ, видевший, куда мы уходим, не подумал, что мы занимаемся черт знает чем. На меня со стен осуждающе смотрели из дубовых рам портреты руководителей партии и правительства, и это, клянусь вам, очень стесняло меня.
Какое уж удовольствие мог я получить от этой связи, вы можете себе представить. Быть бы живу. Подобру-поздорову ноги унести. Зато Капитолина Андреевна получала полное удовлетворение, и как человек добрейшей и доверчивой души не скрывала этого.
Привалившись к спинке дивана, она бережно держала меня, как ребеночка, на коленях, так что голова моя совсем зарывалась в ее груди, и чуть не причитала от избытка чувств:
– Ну, Рубинчик, ну, пострел. Ухайдакал бабу. Еще немного, и совсем бы в гроб загнал. Откуда в тебе такое? Не зря говорит народ: малое дерево в сук растет. Да ты, смотри, не возгордись! Будь самокритичен. Не останавливайся на достигнутом, совершенствуй свое мастерство.
И с такой бабьей неистовостью прижимала меня к себе, что я до половины влипал в ее мягкое тело.
– В партию бы тебя, сукина сына, принять, – ворковала она. – Да не моя воля. Нынче строго насчет вашего брата… Нельзя засорять ряды.
Теперь вы понимаете, что я жил, как у Бога за пазухой, пока наш парторг нуждалась в моих услугах. Я мог работать налево, вечерами, обслуживать клиентов на дому, как я это делал в кооперативных домах работников искусств у станции метро «Аэропорт», зажимать часть выручки в нашей гостиничной парикмахерской, одним словом – жить по-человечески, и всегда был уверен, что Капитолина Андреевна, если сможет, выручит. Как от сына отведет беду.
Ее любовь ко мне выразилась в высочайшем доверии, оказанном советскому человеку. Получив указание свыше: подобрать нужного человека из нашего коллектива, она, конечно, остановила свой выбор на мне. Мы обслуживали интуристов, и в неких органах хотели знать, о чем болтают зарубежные гости, сидя в очереди к парикмахеру. Что для этого нужно? Чтоб парикмахер хоть немножко кумекал по-ихнему, знал иностранный язык. Таких парикмахеров нет. Их надо готовить. На каждую парикмахерскую дали разнарядку выделить одного человека для прохождения ускоренного курса английского языка. От нашего коллектива парторг рекомендовала, естественно, меня, как человека политически зрелого и вполне заслуживающего высокого партийного доверия. И попала, конечно, пальцем в небо. Потому что мне совсем не улыбалась перспектива сотрудничать с некими органами, и в своей жизни я писал все, за исключением стихов и доносов. И не хотел менять этой привычки. Не хотел становиться стукачом.
Сказать об этом Капитолине Андреевне – значило нажить себе врага в ее лице и попасть в черный список со всеми вытекающими последствиями. Надо было устроить обходной маневр. Довести их до того, чтобы они сами от меня отказались.
Меня записали на ускоренные курсы английского. За счет профсоюзов. Курсы эти были сверхсовременными, по последнему методу, и это очень мне помогло.
Нас учили без педагогов и без отрыва от производства. Учили после работы, по ночам, во сне. Мы засыпали на специальных кроватях с казенным бельем, с наушниками на голове, а от них тянулись провода к магнитофонам с долгоиграющими кассетами. Мы спали, а мужской и женский голоса нашептывали нам всю ночь английские тексты. На разные житейские темы. Считалось, по последним данным науки, что таким методом значительно легче и быстрее усваивается новый язык.
Через неделю со мной попытались заговорить по-английски экзаменаторы в штатском! В присутствии Капитолины Андреевны. В комнате партбюро с тем самым черным диваном и гипсовым Лениным.
Тут я должен сделать оговорку. Русский – это единственный язык, которым я владею. Язык моих предков – идиш – я не знаю и помню из своего детства, что на него переходили мои родители и бабушка исключительно в тех случаях, когда хотели, чтоб я не мог подслушать их разговор.
Ночная учеба, вкрадчивые голоса, нашептывавшие мне во сне что-то на незнакомом языке, вызвали в моем мозгу странную реакцию. Из глубин, из недр памяти, словно освобожденные из темницы, всплыли в ответ запасы слов на языке идиш, заложенные в детстве бабушкой и родителями. Моим экзаменаторам я отвечал на чистейшем идиш и при этом был абсолютно уверен, что говорю по-английски.
Со мной бились два часа и ничего не добились – я говорил сплошь на идиш, даже с бабушкиными интонациями. Экзаменаторы в штатском сдались, и один из них, уходя, сказал огорченной Капитолине Андреевне, что меня не мешало бы показать специалистам-медикам и хорошенько исследовать этот феномен. Сказал он это таким тоном, что у меня засосало под ложечкой, и еще долго потом я все ждал, что за мной явятся ночью и уведут к исследователям с Лубянки.
Но все обошлось. Возможно, Капитолина Андреевна замолвила за меня словечко. Она не изменила своего благосклонного отношения ко мне. Слова на идиш, так удачно пришедшие мне на помощь, покрутились в моей голове и, за отсутствием практики, вновь погрузились в темницу памяти до лучших времен.
А что касается английских слов, которые мне нашептывали во сне дикторы, то они не исчезли бесследно, а зацепились в каком-то уголке моих извилин, и когда я приехал в Америку, то с ходу заговорил довольно бойко глупейшими фразами моих бессонных механических учителей.
Действительно, феномен. И скажу я вам, что какой-нибудь ловкий малый из полумедиков и полулингвистов мог бы сделать на этом кандидатскую диссертацию, а мне поставить бутылку хорошего коньячку за материал для научной работы.
Вы себе можете представить, что сделалось с Капитолиной Андреевной, когда я захотел уехать в Израиль? Она сочла это двойной изменой – изменой Родине и изменой ей лично. Но я готов ей все простить за ее ответ на мою просьбу дать мне характеристику, требуемую для оформления выезда в Израиль.
Добрейшая Капитолина Андреевна, не знавшая ничего другого, кроме казенных партийных формулировок, и мыслившая по готовым стандартам, не поняла сущности моей просьбы. До того она оформляла характеристики для туристских поездок за границу, но с человеком, уезжающим из СССР навсегда, она сталкивалась впервые.
– Хорошо, Рубинчик, – сказала она, не глядя мне в лицо. – Получишь характеристику. Соберем коллектив, обсудим.
– Зачем собирать? – удивился я. – Чего обсуждать? Это же формальность. Кому нужна там, в Израиле, ваша характеристика?
– Ты так думаешь? – вскинула выщипанные бровки Капитолина Андреевна. – А вот для чего нужно собрание, товарищ Рубинчик. Поговорим с народом, может, люди выдвинут более достойную кандидатуру.
Милейшая Капитолина Андреевна! В ее партийных мозгах не укладывалось, что возможна поездка из СССР за рубеж в один конец – без возврата, и для этого не обязательно иметь большие заслуги перед советским народом.
Она дала мне характеристику без лишних проволочек и тем самым сэкономила уйму нервной энергии, которую затратили другие евреи, выклянчивая никому, в сущности, не нужную бумажку. Она даже пожала мне руку на прощанье в своем кабинете у самых дверей, поцеловала, словно укусила, и совсем по-бабьи сказала вслед:
– Подлый изменщик.
Так могу ли я видеть белые березки, мысленно обращаясь к Родине? Конечно, нет.