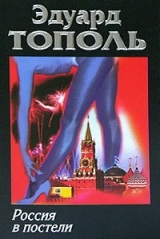
Текст книги "Россия в постели"
Автор книги: Эдуард Тополь
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Они пришли с грохотом весеннего грома, ярым шумом дождя за окном и бешеным ветром, от которого шатались деревья.
Уже непонятно было – то ли вечер, то ли сразу ночь, но только казалось, что наш деревянный коттедж одиноко плывет в ожесточенной буре. Сумасшедший дождь атакует крышу, молнии раскалывают землю, а гром сотрясает мир прямо за окнами.
Я постучался к ней, к Марине, и сказал:
– Слушайте, вы все равно не спите, а у меня есть коньяк. В такую бурю коньяк – лучшее средство.
– Но я боюсь зажечь свет… – донеслось из-за двери. – И я уже в постели.
– Ну и лежите. Все равно мой ключ подходит к вашей двери. Я сам открою.
И я своим ключом открыл ее дверь и вошел к ней с коньяком.
В полумраке комнаты, освещенной только очередной вспышкой молнии, я увидел в углу, на кровати, узкое, как стилет, укрытое одеялом тело и испуганные зеленые глаза на белом лице. Она мгновенно оценила ситуацию – она запирала свою дверь каждую ночь, а, оказывается, я мог войти к ней в любую минуту среди любой ночи.
Но, до чего же благородный человек! – не воспользовался этим, хотя все это время мы были только вдвоем в коттедже.
Мы стали пить коньяк, болтая о чем-то, я отворил окно в парк, и теперь шум дождя, запахи мокрой земли, шелест деревьев и грохот грома заполнили комнату, и она закутавшись в одеяло, сидела на постели, и ее зеленые глаза мерцали при свете молний. При каждом новом раскате грома она испуганно куталась в одеяло и просила: «Закройте окно, я боюсь, Андрей!»
Я закрыл окно, подошел к ней вплотную и нагнулся, чтобы поцеловать.
– Нет! – сказала она, почти вскрикнув. – Нет!
Я обнял ее. Ее худые руки ожесточенно выставили локотки, сопротивляясь моему объятию, но в этом ожесточении было чуть-чуть больше энергии, чем это нужно для холодной решимости отчуждения, это было только как вскрик самозащиты, тут же и ослабевший.
Очередной сумасшедший удар грома заставил ее испуганно вздрогнуть и инстинктивно прижаться ко мне. Казалось, сама природа, все раскалывающееся от грозы мироздание подыгрывала мне в моей игре.
Впрочем, играл ли я?
Боюсь, что я уже не только играл влюбленность, но и был влюблен в эти зеленые глаза…
Сумасшедший поцелуй, останавливающий дыхание, и еще несколько ударов грома, из-за которых она невольно все больше прижималась ко мне, уронили нас на постель.
– Нет, – шептала она. – Нет! Не смей! Никогда! Нет!
Но мои руки делали свое упрямое грубое дело, а губы уже добрались до ее груди.
У каждой женщины есть определенное место, которое она защищает сильней всего остального, у большинства наших женщин это – трусики. Вы можете раздеть их догола, зацеловать допьяна, но вот снять трусики – это подчас немыслимая проблема, они ухватывают их руками, скрещивают ноги мертвой хваткой, барахтаются, но если вам все-таки удалось снять или просто разорвать трусики – все, женщина обмякает и сдается и даже сама раздвигает ноги в позу первой готовности.
Марина защищала сначала грудь, потом трусики, а потом с тем же неистовством не разрешала моему Брату протиснуться в ее скрещенные ноги.
Гремел гром, молнии рвались в окно, майская гроза атаковала землю с таким же темпераментом, как я атаковал Марину, или – наоборот – я атаковал Марину с темпераментом майской грозы и грома. Она не сдавалась. Ее узкое тело извивалось подо мной, выламывалось в моих руках, возбуждая меня все больше.
Какая там к черту французская любовь! Я просто раскалывал ее скрещенные ноги своими ногами, и, наконец, с очередным ударом грома мой Братан самым бандитским, грубым, яростным толчком прорвался в заветную узкую штольню и тут же продвинулся в глубину, до конца.
Марина охнула у меня в руках, опустошенно расслабилась и… заплакала.
Уже не сопротивляясь, безвольно-податливая, она открыто лежала теперь подо мной, и ее зеленые глаза истекали слезами, а узкая, теплая щель ее Младшей Сестры обнимала моего Брата.
Я поднялся над ней на руках. Узкое, как у змейки, тело, с маленькой грудью, хрупкими плечами, с головой, безвольно отвернувшейся набок, покоренное, но еще не завоеванное, осветилось подо мной вспышкой молнии.
Я стал ласково и нежно целовать ее – так нежно, будто в самый первый раз, словно и не был уже в ней мой член. Я целовал ее плечи, шею, грудь, лицо, губы, мои руки гладили ее волосы, и снова мягким касанием губ я кружил по ее плечам и наконец почувствовал, как тихо шевельнулась ее рука – только шевельнулась рука на постели.
Мой Брат осторожно, чутко, будто украдкой выходил из нее – но не до конца, а только до головки, а потом так же медленно, как бы ползком, вдвигался в нее, и эти замедленно-мягкие движения разбудили, наконец, ее, и я почувствовал смазку. Теперь я мог делать с ней что хотел.
Я лег на нее, обнял ее ноги руками, подтянул кверху и закинул их к себе на плечи. Так распахнув ее ноги до упора, я уже до самого корня, до мошонки всаживал в нее Брата, и он уходил вертикально вниз по этой теплой узкой штольне, а потом медленно выбирался вверх, и снова – вниз.
Ее тело начало оживать. Сначала шевельнулись ягодицы, да – маленькие белые ягодицы вдруг шевельнулись – еще не в такт моему движению, еще не подмахивая мне, но просто ожили, шевельнулись, а потом при вспышке молнии вдруг распахнулись зеленые глаза и взглянули на меня с немым вопросом.
Я остановился, нагнулся к этим глазам и мягко поцеловал их, а она вдруг обняла меня двумя узкими прохладными руками.
И тут какая-то сумасшедшая волна любви, искренней нежности и даже жалости нахлынула на мое сердце. Я полюбил это завоеванное узкое, как ножницы, тело, эту тонкую шею, этого взрослого ребенка. И тихим, мягким движением перевел ее сначала на бок и дальше – на себя. И теперь беззащитно голая, хрупкая, тонкая, с лицом еще мокрым от слез, она сидела на мне, на моих чреслах, на столпе моего вертикально торчащего Брата.
И – верите или нет, друзья – она не знала что ей делать!
Женщина, только что прилетевшая из Франции, русская женщина, год прожившая в Париже, жена известного актера, оказалась необразованной, как тринадцатилетняя девчонка.
О, наши русские женщины! Провести год в Париже и не переспать с десятком французов, да что там с десятком – хоть бы с одним! – это не укладывалось в моей голове, я не верил этому.
Я обнял ее ягодицы ладонями и приподнял на моем Братце до верха, а потом, указательными пальцами нажимая ей на бедра, повел ее вниз до конца, а потом – снова медленно вверх, и опять – вниз. Ее легкое тело было удивительно послушным, ее тонкие руки упирались мне в плечи, а ноги обнимали мои бедра, и я любовно-нежно, томительно-осторожно стал обучать ее азам половой гимнастики.
Нужно сказать, что это было замечательно нетрудно. В ней было килограммов пятьдесят, не больше, она вся была просто одним маленьким влагалищем, узким и теплым, а весь остальной ее вес был только обрамлением этой теплой глубокой штольни.
Это невесомое, прохладное, узкое тело можно было вертеть на Брате, изламывать, поднимать без усилий на ладонях, держать на весу, дразня себя и ее, а потом одним движением обрушить на себя и войти в нее без остатка.
Да, она была восхитительно сексуальна, она была создана для секса, но не подозревала об этом, ничего не умела, и теперь к удовольствию секса присоединилось удовольствие от учебы.
Я вертел ее на своем Брате, я сажал ее на колени, разворачивал к себе спиной, я обрушил на нее целый каскад разламывающих ее ноги и тело приемов и наконец просто встал в полный рост. Дождь продолжал хлестать по крыше, по веткам деревьев, молнии зелеными сполохами освещали нашу комнату, и при этом коротком свете, в грохоте грома, она обнимала меня за шею, а я держал свои руки замком под ее коленями, поднимая и опуская на своем Брате, всаживая его до конца, до остатка.
Мы занимались этим всю ночь.
Уже стихла майская гроза, и деревья уронили дождевую воду на землю, уже проснулись птицы, и соловьи защелкали навстречу поднимающемуся солнцу, уже повариха прошла за окном в столовую, а я все не мог оторваться от этого хрупкого, узкого, вновь и вновь возбуждающего меня тела.
Бледная, худенькая, с зелеными глазами, увеличившимися от шести или восьми оргазмов, покорная, лежала Марина на постели рядом со мной, но я не чувствовал усталости. Стоило мне прикоснуться к ней, провести рукой по ее прохладным плечам и теплым комочкам груди, как мой Младший Брат возрастал с новой силой, и я опять легко поднимал на себе невесомое, хрупкое тело и в который раз – в десятый, наверно, – мой ненасытный упрямец раздвигал узкую теплую щель.
На рассвете она сказала, что ненавидит меня и себя и немедленно уезжает.,
И тут же устало уснула.
Днем мы спали.
Отдыхающие театральные шакалы, скаля свои похотливые прокуренные зубы, кружили вокруг нашего коттеджа в надежде прорваться в нашу крепость и унести мою добычу в свои комнаты.
Во время обеда или ужина за нами следили десятки любопытных глаз, и кто-нибудь обязательно прилипал к ней, заводил разговор, предлагал прогулки, компании, выпивки, поездки в загородный ресторан, но я никак не реагировал, на людях мы продолжали быть с ней на «вы» – холодные, не интересующиеся друг другом соседи.
Но ночью…
Я плотно закрывал все окна и двери коттеджа, задергивал шторы, изо всех комнат приносил в одну комнату все постели, стелил на полу, и получалась обширная, пять квадратных метров арена. Потом я шел в ее комнату, и, вновь преодолевая ее короткое, со слезами, сопротивление, поднимал ее на руки и нес на эту арену свою добычу.
Она все не могла смириться с тем, что изменила мужу, и каждое утро умоляла меня прекратить наши ночные встречи, забыть о них и грозилась уехать в тот же день. Смеясь, я соглашался, говорил, что – все, конечно же, это была последняя ночь, что мы с ней снова на «вы» и вообще ничего не было, завтра я вызываю к себе другую девочку.
Но проходил день, наступала ночь, и снова я швырял на эту широкую, на полу, постель хрупкое прохладное тело, зеленые бешеные от ненависти глаза.
Да, она ненавидела меня, ненавидела за то, что я почти изнасиловал ее в первую ночь и собираюсь насиловать снова, но эта ее ненависть только распаляла меня, и я, почти рыча, набрасывался на нее, и, ломая сопротивление скрещенных ног, с первозданной силой вламывался в ее тело.
А через двадцать минут, покорившись судьбе и похоти, она уже взлетала над моим Братом и легкая, хрупко-тонкая, сексапильная до обморока, извивалась на нем, трепеща от возбуждения. А я неистовствовал. Это бестелесное звонко-хрупкое тельце возбуждало меня даже тогда, когда я был в нем, даже когда мой Брат уходил в нее целиком, я чувствовал, что еще какие-то внутренние силы похоти выпирают меня из моего тела и переводят это тело в мой член. У меня было такое чувство, будто мне не хватает моего члена, не хватает потому, что я не достаю им от ее щели до ее глаз. Мне ужасно хотелось совершить немыслимое – войти в нее всем своим телом, пронзить ее до горла и в таком положении вертеть ее на себе, как на шампуре.
И я разламывал над собой ее тонкие ноги, я ставил ее на четвереньки, я укладывал ее на письменный стол, перебрасывал ее тело через спинку мягкого кресла, катал по полу, снова перебрасывал на кровать и седлал ее с хищным неистовством дикого зверя, и при этом еще открывал шторы на окнах, чтобы при лунном свете видеть ее зеленые мерцающие глаза.
Часа через полтора усталый, но не обессилевший, я лежал рядом с ней, пил коньяк, держа рюмку на ее узком плечике, но стоило мне прикоснуться к ней даже нечаянно, прикоснуться хотя бы к ее руке, как какая-то новая сумасшедшая сила бросала всю мою кровь вниз живота, к Младшему Брату, и он подскакивал, как солдат по боевой тревоге. Отлетал в сторону коньяк, мои руки поднимали ее узкие бедра и опять ее почти невесомое тело беззвучно взвивалось и разламывалось…
В шесть утра властный громкий стук в окно заставил нас обоих вздрогнуть.
– Муж! – Она метнулась в свою комнату, а я, наспех одевшись и прикидываясь полусонным, пошел открывать дверь, в которую продолжали стучать милицейским стуком.
Но это был не муж, это был почтальон. Срочной телеграммой меня вызывали в Прибалтику, в Ригу. Я дал этому кретину рубль за доставку и вернулся в ее комнату.
Я застал ее в холодной истерике, она судорожно швыряла свои вещи в распахнутый чемодан.
– Что происходит? Это всего-навсего телеграмма. Меня вызывают в Ригу на несколько дней…
Она не отвечала. Она нашвыряла полный чемодан платьев и джинсов, кофточек и блузок и пробовала закрыть его, но он не закрывался, он был переполнен.
– Марина, это глупо. Я вернусь, я тебе обещаю.
– Можешь не возвращаться. Меня здесь уже не будет. Уйди отсюда!
В ее глазах и голосе было столько холодной ненависти, что я просто повернулся и вышел.
Через несколько минут, собрав свою дорожную сумку, я постучал в ее дверь. Ответа не было, дверь была заперта изнутри.
Я сказал:
– Я иду на станцию, могу поднести твой чемодан. Ты слышишь?
– Не нужно, – донеслось из-за двери. – Доберусь сама.
– Как хочешь. В Риге я буду в гостинице «Рига», можешь мне позвонить.
Ответом было презрительное молчание.
Я подхватил на плечо свою сумку и в ожесточении зашагал на станцию. Через три часа я уже был в Риге и окунулся в телевизионные хлопоты. Действительно, предстояла сложнейшая ночная съемка, известные актеры слетались к нам в Ригу на одну ночь – с наступлением лета все хорошие актеры нарасхват, снимаются в разных картинах в разных концах страны, и свести их вместе для одной большой сцены – редкая удача. Директор телефильма один не справлялся, меня вызвали из отпуска, и я с головой окунулся в хлопоты и не сразу понял, что за телеграмму подсунул мне на площадке ассистент режиссера.
В телеграмме было всего три слова: «Люблю. Жду. Целую».
Без подписи. И только место отправления телеграммы – «Руза, Московская обл.» – подсказало мне, что это – от Марины.
Всю ночь я проработал как сумасшедший, а в четыре утра, когда мы кончили съемку, я вместе с актерами поехал на аэродром и первым же самолетом вылетел в Москву.
В семь утра с букетом цветов в руках я вошел в свой коттедж, своим ключом открыл ее дверь и застал ее сонную, изумленную, радостно потянувшуюся ко мне всем телом.
Глава VIII
Как ломаются целки
Ну, что за милые девчонки,
Примерно лет так десяти,
Как не пробились волосенки
Еще… Ах, мать из разъести!
Г. Державин
Но скоро страх ее исчез…
Заколыхались жарки груди…
Закрой глаза, творец небес!
Зажмите уши, добры люди!
М. Лермонтов. «Уланша»
О, эти крохотные, свежие, как нераскрытый бутон, нижние губы!
Розовые, покрытые чудным нежным пушком клиторы в лоне девичьих, еще детских ног!
Лукаво закрытое малюсенькое влагалище – еще и не влагалище вовсе, поскольку вложить туда еще – ничего нельзя, но зато как хочется!
В знаменитом черноморском пионерском лагере было две тысячи таких вот соблазнительно юных, стыдливо упрятанных, ожесточенно охраняемых и беспечно дразнящих девочек.
Они маршировали под громкий треск барабанов на пионерских линейках, уходили в туристические походы, загорали на пляжах, купались в море, играли в волейбол и теннис, уплетали фрукты в огромной столовой, пели вечерние песни у костров, целовались с молодыми пятнадцатилетними комсомольцами в темных аллеях парка и на ночных пляжах и опять маршировали мимо моих окон в пионерских галстуках, коротеньких шортах и маечках, под которыми дерзко выпирали крепкие молодые грудки.
Мы, творческая делегация Московского телевидения, были гостями лагеря, а я был администратором этой делегации.
Представьте себе: шесть километров золотистого песчаного пляжа вдоль теплого Черного моря и прилегающее к этому пляжу гористое побережье с вечнозеленым лесом отгорожены от всего остального мира. На этой территории разбиты парки, аллеи со скульптурами, стадион, площадки для тенниса, плавательный бассейн. Здесь же построен огромный Дворец космоса с макетами советских космических кораблей в их натуральную величину. Рядом, в трехстах метрах, – современное здание детского театра величиной с Большой театр. На крыше этого театра еще одна сцена, для летних эстрадных концертов. Артисты выступают здесь на фоне естественного пейзажа, открывающегося за сценой, – на фоне роскошной панорамы Черного моря.
А у самой воды, отделенные друг от друга зеленью парков, высятся белые шести – и семиэтажные здания – жилые корпуса для подростков. Они украшены цветными панно и мозаикой, изображающими радостный труд в стране Советов, полеты в космос и т. п.
Там за каменным забором – десятки тысяч курортников, наводняющих Черноморское побережье каждое лето, приходят на грязные каменные пляжи в шесть утра, чтобы занять место поближе к воде. Люди живут в палатках – без воды, без туалетов. Теснятся в комнатах у местных жителей, которые на лето превращают свои квартиры в общежития для приезжих и заселяют по десять-пятнадцать человек в одну комнату. Сдают под жилье даже чердаки, сараи, курятники. В столовых и ресторанах безумные очереди, нужно выстоять два-три часа под палящим солнцем, чтобы пообедать. В магазинах продукты расхватывают за первые два утренних часа, а на рынках цены умопомрачительные. От грязи, антисанитарии по этим курортам постоянно гуляют эпидемии дезинтерии, триппер и сифилис, а в 1970 году все Черноморское побережье было объявлено закрытой зоной из-за эпидемии холеры.
Короче говоря, не дай вам Бог попасть на эти «дикие» курорты не в роли иностранного туриста по классу «люкс», а в роля простого советского отдыхающего!…
Но едва вы, проехав по извилистой горной дороге над этими «дикими» пляжами, въезжаете через красивую проходную на территорию пионерского лагеря «Артек», все меняется волшебным образом. Тишина, прохлада, тенистые парки, фонтаны и фонтанчики, незамутненная бирюза Черного моря, пустынные золотистые пляжи, всплески детских голосов в аллеях.
Нашу делегацию разместили в маленькой, уютной, увитой плющом двухэтажной гостинице, и, конечно, у каждого был свой номер с балкончиком, выходящим на море. Работа у нас была, прямо скажем, «непыльная» – по вечерам мы выступали перед подростками, рассказывали о кино, театре, показывали свои фильмы и отвечали на вопросы. А днем лениво загорали на пляже, специально отведенном для почетных гостей. Вокруг нас шла веселая жизнь одного из самых привилегированных пионерских лагерей страны.
Среди трех с половиной тысяч находящихся в этом лагере подростков было, наверно, две тысячи девочек, из них, как минимум, тысяча – от четырнадцати до шестнадцати лет. Не нужно обладать большим воображением, чтобы представить себе это сонмище загорелых Лолит и нимфеток, которые резвились вокруг нас на пляже, визжали, заходя в море, играли в волейбол или загорали на горячем желтом песке.
Обнаженные, в узеньких трусиках и таких же узеньких полосках цветных лифчиков, под которыми дерзко выпирали молоденькие крепкие грудки. Процентов тридцать этих девочек вполне годились на обложки журналов «Fifteen» и «Seventeen» или в каталоги «Блумингдейла», и, Боже, какими волчьими глазами пожирали мы, взрослые, эту юную, сочную, свеженькую плоть!
Даже моя приятельница, известная тридцатилетняя актриса Валентина К., мечтательно и томно вздыхала, выделив среди полчища мальчишек стройного, загорелого, с темными глазами пятнадцатилетнего паренька.
Но подростки не обращали на нас особого внимания, взгляды всех девочек были направлены на лодки и катера спасателей, которые дежурили в море и иногда лихо подваливали к берегу, чтобы взять на борт двух-трех очередных девочек – покатать,
Ох уж эти спасатели!
Крепкие, дочерна загорелые, мускулистые двадцатилетние ребята круто знали свое дело. Спокойно-опытным взглядом они бесцеремонно выбирали в орде недозрелых девчонок то, что было почти спелое, налитое уже горячим соком, приглашали в лодку – да, собственно, и приглашать особо не нужно было, спелые девочки сами напрашивались, а потом катер, фыркнув мотором, делал крутой разворот у берега и брал курс в открытое море.
Катер! Морская прогулка!
Для какой-нибудь сибирской девчонки это было сногсшибательно – прямо как в американском кино! Да, волны сексуальности, юной похоти, проснувшейся чувственности двадцать четыре часа в сутки гуляли по тому берегу, где стояли коттеджи лагеря «Комсомольский», лагеря старшеклассников – 14-15-16-летних.
По вечерам в окрестном кустарнике слышался сдавленный шепот, быстрое дыхание, невольные короткие вскрики и расклеивающиеся звуки поцелуев-засосов.
Никакие турпоходы, военные тренировки, спортивные соревнования не могли ослабить этот напор чувственности – помню, старший пионервожатый говорил нам, что они, руководство лагеря, специально выдумывают самые тяжелые маршруты походов для старшеклассников, ранние подъемы по боевой тревоге, сбор лекарственных трав в лесу, ежедневные спортивные соревнования – только чтобы обессилить к вечеру этих ребят и девчонок, чтобы у них уже не хватало сил целоваться и трахаться по ночам.
Но куда там! Каждое утро в мусорных ведрах находили выброшенные, изорванные, в пятнах крови простыни, трусики, майки – девичьи целки лопались в пионерском лагере, как хлопушки во время карнавала.
И одну из них хлопнул я, грешный…
Представьте себе роскошный солнечный день на берегу зеленого пылкого моря и детский карнавал в честь дня Нептуна. Ряженые, крашеные, в самых фантастических нарядах – от диких костюмов каких-то африканских папуасов до полного облачения датского принца – подростки резвятся, поют, пляшут, и в центре всего – Королева Карнавала – хрупкая четырнадцатилетняя нимфетка в прозрачной голубой тунике, с балетным тельцем и карими глазами под золотой короной, надетой на льняные волосы.
На высоком постаменте она с профессионально-балетной выучкой танцует в паре с Принцем – тем самым пятнадцатилетним темноглазым парнем, которого заприметила моя приятельница-артистка.
По– моему, у нас с ней, с артисткой, одновременно защемило сердце, и мы даже переглянулись, как заговорщики.
– Ладно, Валюша, – сказал я ей. – Я тебе его устрою.
– Если я тебе устрою ее? – спросила она.
– Попробуй…
Не так уж много нужно москвичам, почетным гостям лагеря, которых наперебой приглашают в пионерские отряды для рассказов о театре, кино, литературе и изобразительном искусстве, чтобы завязать разговор с приглянувшимися девчонкой или мальчишкой.
В тот же вечер после карнавала мы с Валей К. пришли в дружину «Комсомольская» на вечерний костер.
Мы пели с ребятами песни, рассказывали им о кино и отвечали на их вопросы. Потом девчонки, среди которых была и «моя» нимфетка, окружили Валю К. – их, конечно, интересовало, как стать киноартисткой, как поступить во ВГиК и прочие вещи, которые занимают девчонок их возраста.
А я подошел к тому пятнадцатилетнему парню, который так интересовал Валю. Его звали Сережей, он приехал в лагерь из сибирского городка Томска и был ни много ни мало сыном секретаря райкома партии.
Я сказал ему, что, на мой взгляд, у него кинематографическое лицо, и в этом не было никакого вранья – этот парень вполне годился на роли положительных молодых героев.
Лукавство мое было лишь в том, что, заронив в душе этого парня мысли о кино, я посоветовал ему поговорить об этом с Валей К. – она-де профессиональная актриса и может дать ему несколько дельных советов.
Сережа дождался, когда девчонки отлипнут от Вали, и подошел к ней.
Я видел, как они сели на скамью в стороне от затухающего костра и как Валя послала мне короткий благодарный взгляд. Я понял, что сделал свое «черное» дело и, чтобы не мешать им, направился по боковой тенистой аллее в гостиницу, с грустью вспоминая о «своей» златокудрой нимфетке.
И вдруг среди этой темной аллеи возникла, отделившись от темного куста, именно она – Королева Карнавала!
Заступив мне дорогу и краснея в отблесках далекого костра, она сказала, потупив глазки:
– Валентина Борисовна сказала, что вы скоро будете делать телефильм о подростках и можете записать меня на пробу. Можете? Меня зовут Наташа…
– Записать тебя на кинопробу я, конечно, могу, – сказал я и мысленно послал Вале такой же благодарный взгляд, какой недавно получил от нее.
– А вы думаете, я подойду для кино?
– Ну, этого я не знаю. Я же с тобой еще двух слов не сказал. А вдруг ты заикаешься?
– Нет, я не заикаюсь, – несмело улыбнулась она.
– Или, может быть, ты необразованная, читать не умеешь.
– Умею! Что вы! Вы просто смеетесь… – она смотрела на меня своими темными блестящими глазками, ее пухлые губки были полуоткрыты, ее кегельные ножки легко держали ее стройное тело, ее маленькие грудки упирались в туго натянутую белую рубашку с двумя расстегнутыми сверху пуговками, ее льняные волосы падали на маленькие плечики… да что там говорить!
Но я все еще держался в рамках почетного гостя.
– Нет, я не смеюсь, – сказал я. – Вот я вижу по твоей фигуре, что ты занимаешься балетом. Наверно, ты учишься в балетной школе. Да?
– Да. Это не совсем школа, это балетная студия при Саратовском Дворце пионеров.
– А балерины, как я знаю, очень мало читают. Ты книжки читаешь?
– Читаю, конечно, читаю!
– Например, какие?
Но в это время над всем лагерем звучит горн – сигнал отбоя.
– Ой, мне нужно бежать на вечернюю линейку, – говорит она. – А вы еще не записали ни моей фамилии, ни адреса. А хотите, я приду к вам после отбоя и вы посмотрите, как я развита, и запишете меня?
И снова ее темные блестящие глаза посмотрели мне прямо в душу – дерзко, вызывающе и в то же время совершенно невинно.
– Ну… я не знаю… – проговорил я неуверенно. – Разве после отбоя вам разрешают ходить по лагерю?
– Конечно, не разрешают. Но вы ждите, я приду… – быстро сказала она и убежала.
В полумраке аллеи я видел ее быстро мелькающие кегельные ножки и легкую фигурку, стремительно летящую к общей, на берегу моря вечерней линейке. «Вы посмотрите, как я развита…»
Слабое томное щемление подвело мне живот, и приятная ломота предчувствия, как от утренней затяжки сигаретой, поползла по суставам…
Потом в беседке возле гостиницы, окруженные чернотой южной ночи и низкими крупными южными звездами, мы с Валей пили тонкое грузинское вино «твиши» и гадали, придут наши нимфята или не придут. – Валя, оказалось, – тоже пригласила своего Сережу на «деловую» беседу после отбоя.
Дальние отплески смеха у затухающих костров, быстрый пробег чьих-то ног, шум близкого моря и легкий ветер в деревьях – все это остро ловил наш слух, напряженный чутким ожиданием.
Но вот затихли вдали пионерские костры, погасли окна в корпусах пионерских дружин, и, казалось, даже море улеглось по сигналу вечернего отбоя.
Бутылка холодного «твиши» подходила к концу, наш с Валей разговор давно ушел куда-то в сторону, на телевизионные сплетни, как вдруг из-за черных ветвей кустарника выступила бесшумная, стройная фигура Сережи в коротких шортах и курточке-штормовке. Его глубокие черные глаза и узкие мальчишеские губы, его еще нетронутые бритвой щеки и даже упавшие на высокий лоб волосы были, казалось, напряжены, осторожны – он вышел из-за кустов, как молодой робкий олень. Он и в самом деле был похож на молодого оленя – на высоких стройных ногах, с большими темными глазами – я хорошо понял, почему Валя выбрала именно его, в нем было что-то трепетно-оленье…
– О, Сережа, добрый вечер! – сказал я тут же, чтобы помочь ему выбраться из робости. – Иди сюда, у нас замечательное вино, Валя, а где же стакан? Хотя знаешь что? Забирай эту бутылку и Сережу в коттедж, а то тут еще пройдет кто-нибудь, скажут, что мы пионеров спаиваем…
– Я уже не пионер, – сказал Сережа.
– Ну, я понимаю. Давай, Сергей, помоги собрать со стола и валите в коттедж, а я докурю и приду…
Валя, поигрывая бедрами, увела Сережу в коттедж, в свою комнату, включила торшер и задернула шторы якобы от посторонних глаз, и я подумал, что у Вали куда более легкая задача, чем у меня, – если только моя нимфетка придет.
Но придет ли?
Утекало время, крупные низкие звезды плыли в черном небе, и маячок спасательной станции мигал в черноте близкого моря. Там, на спасательной станции, крепкотелые спасатели уже наверняка приступили к старшеклассницам, а тут – сиди и жди.
Конечно, она не придет, этот цыпленок, нужно было не терять время, а пригласить к себе очередную пионервожатую…
Уверенный, что в этот вечер моя встреча с девочкой не состоится, я уже собрался идти спать, но в этот миг легкий стук каблучков по бетонной аллее насторожил мой слух.
Она бежала.
Даже по стуку каблучков я понял, что это – она. Было что-то воздушно-легкое, ассолевское в этом быстром пробеге. И я не ошибся – она впорхнула в полосу света у беседки – наивно-смешная и прелестная в этих коротких пионерских шортиках, в такой же штормовочке, как у Сережи, – униформе лагеря, с пионерским галстуком на белой блузке и… туфельках на высоких каблучках.
– З-з…з-з…здравствуйте… – сказала она, дрожа, и ее лучистые глаза потупились.
Я подошел к ней вплотную – даже на этих смешных высоких каблуках она была ростом ниже моего плеча.
Я подошел к ней вплотную, молча приподнял ее голову за подбородок и заставил взглянуть на себя. Испуганные, настороженные, но где-то в самой глубине вспыхивающие искорками отчаянной решимости глаза. Сиреневые полураскрытые губки, и мелкая дрожь нервного озноба по всему телу.
Телу?
Это было тельце – худенькое тельце четырнадцатилетней девочки, подростка с голыми точеными ножками, открытыми до шортиков, с худенькой шеей балерины и с нелепым пионерским галстуком, прикрывающим своими концами чуть-чуть наметившиеся под белой рубашкой выпуклости ее еще детской груди.
«Ты с ума сошел! – сказал я себе. – Что ты будешь с ней делать? Это же еще ребенок! У нее родители твоего возраста, наверно…»
– Ладно, детка, – сказал я. – Идем, я тебя чаем согрею, а то ты дрожишь. Заодно – поболтаем.
И, взяв ее за руку, как дошкольницу, я повел ее в коттедж.
Теперь нужно было держаться этого шутливо-иронического, дразнящего тона – «детка», «малыш», «ребенок» – при каждом к ней обращении.
Четырнадцатилетнее существо не хочет, чтобы ее считали деткой, она из духа противоречия, сделает все, чтобы доказать, что она не детка, не ребенок, а уже взрослая. И минут через пятнадцать, когда мы пили чай с коньяком, она сказала уже почти зло:
– Не нужно говорить мне «детка». Я не ребенок.
– Ну, это я тебя дразню. Но, вообще-то, ты, конечно, ребенок. Ты даже целоваться не умеешь.
– Почему вы так думаете?
– Ну, если ты в школе несколько раз поцеловалась с мальчишками, это еще не значит, что ты что-то умеешь. Но мы сейчас проверим, – я подошел к ней, одним движением поднял ее на руки и пересадил на диван – как куклу, она даже испугаться не успела. – Вот так. Ты сидишь здесь и я – рядом. Но я сплю. Я усталый солдат, только что пришел с фронта домой, тысячу километров прошел пешком и проехал, и вот я пришел домой и уснул. А тебе нужно разбудить меня, ты моя жена, тебе нужно разбудить меня – не знаю зачем, это ты сама придумай – может, меня председатель колхоза зовет или в райком меня вызывают – неважно. Ну вот, как ты будешь меня, усталого солдата, будить?








