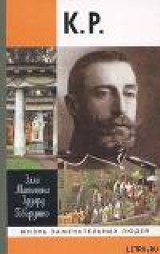
Текст книги "К. Р."
Автор книги: Эдуард Говорушко
Соавторы: Элла Матонина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Как человек тонко все чувствующий, он понимал, что Александр и Дагмара отдыхают в Копенгагене от своего нравственно неловкого положения в Петербурге – от всех этих разговоров о связи Государя с юной Екатериной Долгорукой.
На «Светлане» Константин отметил свое двадцатидвухлетие. Его радушно и тепло поздравляли в кают-компании. Он же молился и просил Бога помочь ему быть честным человеком в очередном году его жизни. А между тем считал дни, числа, вахты до возвращения домой. Наконец, в последний раз спустили флаг. Он – дома: «Когда я подходил ко дворцу в Стрельне и не знал наверно, там ли Мамá и Митя, и успокоился, когда увидел свет в окнах, – как билось сердце. Одно из лучших чувств в жизни – ожидание и радость, когда входишь в родную дверь. Приближаясь к дому, мне всякий камушек, каждый самый незначительный предмет напоминал что-нибудь из прошедшего. С каким наслаждением я вбежал по лестнице и увидел первое знакомое лицо».
Но уже в марте 1880 года в приказе по гвардейскому экипажу офицеры были снова расписаны по судам.
Морской министр в этот раз решил послать сына в кругосветное плавание на два года на фрегате «Герцог Эдинбургский».
Опять это море! Константина, всегда послушного сына, радовало хотя бы то, что два, а может, и три года – как придется – он будет в кругу знакомых, милых ему людей. И князь Щербаков, и князь Барятинский, и граф Толстой, и князь Корсаков, и другие офицеры были дружны между собой. И Константину хотелось оправдать их доверие, чтобы не выйти за пределы этого дружества. Однако отплытие задерживалось.
– Такое впечатление, что вашему «Герцогу» некуда спешить, – язвительно замечала мать.
– Морские сборы – дело долгое, – отвечал сын и смеялся, зная, что она, жена моряка, как никто другой это понимает. – Зато завтра в Манеже мы с Митей участвуем в конногвардейском параде.
– Но ты же ротный командир в гвардейском экипаже! И на тебе…
Однако преодолеть желание пощеголять в красивом белом мундире, который очень шел ему, Константин не мог. Все говорили, что в этом костюме да еще с каской на голове он очень похож на своего деда императора Николая I. A был ли кто-то в Императорской семье красивее деда?! Так что Константин поехал. И парад прошел безукоризненно, и Государь был заметно доволен, и дамы не отводили от молодого Константина глаз.
Между тем в обществе шли разговоры о войне с Китаем. В восточные воды готовилась эскадра. Говорили, что и «Герцога», который строился на Балтийском заводе, отправят на восток. Теперь Константин боялся, что корабль не будет готов к осени, и придется остаться в Петербурге, и время будет просыпаться сквозь пальцы, как песок. Великий князь помчался на Балтийский завод увидеть собственными глазами, в каком состоянии «Герцог». Фрегат стоял на Неве у самого завода, директором которого был бывший моряк Г. Казн. Встретил Великого князя его бывший ротный командир Кузьмич. Втроем – Кази, Кузьмич и Константин – лазали по всем закоулкам корабля больше часа. Стук, шум, суета – на «Герцоге» шли окончательные работы.
В эти же дни Царь пожаловал Константину знак минного офицера за то, что тот прослушал курс лекций Владимира Павловича Верховенского. «Не считаю себя нисколько достойным звания минного офицера: прослушать курс лекций далеко не значит усвоить их. Знак этот доставит гораздо больше удовольствия Папá, чем мне самому», – записал Константин в дневнике, коря себя за неблагодарность, но любуясь своей честностью.
Ему казалось, что эдаким манером его привязывают к нелюбимому морскому делу. Впрочем, прошел слух, что «Герцог» опять задерживается с выходом в море…
МЕЧТА О РОМАНЕ С ВЕЧНОСТЬЮ
Времени между походами в море оставалось достаточно, чтобы спросить себя: «Чем я его заполню?» Конечно, можно по утрам совершать прогулки в парке, в поле, вдоль живописного берега Славянки. Константин объяснялся в любви этим местам: «Я с детства люблю поле, засеянное рожью и овсом, где тут и там синеют васильки; люблю быструю речку с небольшими порогами и крутыми берегами. С самых ранних лет в моей памяти врезался обширный вид на Царскую Славянку, на извилины речки и на большую кирху под соломенной крышей вдали. В этом поле дышится свободнее…» Вечерами можно любоваться светлой июньской ночью и дворцом с висящей над ним луной, а зимой кататься в Яхт-клубе на буере. И хотя ему не по вкусу холод, мороз и лед, но кататься под парусами по замершей реке – дело морское. Можно ходить в кладовые, рассматривать старину и вдыхать ее пыль. И вдруг найти среди хлама портреты Петра Великого, Короля Англии Карла I и всем этим украсить свою комнату. И потом приезжим гостям показывать Павловский дворец, рассказывая о залах, о живописи, о фарфоре, о бронзах, о шпалерах и о старинной мебели, показать и свою не без вкуса устроенную комнату. Можно купить себе пару серых лошадей, искать особой красоты запонки и золотой портсигар в подарок брату Мите в день его совершеннолетия, скучать на обеде у Александра II – «разговор прескучный для нашего поколения: о прежних командирах гвардейских полков, о начальниках частей при маневрах этих полков, что ж царские обеды не славились ни весельем, или чем-либо любопытным».
Константин вообще скучал везде, где не было напряжения мысли. От общего светского разговора «ни о чем» у него начинала болеть голова. Но он мог часами гулять рука об руку со своим самым близким другом – сестрой Олей, петь ей своим скверным голосом новый романс собственного сочинения, часами бродить с ней по залам Академии художеств, спорить о картине Жерома «Дуэль». Но, сам не зная почему, всегда говорил своей милой Оле «нет», когда она звала его в Царское Село в гости, где будет, по его словам, «чесун ни о чем». Он предпочитал одинокую прогулку в Павловске, где перед ним лежала Красная долина с вечерним хором множества птиц. Он останавливался и слушал их. И вдруг – придворная коляска. В ней Цесаревна, Великий князь Сергей, сестра Оля. Он прыгает в канаву, ломая кусты, пытаясь спрятаться. Но его замечают, окликают, везут все-таки в Царское пить чай, где присутствует и Государь.
В таких случаях Константин едва высиживал «приличное» время и удирал к умнице Павлу Егоровичу Кеппену, управляющему двора его матери. Говорил с ним до утра.
– Я в море на голодной пайке. Вы понимаете, Петр Егорыч? – сетовал Константин.
– Понимаю. Но в голодный паек не верю – в плавании вы читали Достоевского.
– Кузен Сергей прислал роман «Бесы». Мы тогда, обогнув Европу, прибыли в Америку, пришвартовались в порту Норфолка. Поездом я поехал посмотреть Нью-Йорк и Вашингтон. Как-то необъяснимо роман совпал с чертовщиной Нью-Йорка… Вообще, Достоевский меня потряс – такие у него есть христианские места!..
– Вот видите! Море дает возможности. А в остальном – вы предназначены отцом для флота, обязаны быть в свите Государя, на парадах, бывать во дворце, вести светскую жизнь и служебную. Вы – человек военный, как положено Великому князю. Понимаю, для вас вчерашний день не лучше и не хуже завтрашнего: дождь, сыро, холодно, а вам надо для роты делать заказы, потом – на Балтийский завод, на спуск корабля в присутствии всего морского начальства, потом опять на корабль – пробовать на фрегате машину на якорях. Да еще Его Высочество Константин Николаевич взял вас на завод смотреть ремонт «Опричника»…
– Но где взять время на душу свою? Я будто высох весь…
– Сумейте найти. Вы военный человек. Военным был и Сумароков, основавший при кадетском корпусе Императорский театр; и гусар Лермонтов, даже «Лев», наш гениальный Толстой, воевал в Севастополе. И Пушкин хотел в гусары… А Денис Давыдов, а преображенец Мусоргский, моряк Римский-Корсаков?…
– Они – воплощенным Словом или Музыкой явились на свет. Как говорит Достоевский, чтобы «осознать и сказать». А вот я – воплощенное тщеславие. В Стрельне, на Императорской мызе, мальчишкой бегал по парку под темным небом в неисчислимых звездах и, задрав голову к ним, кричал: «Желаю быть великим, люблю России честь! Исполню ли, Бог весть?» Стыдно, неловко вспоминать.
– Что же тут стыдного? Вы ведь пишете стихи…
– Не стоит об этом. А вот звезды, это тайное молчаливое лицо мироздания – мое наваждение. Иногда стою ночью на вахте, подниму глаза к звездам, к этой огненной книге, а в голове стихи Фета:
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
А хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
Земля, как смутный сон, немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь…
Подумайте, Павел Егорович: «Один в лицо увидел ночь…» Какая мощь! И это у лирика Фета.
– Чувствую, что когда-нибудь вы напишете свои «Звезды»… – Кеппен встал, подошел к книжным полкам и достал книгу: – Это «Вертер» Гёте. Правда, на русском языке. Думаю, если понравится, прочитаете и в оригинале. Тут есть момент, имеющий касательство к нашему разговору. Вертер перед смертью прощается с «Большой Медведицей». Но почему так дорога Вертеру «Большая Медведица»? Он понял, что звездное чудо не выше его человеческого сознания и души. Это и роднит человека с бесконечностью бытия. Счастьем осознавать это мы обязаны своему человеческому лику. – Кеппен помолчал. – Нет, Константин Константинович, мне лучше Федора Михайловича не сказать. Ясно, что нельзя попусту растратить жизнь.
Они прощались под старым, широколистым дубом. И одновременно подняли головы к темному небу – там текла звездная река бесстрастного времени.
– Ваше Императорское Высочество, – тихо сказал Кеппен, – сознайтесь… Вы мечтаете о романе с вечностью?…
Отец, читавший очень много и имевший память поистине изумительную, дал Константину «Размышления» Марка Аврелия.
– Римский Император писал книгу как обращение к самому себе. В походной палатке, среди неустанных забот об армейских нуждах.
– Но он, наверное, не исключал и постороннего читателя? По воле Провидения записи могли попасть на глаза кому угодно.
– И попали. Провидение распорядилось наилучшим образом. Мы до сих пор читаем эту суровую, но светлую книгу. Отдай должное автору и ты, Костя.
Не всё легло на душу молодому князю. Но одно суждение философа запомнилось: «Для природы вся мировая сущность подобна воску. Вот она слепила из нее лошадку; еломав ее, она воспользовалась ее материей, чтобы вылепить деревцо, затем человека, затем еще что-нибудь. И всё это существует самое краткое время».
Быть может, тогда Константин впервые задумался о бренности тела, неустойчивости души и сомнительности славы. Виденные на Дунае бои обострили эти мысли. Он еще не был поглощен поисками высших истин, но его характер, склонный к самоуглублению, требовал самовыявления. Чем оно направлялось – желанием славы, честолюбием – он пока не знал. Всеми силами души он старался ухватиться за всякую новую возвышенную мысль, искал руководящее начало в жизни, сообразное с его душой, восторженной и серьезной…
ВЕЧЕРА С ДОСТОЕВСКИМ И ЧАЙКОВСКИМ
Преданный и умный кузен Сергей прислал ему на корабль роман «Бесы». У Сергея же на обеде Константин увидел и Достоевского. Худенький, болезненный на вид, с длинной редкой бородой. На бледном лице грустное и задумчивое выражение. Он говорил об искусстве. О том, что у искусства одна цель с целями человека, что оно с человеком связано нераздельно. Но стеснять свободу развития разных искусств нельзя, нельзя сбивать творчество с толку, предписывать ему разные законы… Чем свободнее будет искусство развиваться, тем нормальнее разовьется…
Говорил Достоевский так же хорошо, как писал. Но Константин так напряженно слушал, что, как это бывает с людьми тонкой, нервной организации, не все слышал. С Достоевским они увиделись через год, в марте 1879-го, на таком же обеде опять же у Сергея. Константин решился пригласить писателя и к себе. О приглашении напомнил еще и письменно 15 марта: «Вы встретите знакомых Вам людей, которым, как и мне, доставите большое удовольствие своим присутствием». Но писатель прийти отказался.
Достоевскому нравился скромный, расположенный к людям молодой человек. Но он был Его Императорским Высочеством, Великим князем. Таким особам не отказывают. И Достоевский вынужден был написать в ответ пространную записку:
«Ваше Императорское Высочество,
Я в высшей степени несчастен, будучи поставлен в совершенную невозможность исполнить желание Ваше и воспользоваться столь лестным для меня предложением Вашим.
Завтра, в пятницу, 16 марта, в 8 часов вечера, как нарочно, назначено чтение в пользу Литературного фонда.
Билеты были разобраны публикою все еще прежде объявления в газетах, и если б я не мог явиться читать объявленное в программе чтение учредителями фонда, то они из-за моего отказа принуждены бы были воротить публике деньги.
Повторяю Вам, Ваше Высочество, что чувствую себя совершенно несчастным. Я со счастьем думал и припоминал все это время о Вашем приглашении прибыть к Вам, высказанное мне у его Императорского Высочества Сергея Александровича, и вот досадный случай приготовил еще такое горе! Простите и не осудите меня. Примите благосклонно выражение горячих чувств моих, а я остаюсь вечно и беспредельно преданный Вашему Императорскому Высочеству покорный и всегдашний слуга Ваш Федор Достоевский.
15 марта/79».
Константин повторил приглашение, проявив обычный свой такт:
«Многоуважаемый Федор Михайлович, буду очень рад Вас увидеть завтра 22-го в 9-30 вечера. Прошу Вас не стесняться отказом, если Вам этот день сколько-нибудь неудобен».
Достоевский ответил:
«Ваше Императорское Высочество, завтра в 9-30 буду иметь счастье явиться на зов Вашего Высочества.
С чувством беспредельной преданности всегда пребуду Вашего Высочества вернейшим слугою.
Федор Достоевский.
21 марта/79. Среда».
Как-то Александра Иосифовна постучала в комнату сына. Никто не ответил, но из-за двери доносились какие-то шорохи. Она вошла и увидела что-то невообразимое. Пол был весь усыпан бумагами, книги, вынутые из шкафов, валялись на ковре. На письменном столе, где всегда царил дорогой и близкий ее сердцу немецкий порядок – «сын весь в меня», – был хаос. «О, Боже!» – возмутилась Великая княгиня.
Сын сидел на полу и изучал бумаги.
– Костя, что случилось?
– Я потерял записку Федора Михайловича…
– Достоевского? Ну что ж тут особенного?
Сын выразительно посмотрел на мать красивыми романовскими глазами:
– Я не смею даже букву, им написанную, терять, а это целая записка… И это Достоевский!
Александра Иосифовна вздохнула и тоже взялась за поиски.
Записку они нашли. Константин был счастлив, как это бывало только в детстве. А Александра Иосифовна была счастлива редким мгновением близости матери и взрослого сына.
– Костя, пригласи Федора Михайловича. Мне есть за что его поблагодарить, – с улыбкой сказала она, направляясь к выходу, величественная и красивая, всегда помнящая о своем сходстве с Марией Стюарт.
С Достоевским Константин увиделся только после своего очередного плавания, в марте 1880 года, а 22-го пригласил к себе. Зашел разговор о романе «Бедные люди».
– Давнее дело, – улыбнулся Достоевский. – Сороковые годы. Помню, что меня и критики, и публика упрекали за слог, мол, нельзя так говорить. Но им было и невдогад, что говорит мой герой Девушкин, а не я. Девушкин и говорить иначе не может. А роман находили растянутым…
– Там слова лишнего нет, – заметил Константин.
– Да? И я так всегда думал. Вам понравился роман?
– Он меня однажды спас. Скажу вам искренне – не хочу служить на флоте. Делаю это по настоянию отца. И поэтому у меня ничего хорошего с морской службой не получается. Однажды совсем упал духом. А ваш роман, эти люди в нем… Прочитал. И вдруг перестал бояться будущего, почувствовал себя сильным, и на вахту не лень было идти, и молилось хорошо.
Константин постеснялся рассказать более подробно о своем состоянии во время чтения «Бедных людей». Они остались в дневнике. Он дочитывал роман, сидя в кают-компании. Перевернул последнюю страницу и стало бесконечно грустно. Сердце сжималось от боли за людей, выведенных на страницах книги. Хотелось их найти, помочь им. Сдерживая слезы, он выскочил из кают-компании, прибежал в свою каюту, упал на колени у постели и разрыдался. Долго не мог успокоиться, вспомнились и собственные беды… В ту минуту он был не баловнем судьбы по рождению, не избранным и высокородным, а простым несчастным человеком. Братом бедных людей из романа Достоевского.
Плакал он долго и горько. Но все душевные невзгоды, вся боль за себя вытекли с этими слезами. И ему показалось, что он стал чище. И сильнее, чтобы помогать другим удержаться на краю бездны.
«Это был искренний и добрый молодой человек, поразивший моего мужа пламенным отношением ко всему прекрасному», – вспоминала жена Федора Михайловича, отмечая их дружбу и частые беседы с глазу на глаз в Мраморном дворце и в Павловске, несмотря на разницу лет.
В Павловске, Стрельне, в Мраморном дворце говорили и спорили о «Братьях Карамазовых». Кто-то утверждал, что прямых, четких, чуть ли не по пунктам, возражений на атеистическую проповедь Ивана Карамазова у писателя нет. Кто-то соглашался, что христианство – это единственное убежище Русской земли ото всех ее зол… Спорили о современном анархизме, о социализме, который якобы вышел из отрицания смысла исторической действительности, об образе старца Зосимы – почему он все-таки не идеален у Достоевского и зачем у чистого Алеши что-то пошловатое просматривается в биографии… И, уж конечно, не хотелось никому верить, что был генерал, затравивший ребенка собаками.
– Не выдумал, – сказал Федор Михайлович, глядя на страдальческую гримасу Константина. – Прочитал этот живой факт, Ваше Императорское Высочество, в «Архиве», да и перепечатано было происшествие многими газетами этой зимой.
Как-то вечером в Стрельне после игры в винт решено было читать вслух разговор двух братьев Карамазовых.
«Все, – записал в тот же вечер Константин, – слушали напряженно развитие мысли и коллизии человеческих противоречий, об истязании детей, о финале бытия и невозможности гармонии. Спор поднялся ожесточенный, ум за разум стал заходить, кричали на всю комнату и ничего, конечно, не разбирали. Что за громадная сила мышления у Достоевского! Она на такие мысли наводит, что жутко становится и волосы дыбом поднимаются. Да! Ни одна страна не произвела такого писателя, перед ним всё остальное бледнеет».
На дворе стоял май 1880 года. До настоящего тепла было далеко, но холод почти распрощался с Петербургом. Самая смелая травка уже лезла на свет в солнечных местах. Константин вышел из коляски и пошел пешком, бездумно повторяя слова какой-то песенки: «У пенька на солнцепеке расцветает первоцвет, но у желтого цветочка на печаль ответов нет. Все вопросы и ответы лишь у строгого Христа. Мне же дар небесный мая: цветик, солнце и весна». От мая он ждал много хорошего. Во-первых, должна приехать сестра Оля, Королева эллинов, с тремя сыновьями. Оля, самое любимое и близкое существо, при которой он мог и думать вслух. Во-вторых, предстояло свидание с Еленой Шереметевой. Он решил сочинить романс и посвятить ей. Там будут такие слова: «Не верь мне, друг, когда я говорю, что разлюбил тебя; в отливе волн не верь измене моря, оно к земле воротится любя!» В-третьих, предстоял вечер с Федором Михайловичем Достоевским. И на все эти радостные события найдется время, потому что «Герцог Эдинбургский», строящийся на Балтийском заводе, поспевал лишь к поздней осени.
Вечер с Достоевским был назначен на 8 мая. Цесаревна Дагмара просила Константина познакомить ее с Федором Михайловичем. Она слушала его чтение в каком-то благотворительном концерте и поняла, что должна заняться самовоспитанием.
В том году было много публичных чтений. Читал Тургенев, седой красавец, которого боготворили за роскошь русского языка. Читал Достоевский. На его чтения ломились, хотя внешне он не был так эффектен, как Тургенев, но читал мастерски. Казалось, однотонно, но эта однотонность окрашивалась ударными моментами, к которым он подходил, как великий актер, исподволь. Те, кто слушал его, вспоминали, что личность Достоевского производила на слушателей огромное впечатление. Он был живой частью каждого с его испытаниями, надеждами, упованиями, и писателя приветствовали с тем забвением меры, которое охватывает людей, когда все их существо потрясено.
Общество собралось избранное. Цесаревна Дагмара взяла на себя роль хозяйки и разливала чай.
Федор Михайлович читал отрывок из «Карамазовых». Закончил в полной ошеломленной тишине. Константину хотелось, чтобы он прочитал еще исповедь старца Зосимы, так хотелось услышать акценты, которые Достоевский сам расставит в этой исповеди, но не решался попросить. Федор Михайлович посмотрел на Константина, улыбнулся:
– Что-то вас волнует, Ваше Императорское Высочество?
– Да! Исповедь старца Зосимы… Пожалуйста…
Достоевский читал тихо, почти без эмоций. Закончив, сказал: «Ну, вот…»
– По-моему, это одно из величайших произведений. – Константин не назвал исповедь «отрывком» из романа, а назвал «произведением».
– Это не проповедь и не исповедь. Всего лишь повесть героя о собственной жизни, – отвечал Достоевский. – Мне хотелось сделать хорошее дело – воочию, реально, не отвлеченно представить чистого, почти идеального христианина. Молил Бога, чтоб удалось.
Когда Федор Михайлович читал, каждый из сидящих в теплой, уютной гостиной дворца понимал, что ни гостиная, ни дворец не спасут человека и только ему самому решать, что для него земля – ад или рай.
Потом слушали «Мальчик у Христа на елке» – о страданиях замерзающего зимой на улице нищего мальчика, перенесенного в своих предсмертных грезах на небо, к Христу.
У Цесаревны стояли слезы в глазах, Елена Шереметева плакала.
Константин записывал в дневнике: «Я люблю Достоевского за его детское и чистое сердце, за глубокую веру!»
И он совсем не мог понять, зачем, зачем этот тонкой души человек вдруг пошел смотреть на смертную казнь.
* * *
… Глава Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка граф Лорис-Меликов [4]4
Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825–1888) вскоре, 6 августа 1880 года, будет назначен министром внутренних дел и шефом жандармов. – Прим. ред.
[Закрыть]20 февраля 1880 года в два часа дня возвращался домой, когда прозвучали выстрелы, но пули застряли в шубе графа. Одним прыжком отнюдь не молодой Меликов бросился на террориста, сбил с ног. Жандармы сделали всё остальное. День спустя, после быстрого суда, покушавшийся, некто Млодецкий, был повешен на Семеновском плацу в присутствии громадной толпы народа.
Впервые за последние десятилетия в Санкт-Петербурге казнь совершалась публично: расстрелы и повешения обыкновенно происходили тайно, без свидетелей, на рассвете в одном из бастионов крепости. Тысячи людей устремились на место казни. И зрелище это им наглядно показало необходимость противопоставлять фанатизму революционеров всемогущество власти. Осужденного провезли по улицам города на телеге, со связанными за спиной руками; на его груди висела табличка: «Государственный преступник». Осужденный бросал высокомерно-насмешливые взгляды на тех, кто пришел смотреть на его смерть. Время от времени он даже выкрикивал грубые и угрожающие слова. На эшафоте он проявил еще большую дерзость, оттолкнув священника, подносившего к его губам распятие. Наконец, палач набросил на его голову белый саван, обхватив шею веревкой, и выбил из-под ног скамейку.
«Достоевский ходил смотреть на казнь Млодецкого, это мне не понравилось, мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела!» – растерянно, даже с какой-то обидой упрекал Константин писателя. Он считал, что с моральной точки зрения для всякого культурного человека недопустимо присутствовать на такого рода зрелищах из чистого любопытства.
Конечно, Достоевский был в толпе не в роли зеваки. И он потом это объяснил. Но молодому Константину Романову нужно было собственное убедительное объяснение, которое он нашел. Писатель ведь сам в 1849 году пережил ожидание смерти, когда был приговорен к расстрелу по делу петрашевцев, в числе других смертников возведен на эшафот, первых трех уже привязали к столбам, солдаты вскинули ружья, и только тогда было объявлено, что смертная казнь заменена каторгой. Возможно, Достоевский хотел проверить, прав ли в своем утверждении, что самые разнообразные мотивы могут привести чистейших сердцем и простодушнейших людей к совершению чудовищного злодейства. Писатель хотел понять, кем был этот Млодецкий – прирожденным мерзавцем или его ранило время сомнений, отрицаний, скептицизма, шатания в убеждениях, время «больной» России…
– И это не у нас одних, а на всем свете так бывает во времена смутные, переходные, – говорил Достоевский, объясняя себя в «истории с казнью».
Константин понял, что «частных» вопросов для писателя, как и для его героев, нет. Все проблемы их бытия – общечеловеческие.
Если бы Великий князь Константин Романов, подобно Марку Аврелию, составил список людей, которым он обязан умением сообразовывать в единое целое свои стремления и представления о жизни духа, разума и сердца, первым в этом списке он назвал бы Достоевского.
Время летело быстро. Однажды устроилась поездка в Гатчину, где на всем лежала печать одиночества, исторической старины и таинственности. Константин чувствовал этот особый дух древности, совершенно не характерный для других загородных петербургских дворцов. Молодой романтик так и писал: «Из каждого угла старых дворцовых покоев как будто слышатся затаенные вздохи, глухие слезы, и смех, и смех, и веселье старых добрых годов». Он ходил по комнатам дворца, на него смотрели портреты, а «солнце, просвечивая сквозь желтые стекла, волшебным золотым цветом озаряло бронзы и китайские фарфоры». Но художественные впечатления сменили жутковатые видения: когда он стоял у кровати Павла I, его поразило белье в рыжих пятнах, напоминающих кровь. Постель привезли из Петербурга в Гатчину, и всё как бы воссоединилось здесь: постель и Библия в красном бархатном переплете с золотыми крестами, проповеднические книги и книги мистического содержания, масонские адреса, рисунки странных флагов – странная жизнь царя, ключ к которой, что ни воображай, потерян.
Он выскочил на воздух. Его позвали смотреть в загонах волков и лисиц, потом борзых и гончих.
– Царская охота! Пойдемте, Константин Константинович, – предложил Илья Александрович Зеленый.
– Я ее уже видел.
– Не понял, Ваше Высочество. Где?
– Только что, во дворце…
Весь день потом он был подавлен. Вдруг подумал, что хорошо бы написать что-то о русской истории. Опять вспомнил Дунай, войну – тоже ведь история, и он ее участник. Но не написал.
Всё разрядила поездка с кузеном Сергеем, другом любезным, в Сергиевскую пустынь близ Стрельны. Константин был простужен, кашлял и потому о поездке не сказал ни матери, ни отцу, иначе бы его не отпустили. Великий князь Константин Николаевич был не в меру строгим отцом, а Александра Иосифовна следовала указаниям мужа.
Константин, совсем не ранняя пташка, любил поспать, но тут в девять утра уже отправился к Сергею. Тот заказал четверку. И по апрельской, совершенно высохшей дороге – снег стаял, чуть-чуть лежал на обочине – они помчались свежим утром вдоль Невы, гревшей свою иссиня-чешуйчатую спину на солнце. Как им было свободно, легко и отрадно! Сергей показал на ивы, явно проснувшиеся от зимы.
– «То было раннею весной, трава едва всходила…» – пытался петь совершенно не умевший этого делать Константин.
В монастыре они отстояли обедню. В церкви отпевали какого-то Плещеева, однофамильца поэта, негромко, скорбно и торжественно.
Когда возвращались, проезжали Стрельну, Константиновский дворец. Константина узнавали, кланялись – здесь он родился. У него было тепло на сердце, верилось во всечеловеческую любовь… И еще в любовь особую, которая вспоминалась вместе с последней осенью в Стрельне. Аллеи, шорох светлой от позолоты листвы и Елена…
* * *
Накануне Пасхи, в Страстную субботу, Константин взял извозчика и отправился в свою роту. По дороге спросил извозчика, как он будет встречать Светлый праздник. Тот вздохнул и сказал, что всю ночь придется зарабатывать, чтобы расплатиться за жилье, так что в церковь ему не успеть. Константин дал ему 5 рублей, чтобы мужик мог пойти к заутрене, да и долг отдать. Тот заулыбался, посветлел лицом.
В полночь начался большой царский выход в церковь. Торжественно шло пасхальное богослужение. Было легко и светло на душе, забылись все огорчения. А когда началось христосование, этот славный обычай, выражающий общее примирение, Константин вспомнил вдруг, что его бедная заболевшая Мамá осталась одна в домашней церкви, и заторопился к ней, чтобы поздравить ее и поцеловать.
У Мамá он застал Ивана Сергеевича Тургенева, который рассказывал гостям о новой, еще не оконченной, картине Куинджи. Художник слова, он умел рассказывать как никто. Современники отмечали его блестящее остроумие, меткие характеристики лиц, юмор, оригинальность суждений. Его называли «сиреной» за умение завораживать словом. Так же описал он и картину Куинджи «Ночь на Днепре».
Константину не терпелось сравнить описание с изображением. Он уговорил своего бывшего воспитателя, ставшего другом, – Илью Николаевича Зеленого немедленно съездить к художнику. Было холодно, Васильевский остров продувался со всех сторон, волна в Неве была высокой – весна еще не установилась. Наконец, на Малом проспекте, пролазив с час по разным закоулкам, они нашли шестнадцатый дом и мастерскую Куинджи, которая ютилась под самой крышей, преобразованная из фотографического ателье. На колокольчик вышел сам Куинджи: невысокий, полнотелый, белокурые волосы, голубые глаза. Он не знал стоящих перед ним людей и крайне удивился, услышав, что морской офицер интересуется живописью. Но картину показал.
«Я как бы замер на месте. Я видел перед собой изображение широкой реки; полный месяц освещает ее на далекое расстояние, верст на тридцать. Я испытывал такое ощущение, выходя на возвышенный холм, откуда вдали видна величественная река, освещенная луной. Захватывает дух, не можешь оторваться от ослепляющей, волшебной картины, душа тоскует. На картине Куинджи все это выражено, при виде ее чувствуешь то же, что перед настоящей рекой, блещущей ярким светом посреди ночной темноты.
Я сказал Куинджи, что покупаю его дивное произведение, я глубоко полюбил эту картину и мог бы многим для нее пожертвовать.
Весь день потом, когда я закрывал глаза, мне виделась эта картина».
Константин купил картину. И поняв, что не сможет с ней расстаться, решил взять ее с собой в дальнее плавание.
Куинджи, узнав об этом, рассвирепел, решил судиться с Великим князем – он боялся, что картина от влаги потускнеет, пропадет. Но Константин взял ее с собой. И всё обошлось. Быть может, душа картины чувствовала любовь человека к себе. «Я бы многим для тебя пожертвовал», – сказал картине этот человек.








