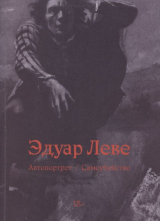
Текст книги "Автопортрет. Самоубийство"
Автор книги: Эдуар Леве
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Самоубийство
Погожей августовской субботой, одевшись для игры в теннис, ты вместе с женой выходишь из дома. Посреди сада ты сообщаешь ей, что забыл дома ракетку. Ты возвращаешься за ракеткой, но вместо того чтобы направиться к стенному шкафу у входа, где она обычно лежит, спускаешься в подвал. Жена этого не знает, она осталась на улице, стоит хорошая погода, она наслаждается солнцем. Спустя несколько мгновений раздается выстрел. Она бросается в дом, выкрикивает твое имя, замечает, что дверь на ведущую в подвал лестницу открыта, спускается туда и там тебя находит. Ты пустил себе пулю в голову из тщательно подготовленного ружья. И оставил на столе раскрытый комикс с изображением на весь разворот. В волнении твоя жена опирается на стол, книга опрокидывается и закрывается, прежде чем она успевает понять, что это было твое последнее послание.
Я никогда не был в этом доме. Однако же знаю сад, первый этаж и подвал. Я пересмотрел эту сцену сотни раз, все время в одних и тех же декорациях, тех самых, что представил себе впервые, когда мне рассказали о твоем самоубийстве. Дом выходил на улицу, у него были крыша и задний фасад. Но все это не существует. Имеется сад, в который ты в последний раз выходишь на солнце и где тебя ждет жена. Имеется фасад, к которому она бежит, когда слышит выстрел. Имеются вход, у которого осталась ракетка, дверь в подвал и лестница. Имеется, наконец, и подвал, где лежит твое тело. Оно не пострадало. Твой череп не разлетелся вдребезги, как мне сказали. Ты напоминаешь молодого игрока в теннис, прилегшего после матча на газон. Можно подумать, что ты спишь. Тебе двадцать пять лет. Отныне ты лучше меня разбираешься в смерти.
Твоя жена громко кричит. Кроме тебя ее некому услышать. В доме больше никого нет. Она с плачем бросается на тебя, с любовью и яростью бьет тебя в грудь. Она обнимает тебя и с тобой заговаривает. Она рыдает, она валится на тебя. Ее руки скользят по холодному и влажному полу подвала. Ее пальцы царапают землю. Она остается так четверть часа и чувствует, как остывает твое тело. Телефонный звонок выводит ее из столбняка. Она находит силы поднять трубку. Это тот человек, с которым ты должен был играть в теннис. «Алло, что происходит? Я вас жду».– «Он мертв. Мертв»,– отвечает она.
На этом сцена обрывается. Кто забрал твое тело? Пожарные, полиция? Произвел ли судебно-медицинский эксперт вскрытие, ведь самоубийство могло быть замаскированным убийством? Производилось ли дознание? Кто решил, что это именно самоубийство, а не преступление? Допрашивали ли твою жену? Тактично ли разговаривали с ней или даже подозревали? Не добавилась ли боль от подозрений к боли от твоей утраты?
Я больше не видел твою жену, я едва ее знал. Я виделся с ней четыре или пять раз. С тех пор как вы поженились, мы больше не встречались. Я снова вижу ее лицо. Уже двадцать лет оно не меняется. Образ, который у меня сохранился, застыл, когда я видел ее в последний раз. Память, как и фотографии, замораживает воспоминания.
Ты успел пожить в трех домах. Когда твоя мать была беременна тобой, твои родители жили в маленькой квартирке. Отец не хотел, чтобы его дети росли в тесноте. Он говорил «мои дети», хотя ни одного еще не было. Они с матерью осмотрели полуразрушенный замок, принадлежавший отставному полковнику жандармерии, который никогда в нем не жил, поскольку полагал, что сначала нужно произвести определенные работы. Твоего отца, директора государственной строительной компании, не особо смущал масштаб стоящих задач. Матери же понравился парк. Они переехали в апреле. Ты родился в клинике на Рождество. Служанка постоянно поддерживала огонь в трех помещениях замка: на кухне, в гостиной и в спальне родителей, где ты спал первые два года. Когда у тебя появился брат, работы еще не начинались. Вы прожили в роскошной неустроенности еще три года, пока не родилась сестра. В тот момент, когда твои родители решили подыскать менее неудобное место, отец объявил матери, что уходит от нее. Она нашла меньший и не такой красивый, по сравнению с замком, дом, зато более уютный и теплый. В нем у тебя была твоя вторая комната, которую ты занимал, пока в двадцать один год не съехал жить с молодой женой. В этом небольшом доме была твоя третья комната. И последняя.
В первый раз, когда я тебя увидел, ты находился у себя в комнате. Тебе было семнадцать. Ты жил в доме матери, на втором этаже, между комнатами брата и сестры. Ты редко оттуда выходил. Дверь оставалась заперта на ключ, даже когда ты был у себя. Твои брат и сестра не припомнят, чтобы к тебе заходили. Если они хотели что-то тебе сказать, то говорили через дверь. Никто не приходил делать уборку, ты занимался этим сам. Не знаю, почему ты открыл мне, когда я постучал. Ты не спросил, кто там. Как ты догадался, что это был я? По тому, как я подходил, как скрипел паркетом? Ставни были закрыты. Комнату неярко освещала красная лампа. Ты слушал King Crimson, I Talk to the Wind, и курил. Мне подумалось о ночном заведении. Все это среди бела дня.
Твоя жена потом вспоминала, что, прежде чем упасть со стола, оставленный тобой комикс был раскрыт на какой-то странице. Твой отец купил с десяток экземпляров этого комикса и предлагает их всем подряд. Он знает наизусть все тексты и картинки этой книги, каковая не имеет к нему никакого отношения, но с которой он в конце концов стал себя отождествлять. Он ищет страницу, а на странице фразу, которую ты выбрал. Он заносит свои соображения в папку, постоянно лежащую у него на письменном столе, на ней написано: «Гипотезы самоубийства». Если ты откроешь стенной шкаф слева от его письменного стола, то обнаружишь там десяток помеченных теми же словами папок того же формата, набитых рукописными страницами. Он цитирует надписи из этого комикса, как будто это пророчества.
Ты редко бывал неправ, поскольку говорил мало. А говорил мало потому, что редко выбирался на люди. Если ты появлялся на людях, то слушал и присматривался. Ты навсегда останешься прав, потому что больше не говоришь. По правде говоря, ты все еще говоришь из-за тех, кто, вроде меня, тебя оживляет и расспрашивает. Мы слышим твои ответы и восхищаемся их мудростью. Ну а если факты опровергают твои советы, упрекаем себя, что плохо их истолковали. Тебе истины, нам заблуждения.
Ты все еще жив, пока живы те, кто тебя знал. Ты умрешь с последним из них. Если только кто-то не оживит тебя словами в памяти своих детей. Сколько еще поколений ты так, как изустный персонаж, проживешь?
В Париже ты пошел на концерт. В конце первого отделения певец перерезал себе вены и, описав рукой дугу, разбрызгал кровь над первыми рядами. Капли упали на твою кожаную каштанового цвета куртку и, высохнув, слились с нею по цвету. После концерта ты в компании друзей отправился в бар, чье название не мог потом вспомнить. Ты часами разговаривал с первыми встречными. Потом вы отправились на поиски другого кафе, но все они были закрыты. Вы улеглись на скамейках в сквере у вокзала Сен-Лазар и обсуждали форму облаков. В шесть утра вы позавтракали. В семь сели на первые поезда, чтобы разъехаться по домам. Когда на следующий день друзья пересказали тебе, что ты говорил посторонним в кафе, ты ничего об этом не помнил. Как будто вместо тебя говорил кто-то другой. Ты не узнавал ни своих слов, ни хода мысли, но они нравились тебе больше, чем если бы ты помнил, что их сказал. По большей части стоило кому-то другому выговорить твои слова, как ты начинал их любить. Ты записал то, что тебе повторили. Ты был дважды автором записанного тобой текста.
Твоя жизнь была гипотезой. Те, кто умирают старыми, сливаются в массив прошлого. Думаешь о них и представляешь, кем они были. Думаешь о тебе и представляешь, кем ты мог бы стать. Ты был и остаешься массивом возможностей.
Твое самоубийство было самым важным высказыванием в твоей жизни, но ты не пожнешь его плодов.
Мертв ли ты, если я с тобой говорю?
Если бы ты еще жил, были бы мы друзьями? Куда ближе я сходился с другими. Но время разлучило меня с ними так, что я этого не заметил. Достаточно позвонить – и все восстановится. Никто из нас не хочет рисковать разочарованием от новой встречи. Твое безмолвие стало красноречием. Но они, все еще способные говорить, остаются безмолвными. Я и не вспоминаю о них, хотя был к ним близок. Но ты, некогда далекий, сдержанный и сумрачный, теперь блещешь рядом со мной. Когда сомневаюсь, я спрашиваю твоего совета. Твои ответы больше подходят мне, чем те, которые могли бы дать они. Где бы я ни был, ты преданно меня сопровождаешь. Исчезли они. Ты – великий присутствующий.
Ты – книга, которая говорит со мной, когда я захочу. Твоя смерть написала твою жизнь.
Из-за тебя мне становится не грустно, а тяжело. Ты – помеха моей неизлечимой легкости. Когда я слишком взвинчен, стоит по неизвестной причине привидеться твоему липу, как я снова отдаю должное окружающим меня людям. Вещи обретают выразительность, какой обычно я за ними не замечаю. Я вместо тебя извлекаю пользу из того, чего ты больше не знаешь. Мертвый, ты делаешь меня более живым.
Тебе было пять лет, ты никак не мог натянуть на себя пуловер. Брат, хотя и младше на два года, показал, как это делается. Твой отец унизил тебя, посоветовав в насмешку брать с него пример и добавив, что ты на это неспособен. Брат, который обожал тебя наравне с отцом, оказался между двумя огнями. Не желая никого ранить, он не стал кичиться отцовским замечанием. Его скромность унизила тебя еще более.
Ты покоишься в одиночку в могиле с надгробьем из черного камня, на котором золотыми буквами выгравированы твои имя и фамилия. Ниже даты твоих рождения и смерти, их разделяет двадцать пять лет.
Когда мне сообщают о самоубийстве, я вспоминаю о тебе. Однако же когда мне сообщают, что кто-то умер от рака, я не вспоминаю о своих дедушке и бабушке, которые умерли от него. Они делят его с миллионами других. Ты собственник самоубийства.
Руина – случайный эстетический объект. Украшательство тут ни при чем. Руину не делают, ее не поддерживают. Руины тяготеют к низу, к куче. Красивее всего то, что, несмотря на обвал, остается стоять. Воспоминание о тебе и есть высота, а твое тело – низ. Твой призрак продолжает возвышаться в моей памяти, тогда как скелет разлагается в земле.
Тебе нравилось, что ты родился 25 декабря: «Все празднуют, и им не до того, что это мой праздник. Забыт – и это избавляет от нелепой необходимости сиять».
Один тип как-то сказал тебе: «Я люблю тебя». Это был не я. При твоей жизни я об этом не думал, но сегодня могу сказать то же самое, хотя речь не о той любви, в которой тебе признались, Мои слова слишком запоздали. Они не изменили бы твое решение, но изменили бы мои воспоминания. Любить кого-то начиная с его смерти – не дружба ли это?
Я знаю только одну твою фотографию. Я сделал ее в твой день рождения. Ты был у нас. Моя мать испекла пирог. Я заранее приготовил фотоаппарат, чтобы тебе не пришлось несколько раз повторять сцену, пока я сделаю снимок. Я сфотографировал без вспышки тот момент, когда ты задувал свечи. Изображение расплывчато. Черно-белый снимок. Твои щеки впали от вздоха, губы сжимаются, чтобы вытолкнуть воздух. Я навел камеру на тебя, кто вокруг, не видно. На тебе толстый шерстяной свитер. Жизнь ускользает из твоих легких, дабы загасить огоньки. Ты выглядишь счастливым.
Умерев молодым, ты никогда не будешь старым.
Твой дедушка говорил меньше, чем ты. Его обычно видели улыбающимся, когда он молча проходил со своей удочкой под деревьями, направляясь по дороге на берег реки, окаймлявшей парк, где он имел обыкновение проводить послеполуденные часы. Однажды, когда я выкрутасничал в нависших над водой ветвях, у меня с руки соскользнули часы. Спустя несколько лет засушливым летом, когда уровень воды в реке сильно понизился, твой дедушка их нашел. Я починил их. Они снова тронулись в путь. Ты был мертв уже два года.
Твоя подруга, отчим которой управлял большим отелем, подыскала тебе стажировку на лето. Ты работал портье и убирал номера. Мне трудно представить тебя в униформе грума, в накидке иной эпохи и красно-черной каскетке. Убирая за постояльцами комнаты, ты находил неожиданные предметы. Однажды в ящике тумбочки у человека, которого ты назвал «банкиром», остались нераспечатанный набор порнографических гомосексуальных журналов и нераспакованный дилдо. Ты показал их мне. Ты их не открывал. Нашли ли их после твоей смерти? Как истолковали их наличие у тебя?
Ты часто говорил мне о «Падении Гарниери». Его автор, Просперо Мити, никогда не перечитывал свои книги в печатном виде, довольствуясь гранками. Однажды в виде исключения он прочел одну из них и обнаружил, что порядок глав в ней не соответствует тому, что он написал. Книга в таком виде ему понравилась, и он не стал требовать, чтобы последующие издания были исправлены. Ты узнал об этой забавной истории уже после прочтения книги. И не поленился перечитать ее, чтобы установить исходный порядок.
На лифте ты спускался, но не поднимался.
Ты полагал, что, постарев, станешь менее несчастным, поскольку у твоей печали появятся основания. По молодости лет твой раздрай оставался беспросветным, поскольку ты находил его необоснованным.
Твое самоубийство было исполнено скандальной красоты.
Однажды зимой ты в одиночку отправился на лошади за город. Было четыре часа дня. Ты находился в нескольких километрах от конюшен, как вдруг потемнело. Надвигалась гроза. Она разразилась, когда твоя лошадь шла галопом среди унылых полей. Силуэт города вырисовывался вдали в синих и черных тонах. Молнии и гром не пугали животное. Тебя наэлектризовал разгул непогоды. Ты составлял единое целое с животным, чей запах усиливался дождем. Ты заканчивал путь среди темной мокряди, подковы лошади на каждом шагу взбивали вязкую влажную землю.
Ты чаще читал, стоя в книжном магазине, чем сидя в библиотеке. Ты хотел открыть литературу сегодняшнюю, а не вчерашнюю. В библиотеках прошлое, в книжных лавках настоящее. Тебя, однако, больше интересовали покойники, чем современники. В первую очередь ты читал тех, кого называл «живыми мертвецами»: умерших авторов, которых продолжают публиковать. Ты доверял издателям обновить сегодня вчерашнее знание. Ты не слишком верил в чудесное открытие забытых писателей. Ты полагал, что время сортирует и поэтому лучше читать публикуемых сегодня авторов вчерашнего дня, чем сегодняшних авторов, которых завтра забудут.
В городе было два книжных магазина. Меньший был лучше, но в большом можно было читать, не чувствуя себя обязанным купить книгу. Там было несколько продавцов и несколько помещений, за покупателями особо не следили. В маленьком ты чувствовал на себе взгляд хозяина. Ты ходил туда не для того, чтобы открыть для себя новые книги, а для того чтобы купить уже выбранные.
Я слышал, как ты подражаешь жившему возле дома твоей матери старику-крестьянину, который сжимал традиционную формулу вежливости «Привет, как делишки?» до «Привышки?». Ты приближался с протянутой рукой, словно собираясь, как обычно, поздороваться, и в последний момент бросал встречному это приветствие. Ничто его не предвещало. Ты не повторял, чтобы рассмешить, второй раз. Ты не забавлялся по заказу.
Ты утверждал, что вечером становишься ниже, чем утром, потому что вес сплющивает тебе позвонки. Ты говорил, что ночь возвращает твоему телу то, что забрал день.
Ты курил американские сигареты из светлого табака. Твоя комната была пропитана их сладковатым запахом. Глядя, как ты куришь, хотелось закурить самому. Сигарета становилась в твоей руке художественным объектом. Любил ли ты курить или всего лишь представляться курящим? Ты выпускал идеальные кольца, плотные и толстые, они пролетали пару метров, прежде чем окутать предмет и на нем рассеяться. Я вспоминаю их ночные траектории в контровом освещении лампы. Когда я видел тебя в последний раз, ты бросил курить, но не пить. Поглаживая себя по животу, ты радовался, что пополнел, хотя разница была едва заметна. Твоя фигура ничуть не изменилась.
Объяснить твое самоубийство? Никто на это так и не рискнул.
Нельзя сказать, что ты танцевал. Напрасно вокруг тебя раздавалась музыка, подхватывал тела́ вихрь басов, в тебя все это не проникало. Ты обозначал шаги, ты скорее изображал танец, чем его исполнял. Ты танцевал в одиночку. Когда кто-то встречался с тобой взглядом, ты улыбался так, будто тебя застали за чем-то нелепым.
Твоему самоубийству не предшествовали неудачные попытки.
Ты не боялся смерти. Ты ее упредил, но по-настоящему ее не хотел: как хотеть то, чего не знаешь? Ты не отверг жизнь, а подтвердил свою склонность к неизвестному, заявив, что если по ту сторону что-то существует, то там лучше, чем здесь.
Читая книгу, ты то и дело возвращался к странице под шапкой «Книги того же автора». Ты не знал, захочется ли тебе читать другие сочинения, но тебе нравилось представлять, что скрывается за их названиями. Ты не стал читать «Местожительство – Земля», опасаясь, что собранные там стихотворения окажутся недостойны этого названия. Непрочитанными они наличествовали сильнее, чем если бы разочаровали тебя по прочтении.
Посреди недели у тебя порой возникало ощущение, что уже воскресенье.
Ты не любил путешествовать. Редко бывал за границей. Ты проводил время у себя в комнате. Тебе казалось бесполезным проделывать километры пути, чтобы оказаться в менее уютных, чему тебя, стенах. Тебе достаточно было представить себе воображаемый отпуск. Ты отмечал в блокноте те действия, которые мог бы предпринять, следуя тенденциям современного туризма. Рассматривать богомольцев в индийском храме. Нырять на Бали. Кататься на лыжах в Валь-д’Изере. Посетить выставку в Хельсинки. Плавать в Порто-Веккьо. Когда твоя комната тебя утомляла, ты успокаивался, перечитывая свои заметки о воображаемом отпуске, и закрывал глаза, чтобы воочию их представить.
Однажды я спросил тебя, почему ты так мало путешествуешь. Ты рассказал мне историю об одном писателе, приятеле твоей матери, который получил стипендию, чтобы провести несколько месяцев в другой стране. Он намеревался собрать материалы для романа на политическую тему, действие которого развивается в вымышленной стране по образу и подобию той, куда он прилетел, поставленной тридцать лет назад на колени диктатурой. Оказавшись на месте, он в первый же день осознал всю абсурдность своего предприятия: сбор материалов оказался для него совершенно бесполезным. Вполне хватало воображения, но, чтобы понять это, ему пришлось предпринять путешествие. Полугодовая поездка уложилась в два дня. Он сел на первый же самолет и отправился восвояси.
Я не знал, говоришь ли ты на других языках. Однажды к твоей матушке приехала ирландская подруга. Она не говорила по-французски. Ты общался с ней на безукоризненном английском.
Только живые кажутся непоследовательными. Смерть замыкает череду событий, из которых складывается их жизнь. И приходит пора смиренно искать в них смысл. Отказать им в нем означало бы признать, что отдельная жизнь, а следовательно жизнь вообще, абсурдна. Твоя жизнь так и не достигла связности законченного дела. Эту связность ей придала твоя смерть.
Однажды ты отправился на своем синем мотоцикле в сторону моря. Ты ехал со скоростью 180 километров в час. Какая-то машина подрезала тебя. Обгоняя ее, ты сделал рукой оскорбительный знак. Через тридцать километров, когда ты уже съехал с автострады, эта машина обогнала тебя и перекрыла тебе на перекрестке путь. Ты не знал, чего хочет водитель, но он держал полные обороты на нейтральной передаче, не трогаясь с места. Два человека на заднем сидении разглядывали тебя, подначивая друг друга. Ты слез с мотоцикла и направился к машине. Они тронулись с места, прежде чем ты подошел. Добравшись до пляжа, ты по чистой случайности снова наткнулся на них. Увидев тебя издалека, они подумали, что ты гнался за ними. Ты направился к ним, так и не сняв с головы шлем. Они были в купальных костюмах. Они поспешно подобрали свои пожитки и, оглядываясь на бегу, дали деру.
На людях из-за твоей манеры молча наблюдать за окружающими всем становилось не по себе, будто ты – статуя, которая дышит, безразличная к наблюдаемому ей мельтешению.
То, что ты выбрал покончить с миром, освобождает от этого переживших тебя. Им видно то, что ты просмотрел. Их боль, когда они думают, что ты уже ничто, доставляет им удовольствие.
В искусстве отступить значит завершить. С исчезновением ты застыл в какой-то негативной красоте.
В доме твоей матери жили старый сторожевой пес и домашние коты, вялые, никчемные. Мы повторяли такую присказку: корми кошку всю жизнь, в один прекрасный день она тебя бросит; покорми собаку один день, она будет верна тебе всю жизнь. Ты был кошкой, я – собакой.
Ты преуспевал в том немногом, за что брался.
Когда я видел тебя в последний раз, на тебе была белая хлопчатая рубашка. Залитые солнцем, вы с женой замерли навытяжку на лужайке перед замком, где проходила свадьба моего брата. Ты был не чужд энтузиазму церемонии, я же чувствовал себя отчужденным, не узнавал в этом светском сборище свою семью. Тебя, казалось, не слишком смущали ни буржуазный церемониал, ни выбор моим братом в качестве свидетелей своей любви третьих, весьма не близких лиц. Куда-то делся тот отсутствующий и грустный взгляд, который всегда отличал тебя на публичных сборищах. Ты улыбался, разглядывая слегка захмелевших от вина и солнца людей, переговаривающихся на просторном лужку между белокаменным фасадом и двухсотлетним кедром. После твоей смерти я часто спрашивал себя, была ли та улыбка, последняя, которую я видел у тебя на лице, насмешкой или же, напротив, выражением доброжелательности со стороны того, кто знал, что вскоре откажется от своей доли земных радостей. Ты не скорбел, что их лишишься, но и не сожалел, что вновь их вкушаешь.
Ты не колебался. Ты заранее подготовил ружье. Ты зарядил его крупной дробью. Ты выстрелил себе в рот. Ты знал, что самоубийство из охотничьего ружья может не удаться, если целить в висок, в лоб или в сердце, поскольку отдача отворачивает ствол от цели. Если же его удерживает рот, сбоев почти не бывает. Если бы ты хотел объявить о своем самоубийстве, то есть от него отказаться, ты бы выбрал какой-нибудь мягкий метод. Твой был жесток, как удар под корень. Ты вынашивал то, что совершил. Ты решился, и тебя ничто не могло остановить. Твой взгляд уже не скитался по окружающему миру, а выцеливал свою мишень. Как-то один из псов твоей матери бросился на другую собаку, которая пробегала в доброй сотне метров от него. Он сорвался с места, помчался к ней, схватил зубами за загривок и встряхнул, как мышь. Он убил бы ее, если бы его не оттащили. У вас с ним был одинаковый взгляд.
В твоем самоубийстве действие дало обратный результат: жизненная сила привела к своей смерти.
Рядом с тобой твоя жена обычно молчала. Я не помню ее голос. О ее согласии с тобой можно было понять по взгляду. Смотрела она в основном на тебя, кто бы вас ни окружал. Тебя ободряла ее застенчивость. Ее скромность вторила твоему молчанию. Вы курили одни и те же сигареты. Имели одну пачку на двоих. Она водила машину, ты – мотоцикл. У вас не было детей. Она работала. Она зарабатывала на вас двоих, ты продолжал изучать экономику. Она обожала твои теории, твой язык. Что с ней стало? Оправилась ли она после твоей смерти? Думает ли о тебе, занимаясь любовью? Вышла ли снова замуж? Убивая себя, не убил ли ты заодно и ее? Не назвала ли она в память о тебе сына? Если у нее родилась дочь, рассказывает ли она ей о тебе? Что она делает в твой день рождения? А в день твоей смерти? Приносит ли тебе на могилу цветы? Где находятся твои фотографии, которые она делала? Сохранила ли она твои вещи? Пахнут ли они еще тобой? Душится ли она твоей туалетной водой? Что она сделала с твоими рисунками? Висят ли они в рамках в одной из комнат ее дома? Не обустроила ли она твой музей? Какие мужчины пришли тебе на смену? Знал ли ты их? Не исключил ли воспоминаниями о себе любую возможность преемника?
При пробуждении, когда ты лежал, вытянувшись в постели, в темноте, за закрытыми ставнями, твои мысли текли как вода. Они замутнялись, когда ты вставал и раздвигал шторы. Неистовство дневного света стирало ночную ясность. Ночью сон жены доставлял тебе просветленное одиночество. Днем люди становились в тебе перегородками и мешали услышать то, что ты слушал ночами: голос твоего мозга.
Ты подмял под себя все мои воспоминания о грустной рок-музыке. Когда я слышу какие-то песни, они окрашены твоим рассеянным присутствием. Ты не читал стихи, ты их декламировал. Ты любил слова песен без музыки. Твоей поэзией был рок.
Ты говорил, что лучше слушать рок на иностранном языке, который не очень-то понимаешь. Что слова становятся красивее, когда понимаешь их наполовину. Что дадаизм мог бы многое дать року, совпади они по времени.
Ты не посещал психоаналитика, но проводил немало времени за самоанализом. Ты читал Фрейда, Юнга и Лакана. Ты размышлял над психоанализом, но не практиковал его. Ты думал, что лечение может свести тебя к норме, лишить своеобразия пестуемую тобой странность. Ты любил слушать других. Тебе легко доверялись. Молчаливый, внимательный, толковый, ты помогал не столько себе, сколько тем, кому был наперсником.
Ты собирал услышанные на улице фразы. Одна из твоих любимых: «Я, конечно, люблю собак, но обожаю я динозавров».
Ты коллекционировал имена собственные. Ты вставил в рамку список избирателей, собрав вместе кандидатов с несуразными фамилиями.
Ты хранил на кассете коллекцию телефонных сообщений, по ошибке оставленных тебе на автоответчике. Одно из них: «Добрались хорошо. Добрались хорошо. Добрались хорошо», которое медленно повторяет отчаявшаяся пожилая женщина.
Мы много говорили по ночам, ограниченные только восходом солнца. Однажды ты без остановки проговорил восемь часов о Фрейде и Марксе, перемежая свою речь рассуждениями о циклах Кондратьева. Твои отступления удлинялись по мере того, как ты допивал, смешивая их наудачу, алкогольные напитки твоей матери. К рассвету ты придумал «коктейль Кондратьева», налив в большой стакан понемногу из каждой из пятнадцати бутылок. Все перекрыл вкус пастиса, придавшего к тому же напитку молочную мутность. Ты залпом выпил эту смесь, перед тем как идти спать.
Ты хранил свои ежедневники за истекшие годы. Ты перечитывал их, когда сомневался, что существуешь. Ты заново проживал свое прошлое, наудачу их перелистывая, словно бегло просматривал хронику самого себя. Тебе случалось наткнуться на встречу, о которой ты ничего не помнил, и на человека, чье имя, написанное твоей рукой, ничего тебе не говорило. Однако по большей части события вновь возникали в твоей памяти. Тогда тебя раздражало, что ты не помнишь, что происходило в промежутке между записанными фактами. Ты ведь жил и в эти мгновения. Куда они подевались?
Ты не отличался плодовитостью. Ты предпочитал делать мало, но хорошо, или лучше ничего, чем плохо. Ты не обращал внимания на современную алчбу. Ты не порывался иметь все и сразу. Тебе нравилось отказывать себе в еде, питье, курении, разговорах, прогулках. Ты мог целыми днями обходиться без света, счастливый в своей комнате с задернутыми шторами. Тебе хватало воздуха. Тебя радовала тишина. И эта скудость была для тебя классикой.
Ты не испытывал тяги к зрелищности, но выбранная тобой смерть требовала продумать место, время и способ. Чтобы ее осуществить, тебе пришлось ее инсценировать.
Ты предавался нескончаемым сеансам сомнения. Ты называл себя экспертом в этом деле. Но сомневаться было для тебя настолько утомительно, что в конце концов ты начинал сомневаться в сомнении. Однажды я увидел тебя на излете одиноких послеполуденных раздумий. Ты оцепенел в полной неподвижности. Пробежка в несколько километров по густому лесу, чреватому лощинами и подвохами, не изнурила бы тебя до такой степени.
Твое самоубийство делает насыщеннее жизнь тех, кто живет дальше. Если им угрожает скука или если в повороте жестокого зеркала вспыхнет абсурдность их жизни, пусть они вспомнят о тебе – и боль существования покажется им предпочтительнее тревоги более не быть. Они смотрят на то, чего ты больше не видишь. Слушают то, чего ты больше не слышишь. И напевают то, чего ты больше не поешь. Радость простых вещей предстает перед ними в свете твоей печальной памяти. Ты – тот черный, но насыщенный свет, что снова освещает из твоей ночи день, которого они уже больше не видели.
Как-то ты катался с друзьями в горах на лыжах. В первый день вы забрались как можно выше, на верхушку ледника, который был виден с лыжной базы. Твои друзья быстро скатились вниз, им было холодно. Ты остался один в небольшой ложбине, вглядываясь в выпавший накануне свежий снег. В контровом солнечном освещении ветер снимал с его поверхности тонкую пленку. В этой ложбине скалы, кусты и земля были покрыты одной и той же холодной белизной. Настоящая ночь среди дня, негатив темноты. Ты, казалось, спал идеальным сном, бодрствующий, проницательный, как в своих лучших снах.
Заупокойную мессу служили в маленькой церквушке возле дома твоей матери. Я больше никогда в ней не бывал. Небольшое серое строение на самом краю дороги. Чтобы попасть внутрь, нужно было подойти сзади, обогнув ее по песчаной дорожке. Там не было сада, только одно дерево. Когда ты был жив, я не слышал, чтобы ты произносил слова «месса» или «церковь». Но тебе случалось рассуждать о Боге, как будто это была абстрактная единица, тема разговора, диковинка, припасенная для других. Казалось странным, что священник говорит о тебе, хотя тебя не знал. Вы жили напротив, но его назначили в этот приход совсем недавно. Он воздавал тебе посмертную хвалу. В его словах не было ни правды, ни лжи. Они могли с равным успехом относиться и не к тебе. Хотя он подготовил свою проповедь на пустом месте, он выглядел взволнованным, произнося ее, как будто говорит о дорогом ему существе. Я не сомневался в его искренности, хотя и полагал, что его взволновала скорее Смерть как таковая, а не твоя именно. Посреди мессы кто-то вдруг очень громко задышал. Я не видел, откуда доносится прерывистое дыхание. Как будто какое-то дикое животное загнали после долгой облавы в тупик. Люди вскочили с мест, они подняли и уложили на сдвинутые стулья твоего брата. Его слезы обернулись нервным срывом. Спустя несколько минут, пока он еще продолжал всхлипывать, такой же обморок настиг твою сестру. Ее тоже уложили. Двое затерянных в печали твоего погребения зверьков. Твоя мать еще держалась на ногах. Слегка ошарашенный священник продолжил свою проповедь. На выходе из церкви люди не осмеливались смотреть друг на друга, словно чувствовали себя виновными. В чем? Твоя мать, опустив голову, медленно шла, опираясь на руку твоего отчима. Отец, где-то в стороне, чувствовал себя самым виноватым. Но его виновность была твоим последним унижением: он присваивал твою смерть, объявляя себя ответственным за нее.







