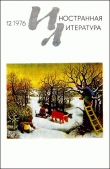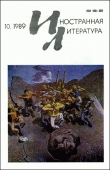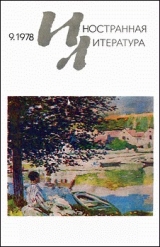
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Эдна О'Брайен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Он зашел к ним в тот летний день выпить чаю и – это было предложение ее отца – остался на четыре дня: помог управиться с сеном, промазал каждую машину на ферме. Он понимал в машинах. Укрепил разболтавшиеся щеколды и дверные ручки. Мэри застилала по утрам его постель и каждый вечер приносила кувшин дождевой воды из бочки, чтобы он мог умыться. Она выстирала клетчатую рубашку, в которой он приехал, и оголенная спина его в тот день облупилась под солнцем. Мэри смазала ее молоком. То был его последний день у них. Когда поужинали, он предложил поочередно прокатить на мотоцикле всех детей – кроме малолеток. Ее очередь оказалась последней, она чувствовала, что он специально так устроил, – хотя, быть может, ее братья более настойчиво желали прокатиться первыми. Никогда не забыть ей этой поездки. Мэри вся разгорелась от изумления и радости. Он ей сказал, что она хорошо сидит на мотоцикле, и, когда можно было отнять руку от руля, касался ободряюще ее сцепленных пальцев. Солнце катилось к западу, и цветы дрока полыхали желтым. Целые мили ехали в молчании; она сжимала его живот в несмелом и неистовом объятии влюбленной девочки, и все время, пока ехали, казалось, что въезжают в золотое марево. Он увидел озеро в полном его великолепии. На пятой миле, у моста, сошли и сели на известняковую гряду, толсто затканную мхами и лишайниками. Она сняла с шеи у него клеща и прикоснулась пальцем к чуть заметной точке, откуда клещ отсосал капельку крови. Тогда-то они и танцевали. Звенели жаворонки и бегущая вода. Сено лежало на полях зеленое, неграбленное – воздух был полон его сладостью. Они танцевали.
– Милая Мэри, – сказал он, серьезно глядя ей в глаза. Глаза у нее были зеленовато-карие. Он признался ей, что не может любить ее, потому что любит уже свою жену и детей, и вообще он сказал: – Ты еще слишком юная и слишком чистая.
На следующий день, уезжая, он просил разрешения прислать ей кое-что по почте, и она получила это двенадцать дней спустя: сделанный тушью портрет девушки, очень похожей на нее, только пострашней.
– Ну и подарок! – сказала ее мать, ждавшая золотого браслетика или брошки. – С этим ты далеко не уедешь.
Они повесили портрет в кухне на гвоздь, но, провисев там некоторое время, он свалился, и кто-то – вероятно, ее мать – употребил его вместо совка для пыли. С тех пор это стало его назначением.
Мэри хотела сохранить портрет, убрать в комод, но не отваживалась на такое. В семье у них были сдержанны и строги, и только если кто-то умирал, могли дать волю чувствам или слезам.
«Милая Мэри», – сказал он ей. Он не прислал ни одного письма. Еще два раза было лето, два раза зацветала фитолакка и семена крестовника разлетались по ветру, деревья в лесничестве стали на фут выше. В Мэри жила уверенность, что он вернется, и гложущее опасение, что этого не будет.
– «Ах, дождичку не разойтиться, не разойтиться! Откуда взяли старики, что дождичку не разойтиться, не разойтиться?..» – пел наверху в отеле Броган, в чью честь устраивали вечеринку.
Расстегнув коричневый жилет, он сидел, развалившись на стуле, в приемной и говорил, что им тут задали сегодня настоящий пир. Гусь с выползающей картофельной начинкой был внесен на блюде и поставлен посреди стола. В сервировку вошли, кроме того, сосиски, до блеска вытертые стаканы донышками вверх, тарелочки и вилки на каждого.
– Ужин а-ля фуршет, – определила это миссис Роджерс.
В шикарных домах Дублина, она читала своими глазами в газете, помешаны на этих ужинах – когда встают, чтоб есть, и пользуются только вилкой.
Мэри внесла ножи на случай, если кто окажется в затруднении.
– Америка на дому! – сказал Хики, подкладывая в дымящий камин торфа.
Дверь из бара на улицу заперли на засов, ставни закрыли, и под взглядами восьми приглашенных миссис Роджерс принялась разрезать гуся. Потом стала отдирать крылышки и ножки, то и дело вытирая руки кухонным полотенцем.
– Держи, Мэри, это для мистера Брогана, он ведь почетный гость.
Мистер Броган получил значительную часть гусиной грудки и еще пупырчатой кожи в придачу.
– Не забывай сосиски, Мэри, – сказала миссис Роджерс.
Мэри должна была делать все – раздавать порции, накладывать начинку, спрашивать, кто желает бумажные тарелочки, а кто простые. Миссис Роджерс запаслась бумажными тарелочками, полагая, что это изысканнее.
– Я скушал бы сейчас молоденькую девочку, – сказал Хики.
Мэри удивило, что городские настолько бесцеремонны и грубы. Она даже не улыбнулась, когда он схватил ее за палец. Лучше была бы дома. Она знала, что там теперь делают: ребята – за уроками, мать печет каравай из непросеянной муки, днем никогда не остается времени на выпечку; отец скручивает сигареты и говорит сам с собой. Джон научил его скручивать сигареты – с тех пор он каждый вечер скручивает четыре штуки и все их выкуривает. Отец у нее– хороший человек, только суровый. Через какой-нибудь час прочтут «Аве Марию» и разойдутся спать – ритм жизни в доме у них никогда не нарушался, свежий хлеб всегда делался суховатым к утру.
– Десять, – сказала Дорис, прислушиваясь к бою часов.
Вечеринка началась поздно. Мужчины задержались на пути из Лимерика, где проходило состязание борзых: сбили поросенка, так хотели поскорей доехать. Он бродил по дороге, а машина выскочила из-за угла, его раздавило мгновенно.
– Сроду не слыхивал такого визга, – сказал Хики, потянувшись к аппетитному гусиному крылышку.
– Захватить бы его сюда, – сказал О'Тул. Он работал в каменоломне и не имел дела с поросятами и фермерами. Был долговяз, мосласт, с пронзительно зелеными глазами и лицом напоминал борзую. Патлы его так отливали червонным золотом, что казались крашеными, а в действительности выцвели на солнце. Ему не дали до сих пор еды.
– Хорошее обхождение с гостем! – сказал он.
– Мэри, бог мой, ты ничего не положила мистеру О'Тулу! – сказала миссис Роджерс, подталкивая Мэри сзади, чтобы она двигалась быстрее.
Мэри отвалила на бумажную тарелочку увесистый кусок, и О'Тул поблагодарил ее и сказал, что они еще станцуют, позже. На его взгляд, она была куда смазливее этих никчемных городских: высокая, поджарая, как и он сам, с черными неподстриженными волосами, которые на чей-то взгляд, может, висят и не по моде, а для него так очень даже подходяще, он любит длинные волосы и простодушных девчонок. Если бы позже можно было залучить ее в какую-нибудь из комнат, где никто не помешает... Чудные у нее глаза такие, если присмотреться, глубокие и бурые – как есть болотная трясина.
– Задумайте желание, – сказал он и протянул ей дужку.
Она задумала сначала полететь в Америку на самолете, но сразу же перерешила: выиграть много денег и купить отцу с матерью дом у шоссейной дороги, в долине.
– Это ваш брат-епископ? – отлично зная, что это он, спросила Эйсн у миссис Роджерс про портрет священника с безвольным подбородком, висящий в раме над камином.
Мзри и не заметила, когда начертила буквы «Дж» на пыльном стекле портрета, и теперь ей казалось, что все видят их и понимают, как они там появились.
– Да, это он, бедняжка Чарли, – гордо отвечала миссис Роджерс и уже собралась развить эту тему, когда Броган неожиданно запел.
– Дайте же человеку спеть, вы что? – цыкнул О'Тул на Эйсн и Дорис, которые уселись вдвоем в продавленном кресле и всё шутили, что оно вот-вот развалится.
В кружевном платье Мэри дрожала. Было промозгло, хотя Хики растопил камин на славу. Комнату не отапливали с тех времен, когда Де Валера поставил в книге автографов свою подпись. От каждого предмета поднимался пар.
О'Тул спросил, желает ли спеть кто-нибудь из дам. Их было пять: миссис Роджерс, Мэри, Дорис, Эйсн и Кристалина – местная парикмахерша, которая для вечеринки освежила красно-рыжий цвет своих волос и говорила все, что пища для нее здесь слишком тяжела (гусь жирный, непроваренный, не нравится ей что-то яркость его мяса; она любит деликатные блюда – кусочек холодной цыплячьей грудки под пикантным соусом). Настоящее имя ее было Кармел, но, сделавшись парикмахершей, она переменила его на Кристалину и стала из шатенки красно-рыжей.
– А вы, я чувствую, поете. Правильно я угадал? – спросил О'Тул у Мэри.
– У них там в горах разговаривать-то не умеют, – сказала Дорис.
Мэри почувствовала, как лицо ее из матового делается красным. Она не стала говорить им... но фамилию отца однажды напечатали в газете, потому что он увидал куницу в молодых посадках; и дома у них пользуются вилкой и ножом, когда едят, а кухонный стол покрывают клеенкой и держат банку с кофе на случай, если кто зайдет. Она не стала говорить им ничего. Только нагнула голову, показывая, что не будет петь.
В честь брата-епископа О'Тул поставил «Далеко в Австралии»: миссис Роджерс попросила. Звуки со скрипом и скрежетом вырывались из граммофонной трубы, и Броган сказал, что и то мог бы спеть это лучше.
– Господи, суп-то мы забыли! – вскричала вдруг миссис Роджерс, бросая вилку и устремляясь к двери. Запланировано было начать угощение с супа.
– Я помогу, – сказала Дорис, впервые за весь вечер поднимаясь с места, и они пошли вниз за кастрюлей темного супа из гусиных потрохов, с утра кипевшего на слабом огоньке.
– Итак, нам нужно по два фунта с каждого мужчины, – сказал ОТул, пользуясь отсутствием миссис Роджерс, чтобы покончить с деликатным денежным вопросом (договорились внести по два фунта на вино; дамы не должны были платить: их пригласили для создания приятной, элегантной атмосферы и, разумеется, для помощи).
ОТул пошел по кругу с кепкой, и Броган сказал, что, если вечеринка в его честь, с него причитается пятерка.
– С меня причитается пятерка, но вы, я думаю, на это не пойдете, – сказал он и протянул два фунта.
Хики, сам ОТул и длинный Джон-Семга, ни разу за все время не раскрывший рта, тоже положили деньги. ОТул передал их миссис Роджерс, когда та вернулась, и предложил «засечь, чтоб не было усушки».
– Большое всем спасибо, – сказала она, засовывая их за чучело совы, стоявшее на каминной полке, под бдительным взглядом епископа.
Миссис Роджерс наполнила бульоном чашки, и Мэри поручили раздавать их. Жир каплями расплавленного золота плавал на поверхности.
– Теперь мне крышка, моя мартышка, – сказал Хики, беря свою чашку из рук Мэри; потом попросил у нее кусок хлеба, поскольку совершенно не привык есть суп без хлеба. – Послушай, Броган, – обратился он к богатому приятелю, – теперь, когда ты человек со средствами, куда ты денешь свои деньги?
– Правда, куда? – сказала Дорис.
– Ну, например, – ответил Броган, подумав, – мы сделаем некоторые преобразования в доме...
В доме у Брогана никто из присутствующих не был: дом находился в Адере, за тридцать миль отсюда, на краю Лимерика. Никто не видел также и его жены, которая, как надо было понимать, жила там постоянно и держала пчел.
– Какие преобразования? – спросил кто-то.
– Обставим, например, гостиную и разобьем цветник.
– А еще что? – спросила Кристалина, думая о всех шикарных платьях, которые накупила бы за эти деньги. Платьях и безделушках.
– А потом, – сказал Броган, опять подумав, – может, даже съездим в Лурд. Не знаю еще, как получится.
– Руку дала бы себе отсечь ради поездки в Лурд! – сказала миссис Роджерс.
– И возвратилась бы опять с двумя, – сказал Хики, но никто не обратил на него внимания.
ОТул налил четыре неполных стакана виски и, отступив немного, проверил уровень во всех стаканах – мужчин всегда ужасно волновала возможная несправедливость при распределении спиртного. Затем расставил бутылки с крепким портером по шесть штук в четырех местах стола и показал каждому из кавалеров, где то, что ему причитается. Для дам был приготовлен джин и апельсиновая.
– Мне только апельсиновой, – сказала Мэри.
– Не будьте такой паинькой, – сказал ОТул и, когда Мэри отвернулась, подлил ей в стакан джину.
Выпили за здоровье Брогана.
– За Лурд, – сказала миссис Роджерс.
– За Брогана, – сказал О'Тул.
– За меня, – сказал Хики.
– Холера тебе в бок, – сказала Дорис, немного захмелевшая от приложения к сидру.
– Не знаю, как насчет Лурда, – сказал Броган, – а вот гостиную обставим обязательно и разобьем цветник.
– У нас тут есть гостиная, – сказала миссис Роджерс, – и ни одна душа туда не ходит.
– Пойдем в гостиную, Дорис, – обратился О'Тул к Мэри, накладывавшей гостям желе из эмалированного тазика; более подходящей посуды для этого не нашлось.
Желе было красное со взбитым белком, но что-то, видно, сделали не так, потому что оно расползалось. Мэри накладывала его в блюдца и думала о том, как все неряшливо и грубо тут, на вечеринке, нет даже настоящей скатерти – только хлорвиниловая пленка – и нет салфеток. А этот тазик с желе... В нем, может, перед этим умывались?
– Теперь пусть кто-нибудь расскажет интересный случай, – сказал Хики, начавший уставать от разговоров о цветниках и гостиных.
– Я расскажу, – извергнулся из своего молчания длинный Джон-Семга.
– Идет, – сказал Броган, потягивая попеременно из стакана с виски и стакана с портером (так только и получаешь удовольствие от выпивки, поэтому-то в барах он предпочитал бы покупать себе спиртное сам, а не страдать от чьей-то скаредности).
– А интересный случай? – спросил Хики.
– Про моего брата, – сказал длинный Джон. – Про Патрика.
– Ну нет уж, хватит этой ерунды, – сказали вместе Хики и О'Тул.
– Нет, пусть расскажет, дайте ему рассказать, – сказала миссис Роджерс, ни разу, правда, не слыхавшая про этот случай.
– Был у меня брат Патрик, – начал длинный Джон. – И вот он, значит, умер. Сплоховало сердце.
– Пресвятая дева, неужто опять это? – сказал Броган, припоминая, о чем пойдет речь.
Но Джона-Семгу не остановили непочтительные замечания мужчин.
– Стою я один раз в сарае, с месяц, как похоронили Патрика, и вижу, выходит он из стены и идет по двору.
– Ой, что бы с тобой было, доведись тебе такое? – обратилась Дорис к Эйсн.
– Дайте ему договорить, – сказала миссис Роджерс. – Говори, Джон-Семга.
– Идет он, значит, на меня. Что ж, думаю, теперь мне делать? Был сильный дождь – вот я и говорю брату: «Спрячься, а то промокнешь».
– А он? – в волнении спросила одна из девушек.
– Пропал, – сказал Джон-Семга.
– О господи, дайте немного музыки, – сказал Хики (он слушал эту историю в девятый или десятый раз, в ней не было ни начала, ни конца, ни середины).
Поставили пластинку, и О'Тул пригласил Мэри танцевать. Он делал массу дополнительных движений и подскоков, время от времени испуская залихватское: «Юпи-и-и!» Броган и миссис Роджерс танцевали тоже, и Кристалина сказала, что пошла бы, если б ее пригласили.
– Давай-давай, выше коленки, Братец Кролик, – говорил О'Тул Мэри, скача по комнате и задевая ножки стульев. Мэри чувствовала себя как-то странно: голова кружилась, кружилась, а под ложечкой было приятное щекочущее ощущение – хотелось лечь навзничь и вытянуть ноги. Это было совсем незнакомое ощущение, и оно пугало ее.
– Пойдем в гостиную, Дорис, – сказал О'Тул, направляя ее в танце к двери и выводя прямо в холодный коридор, где неуклюже чмокнул в губы.
В комнате, откуда они вышли, Кристалина начала плакать. Так действовало на нее вино – она или начинала плакать, или разговаривала с иностранным акцентом, спрашивая при этом: «Почему это я говорю с иностранным акцентом?» На сей раз она плакала.
– В жизни нет радостей, Хики, – говорила она, уронив голову на руки, а ее блузка ползла вверх, выскальзывая из-под корсажа.
– Каких радостей? – спрашивал Хики (он получил спиртного сколько ему требовалось и еще вытянул фунтовую бумажку из-за совы, когда никто не видел).
Эйсн и Дорис сели по бокам длинного Джона, напрашиваясь в гости к нему на тот год, когда поспеет сахарная слива. Джон-Семга жил совсем один в некотором отдалении от местечка и выращивал фрукты. Он был чудаковат и нелюдим и каждый день, зиму и лето, купался в горной речке у себя за домом.
– Старая супружеская пара, – говорил Броган, обхватив рукой миссис Роджерс и принуждая ее сесть, потому что запыхался от танца.
– Я уношу с собой прекраснейшие воспоминания о всех вас, – сказал он и, садясь, притянул ее к себе на колени.
Она была грузная женщина, с каштановыми прядями волос неравной густоты, когда-то бывшими другого цвета.
– В жизни нет радостей, – рыдала Кристалина; из граммофонной трубы вылетела очередь трескучих звуков, и с лестничной площадки вбежала Мэри, спасаясь от своего партнера О'Тула.
– Я дело говорю, – сказал он и подмигнул.
О'Тул стал первым задираться и скандалить.
– Теперь, дамы и господа, анекдотик для смеха, желаете?
– Валяй. – сказал Хики.
– Вот. было, значит, три парня: Пэдди из Ирландии, Пэдди из Шотландии и Пэдди из Англии. И позарез им требовалось...
– Только без сальностей, – оборвала миссис Роджерс, не давая ему брякнуть лишнее.
– Какие еще сальности? – обиделся О'Тул. – Сальности?!
И он потребовал объяснений.
– Здесь девушки, – сказала миссис Роджерс.
– Ах, девушки, – хмыкнул О'Тул, хватая бутылку со сливками, которые забыли подать к желе, и опрокидывая ее над развороченными остатками гуся.
– Эй. эй, приятель. – сказал Хики. отбирая у него бутылку.
Миссис Роджерс сказала, что сейчас самое время расходиться спать, поскольку вечеринка, видимо, уже окончена.
Гости должны были заночевать в отеле. Отправляться домой было поздно, к тому же миссис Роджерс не хотела, чтобы кто-то видел, как они, пошатываясь, выходят от нее в такой час. Полиция следила за ней в оба, не стоило лезть на рожон, по крайней мере до конца рождества. Места ночлега распределили заранее, было три свободные комнаты. Одна – комната Брогана, которую он занимал всегда. Троим оставшимся мужчинам предстояло разделить другой просторный номер; женщинам, включая и миссис Роджерс, отводилась комната за приемной.
– Слезай – приехали! Постельная улица, простынный переулок, – сказала миссис Роджерс, заслоняя решеткой догорающий огонь, и вытащила деньги из-за совы.
– Подсластить... – сказал О'Тул, поливая на этот раз портером блюдо из-под гуся, и Джон-Семга пожалел, что не остался у себя. Ему представился белый день и купание в речке за домом из дикого камня.
– Омывание, – вслух произнес он, смакуя и самое слово, и мысль о холодной воде, приходящей в соприкосновение с телом.
Он мог бы обходиться без людей, люди – хламье. Вспомнил сережки на дереве перед окном, сережки в феврале – беленькие, как снег... А кому нужны люди?
– Кристалина, подъем! – говорил Хики, надевая ей туфли на ноги и похлопывая по икрам.
Броган поцеловал четырех девушек на сон грядущий и через лестничную площадку проводил до двери в комнату. Мэри рада была ускользнуть, пока О'Тул не видит; он сильно буйствовал, и Хики пытался его урезонить.
За дверью Мэри перевела дух; о том, что сюда задвигали мебель, она начисто забыла. Устало принялись освобождать проход. Комната была так заставлена, что негде было повернуться. Вдруг Мэри испуганно напряглась: с лестницы долетали выкрики и пение О'Тула. В апельсиновую ей тогда подмешали джин, теперь она не сомневалась в этом, потому что поднесла ладонь ко рту и ощутила запах своего дыхания. Она нарушила зарок, положенный причастием, нарушила слово; не будет ей за это счастья.
Вошла миссис Роджерс и сказала, что для пятерых кровать тесна, и потому сама она поспит одну ночь на диване.
– Лягте валетом, – сказала она, предупредив, чтобы не обламывали резных завитушек и не болтали до утра. – Спокойной ночи, благослови господь, – и миссис Роджерс притворила дверь снаружи.
– Мило устроила, —сказала Дорис, – всех запихнула сюда... И куда она подалась, интересно?
– Можно взять бигуди? – спросила Кристалина.
Для Кристалины не было на свете ничего важней волос. Она и замуж не пошла бы – ведь тогда нельзя будет оставить на ночь бигуди. Эйсн сказала, что и за миллион не согласилась бы накручивать сейчас волосы, так ее разморило, и, раскинув руки, плюхнулась на стеганое одеяло. Она была потливая и шумная девица, но Мэри предпочитала ее двум остальным.
– А, вот вы где! – сказал О'Тул, толкнув их дверь.
Девушки всполошились и потребовали, чтобы он сейчас же вышел, потому что они готовятся ко сну.
– Пойдем в гостиную, Дорис, – обратился он к Мэри и поманил ее согнутым указательным пальцем. Он был пьян и потому никак не мог поймать ее взглядом, знал только, что она где-то там.
– Иди проспись, ты пьян, – сказала Дорис, а он вдруг на секунду выпрямился и попросил, чтобы она не говорила за других.
– Идите спать, Майкл, вы устали, – сказала Мэри. Она старалась говорить спокойно, потому что он мог выкинуть любой фортель.
– Пойдем в гостиную, слышишь? – сказал он, ухватив Мэри за кисть, и потянул к двери.
Мэри вскрикнула, а Эйсн сказала, что размозжит ему голову, если он не отпустит девчонку.
– Дай-ка мне тот горшок, Дорис! – крикнула она, и тут Мэри начала плакать, испугавшись, что разразится скандал.
Мзри не выносила скандалов. Однажды отец с соседом крупно поспорили при ней из-за межи – Мэри так и не могла забыть этой истории; оба тогда хлебнули лишнего по случаю ярмарки.
– Ты тронулась или рехнулась? – сказал ОТул, заметив, что она плачет.
– Даю две секунды, – предупредила Эйсн, нацелясь поднятым горшком на обалделое лицо О'Тула.
– Подобрались вы тут бесчувственные вороны сонные... вороны... – сказал О'Тул. – Нет, чтобы приобнять мужчину. – И, понося их, каждую в отдельности, он вышел.
Они с большой поспешностью закрыли дверь и приперли ее шкафом, чтобы О'Тул не вломился, когда будут спать.
Оставшись в одних комбинациях, легли; Мэри и Эйсн головами в одну сторону, а между лицами у них – ноги Кристалины.
– У тебя волосы хорошие, – шепнула Эйсн Мэри – единственно приятное, что смогла придумать.
Прочли молитву, пожелали друг другу спокойной ночи и, приладившись поудобней, затихли.
– Эх ты, – сказала Дорис, – в уборную я так и не сходила.
– Теперь не сходишь, – сказала Эйсн, – дверь загородили.
– Я сдохну, если сейчас не выйду, – сказала Дорис.
– И я, – сказала Кристалина, – столько выдули апельсиновой.
Мэри казалось диким, что они говорят так. В ее семье не обсуждали подобные вопросы, шли просто за плетень, и все тут. Однажды фермерский рабочий видел, как она в кустах присела, – и с того дня она ни разу не заговорила с ним, не подавала и виду, что узнаёт.
– Если взять этот старый горшок?.. – продолжала Дорис.
А Эйсн села на кровати и сказала, что не останется в комнате, если тут будут ходить на горшки.
– Что-то надо ведь приспособить, – сказала Дорис.
Она к этому времени встала и включила свет. Подняла, горшок к голой лампочке под потолком и разглядела, что он худой.
– Приспособь его, – хихикнула Кристалина.
С лестницы донеслись шаги, потом захлебывающийся кашель, и О'Тул, бранясь и чертыхаясь, забахал кулаком об стену. Мэри сжалась под простыней, благодарная остальным за то, что они рядом. В комнате смолкли.
«Я побывала на вечеринке. Теперь я знаю, как это», – думала Мэри, заставляя себя уснуть.
Она слышала звук – вроде шума бегущей воды, но непохоже было, что на дворе дождь. Позже она задремала, а на заре услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и порывисто села. Надо было не опоздать домой к ранней дойке, и Мэри встала, взяла в руки туфли и платье и, отодвинув шкаф, протиснулась в приоткрытую дверь.
На лестничной площадке и в уборной расстелены были газеты, стоял тяжелый терпкий запах. В холл из-под двери бара натек портер. О'Тул, не иначе, открыл краны пяти портерных бочек – каменный пол бара и расположенный ниже коридор были сплошь залиты черным портером. Миссис Роджерс оторвет кому-то голову. Мэри надела свои туфли на высоком каблуке и, осторожно выбирая, куда ставить ногу, направилась к выходу. Она ушла, не выпив даже стакана чаю.
Вывела по проулку велосипед. Передняя шина спустила до конца. Мэри накачивала ее минут тридцать. Шина так и осталась сплющенной.
Иней, как ослепительное чудо, пал на улицу, на спящие окна и шиферные крыши прижатых друг к другу домов. По волшебству преобразил загаженную улицу в белую и чистую. Мэри не ощущала разбитости, а с легким сердцем человека, вырвавшегося на свободу, чуть оглушенная полубессонной ночью, впитывала красоту этого утра. Она шла быстро, временами оборачиваясь поглядеть на след от велосипеда и от туфель, тянувшийся по белизне дороги.
Миссис Роджерс проснулась в восемь и, путаясь в широченной ночной рубашке, вылезла из теплой постели Брогана. Мгновенно почуяв неладное, она кинулась вниз, увидела на полу бара и в коридоре портер и побежала будить остальных.
– Дом залит портером, полный запас вина весь, до последней капли, на полу! Мария, матерь божия, за что караешь?! Вставайте!
Она забарабанила в дверь, вызывая девушек по именам. Те протирали сонные глаза, зевали и садились на постели.
– Эта ушла, – сказала Эйсн, глядя на пустую часть подушки, где была голова Мэри.
– У, деревенская хитрюга! – сказала Дорис, когда в своем тафтовом платье спустилась взглянуть на потоп. – Если мне теперь убирать все это в таком платье, я сдохну.
Но миссис Роджерс уже принесла швабры и ведра и взялась за дело. Дверь бара распахнули настежь и стали выплескивать портер на улицу. Собаки подходили и слизывали его, а Хики, который к тому времени поднялся и сошел по лестнице, стоял и говорил, что это просто безобразие – пустить на ветер столько доброго вина. На белом инее оно протаяло широкую площадку и обнажило на земле навоз, оставшийся после вчерашней ярмарки. Виновник преступления О'Тул успел до света скрыться; Джон-Семга ушел плавать, а Броган нежился в постели наверху, ловя последние минуточки тепла, и размышлял о радостях, которые теряет, покидая навсегда «Коммершл-отель».
– А где миледи в кружевах? – спросил Хики, почти не помня лица Мэри, но ясно представляя себе рукава черного платья, окунавшиеся в тарелки.
– Смылась, пока мы спали, – сказала Дорис.
Единодушно согласились, что от Мэри толку было мало и приглашать ее не стоило.
– Она-то и довела О'Тула, – сказала Дорис, – вперед закадрила, а после натянула нос.
А миссис Роджерс поклялась, что сам О'Тул или папаша Мэри, но кто-то еще дорого заплатит за погибшее вино.
– Она теперь небось уж дома, – сказал Хики. стараясь нашарить в кармане окурок (была непочатая пачка, но если вытащить, все станут запускать туда пальцы – а платил-то он).
В полумиле от дома Мэри сидела на берегу.
«Если бы только у меня был милый, чтобы не так пусто жить...» – думала она, постукивая острым каблуком о лед и глядя на причудливые сетки трещин, расходящиеся от проломов.
Бедняги птицы не могли добыть себе пищи, так прохватило землю морозом. Мороз выбелил инеем каждый уголок по всей Ирландии; лежал невиданным соцветием на ветках, на берегу реки, откуда в своей волосатой наготе нырял длинный Джон-Семга, на плугах, зимовавших под открытым небом; на каждом каменистом поле и на всей грязи и неприглядности мира.
Поднявшись, Мэри пошла дальше и думала о том, что же сказать ей матери и братьям и все ли вообще вечеринки такие. Она была теперь на Большом Холме, уже был виден дом – коробочка, белевшая у края света, – он ждал Мэри, чтобы принять ее под свою кровлю.