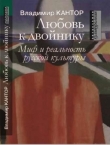Текст книги "«Строгая утеха созерцанья»: Статьи о русской культуре"
Автор книги: Е. Душечкина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
2. Из истории русской литературы XVIII–XIX веков
О. Е. Майорова, Н. Г. Охотин
ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ
Этот раздел в собрании трудов Елены Владимировны Душечкиной является, пожалуй, наиболее пестрым и самым неоднородным. Основная часть вошедших сюда статей не столько развивает, сколько дополняет магистральные направления ее исследований; лишь в некоторых работах прослеживаются излюбленные идеи и сюжеты, связанные с календарной словесностью306306
Так, вопросы календарной, а точнее святочной словесности обсуждаются в связанных между собой статьях: «Антропоморфизация и персонификация времен года в окказиональной поэзии XVIII века» (2010 [№ 180 библиографии трудов Е. В. Душечкиной]) и «Поэма Н. А. Львова „Русский 1791 год“: Жанр, традиция, новаторство» (2011 [№ 187]). См. также ряд работ о Лескове.
[Закрыть], культурной историей антропонимов и литературой для детей. При столь широком тематическом диапазоне производить какие бы то ни было генерализации было бы слишком рискованно, однако одно обобщение все же позволим себе сделать: автор всех этих работ очевидным образом избегает в выборе объекта своего исследования персональной замкнутости. Даже избирая для анализа конкретный текст конкретного писателя, Елена Владимировна, как правило, стремится встроить его в какие-нибудь сквозные линии литературного развития.
Особо пристальный интерес вызывают у Е. В. Душечкиной топосы, риторические формулы, «мемы» – те «свернутые» формы культурной памяти, которые пронизывают ткань словесности, вновь и вновь воспроизводя полузабытые смыслы в новом историческом контексте. Так, ставшая уже классической работа Елены Владимировны «„Империальная формула“ в русской поэзии» (2015 [№ 210]), восходящая к более ранней статье о топике Ломоносова (1998 [№ 94]), рассматривает «формулы протяженности» – те риторические приемы, с помощью которых в поэзии последних трех веков (от Ломоносова до Визбора) утверждалось величие России и обозначались ее не столько географические, сколько мифологические границы. И хотя подобные «географические фанфаронады» (П. А. Вяземский) могли вызывать изрядное раздражение современников, без исследования политической риторики такого рода трудно понять эволюцию русской государственной идеологии.
К этой статье примыкает другая работа Е. В. Душечкиной, сосредоточенная на художественном кодировании пространства – «Война: от панорамного видения к крупному плану» (2018 [№ 228]). Здесь Елена Владимировна прослеживает динамику русской батальной образности, намечая основную траекторию ее эволюции от одической поэзии, сплетавшей воображаемые, условно-поэтические и реальные географические ориентиры (когда битва увидена в вертикальной проекции, взглядом сверху), к плоскостному ландшафту, панорамному и «кинематографическому» изображению (когда доминирует точка зрения наблюдателя, расположенного вровень или внизу). Эта работа, написанная в русле «Поэтики композиции» Б. А. Успенского, охватывает широкий круг имен (от Ломоносова, Хераскова и Державина до поэзии Пушкина и Лермонтова и прозы Толстого и Гаршина).
Совершенно иную перспективу открывает статья «Это странное „чу!..“: О междометии чу в русской поэзии» (2006 [№ 145]). Проследив поэтическое употребление этого побудительного междометия на протяжении двух веков, Е. В. Душечкина показывает, как из приметы романтической простонародности (Жуковский) «чу!» со временем превращается в признак пародийности и постепенно из высокой словесности перемещается в литературу для детей и в сферу газетных заголовков. Следует отметить, что в этой статье Елены Владимировны, как и во многих других ее работах, отсутствует оценочно-иерархическое отношение к материалу: газетные и интернет-тексты так же важны и значимы для автора, как и памятники высокой поэзии. По справедливому мнению Е. В. Душечкиной, тот или иной литературный феномен может получить полноценную интерпретацию лишь после того, как будет исследовано его поведение в контекстах, привязанных к различным социальным и эстетическим сферам.
Избегая, как мы уже говорили, ограниченных сюжетов, связанных с творчеством или биографией какого-либо одного писателя, Елена Владимировна тем не менее все время возвращалась к двум литературным фигурам, значение которых для нее как для читателя, вероятно, выходило за рамки заурядного академического интереса. Это Тютчев и Лесков.
Ф. И. Тютчеву в целом посвящено шесть работ Е. В. Душечкиной; некоторые из них перерабатывались и издавались заново. Кроме того, в начале 2000‐х гг. на филологическом факультете СПбГУ ею был прочитан спецкурс о поэте и написана обзорная справочная статья о нем для одной из петербургских энциклопедий (2008 [№ 163]). Первые статьи Е. В. Душечкиной о Тютчеве – анализы отдельных стихотворений – написаны еще в 1980‐х годах. Анализ текста – ведущий тренд в тогдашней филологической русистике – у Елены Владимировны естественным образом решался в структуралистском ключе. Тут не подлежит сомнению влияние ее учителя, Ю. М. Лотмана, и его книги «Анализ поэтического текста: структура стиха» (1972). Образцовые разборы двух коротких стихотворений – «Есть в осени первоначальной…» (1988 [№ 45]) и «Не остывшая от зною…» (1988 [№ 46]) – выполнены по лотмановским канонам, с тесной увязкой всех уровней текста, от фоники до семантики. Отсутствие излишнего формализма и простота изложения при достаточной сложности содержания делали эти статьи прекрасным пособием для студентов-филологов и в качестве такового нередко использовались. Вместе с тем даже в этих имманентных разборах мы видим стремление автора нащупать источники различных приемов, проследить типологию их использования в других литературных текстах.
Иной подход намечен в короткой, почти тезисной работе о технике поэтического видения у Тютчева: «„Строгая утеха созерцанья…“: Зрение и пространство в поэзии Ф. И. Тютчева» (1984 [№ 31]). Попытки свести в определенную систему распространенные у Тютчева мотивы зрения, созерцания, видения и антонимичные им мотивы незримости и слепоты демонстрируют сильную поэтическую интуицию исследователя и меткость многих конкретных наблюдений, хотя (как и любые построения об авторской «картине мира») они открыты методологической критике. Другой и более, на наш взгляд, продуктивный опыт в области поэтики Тютчева – статья «„Есть и в моем страдальческом застое…“: О природе одного тютчевского зачина» (2000 [№ 107]). Ценность статьи, в которой прослеживается употребление инициального предикатива наличия «есть», скорее не в интерпретации этого приема у Тютчева, а в стремлении выйти за границы тютчевского корпуса и наметить варианты употребления этого риторического приема как в предшествующей, так и в последующей поэтической (и не только) традиции.
«Тютчевский цикл» завершают две работы о рецепции творчества поэта в культуре ХХ века. И если статья об использовании тютчевского слова в поэзии Нины Берберовой (2010 [№ 182]) – интересный, но достаточно традиционный интертекстуальный этюд, то небольшой экскурс «О судьбе „поэтической климатологии“ Тютчева» (1999 [№ 99]) уводит нас в область функционирования так называемых «мемов». Описанное и проанализированное Еленой Владимировной употребление расхожих цитат из Тютчева в прогнозах погоды и фенологических заметках – ценнейший материал к размышлениям о массовом культурном каноне и одновременно свидетельство той свободы, с которой по-настоящему профессиональный филолог может варьировать объекты своего исследования и менять регистры их изучения.
В статьях о Лескове, Толстом и Чехове Е. В. Душечкиной удалось совместить традиционный литературоведческий подход – имманентный анализ поэтики и семантики текстов – с попытками реконструировать исторические контексты и жанровые парадигмы, которые ранее оставались за пределами (или на далекой периферии) внимания специалистов. Этот синтетический подход оказался чрезвычайно продуктивным. Так, анализ рождественских и святочных рассказов Лескова в контексте календарной словесности и ее фольклорных истоков позволил Елене Владимировне радикально расширить концептуальный горизонт изучения писателя. Ей удалось объяснить «неправдоподобные» сюжеты Лескова прагматикой текста и игрой с календарным временем и жанровой условностью. Хотя специалисты и ранее интересовались святочными рассказами Лескова, Е. В. Душечкиной принадлежат исключительная заслуга и несомненный приоритет в систематическом изучении календарной словесности как ключа к прозе Лескова. Сравнительный анализ рождественских рассказов Толстого и Лескова – «Из опыта обработки Н. С. Лесковым народных легенд» (2012 [№ 193]) и «Рассказ Н. С. Лескова „Под Рождество обидели“ и полемика вокруг него» (2016 [№ 222]), так же как статья «Болотная топика у Чехова» (2010 [№ 181]), позволяют говорить о том, что календарные жанры приобретали растущую популярность к концу XIX века, обращаясь к такой читательской аудитории, к которой роман не находил дорогу.
Острый интерес Е. В. Душечкиной к внероманной прозе заслуживает особого упоминания. Внимание исследователей русской классики второй половины XIX века по преимуществу и традиционно поглощено романом. Если интерес к другим жанрам, особенно к рассказам, очеркам и стихотворениям, созданным в этот период, и дает о себе знать в научной литературе, то очень часто малые формы воспринимаются (и оцениваются) в перспективе романа – основной лаборатории, где вырабатывалось художественное мышление эпохи. Даже если согласиться с этим подходом (а он вызывает много вопросов), подобная избирательность и иерархичность научного зрения ведет к радикальному обеднению нашего понимания литературы той поры. Работы Елены Владимировны успешно противостоят этой тенденции. По сути, ее статьи – это систематически разработанная (хотя эксплицитно и не заявленная) альтернатива такому редукционному подходу, подразумевающему жанровую дискриминацию. Автор прекрасно демонстрирует исключительно важную роль малых форм в жанровой динамике 1860–1890‐х годов, их гибкость и способность адаптироваться к меняющейся читательской аудитории. Уже в этом состоит огромная исследовательская заслуга Е. В. Душечкиной.
Интерес к затененным литературным явлениям позволил Елене Владимировне предложить свежую интерпретацию традиционных литературоведческих сюжетов, таких как диалог двух писателей. В статье «М. Е. Салтыков и Н. С. Лесков: была ли полемика?» (2016 [№ 221]) исследователя интересует не только обмен образами и идеями (что само по себе важно), но прежде всего объемная картина литературных стратегий и философских ориентаций, которые стоят за диалогом Лескова и Салтыкова-Щедрина. Нюансированное чтение рассказа Лескова «Христос в гостях у мужика» в сопоставлении не только с «былью» Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет» (о чем писали многие), но и с общими для обоих произведений фольклорными источниками позволило Елене Владимировне интерпретировать специфику христианской символики и особенности духовного учительства каждого писателя («Из опыта обработки Н. С. Лесковым народных легенд», 2012 [№ 193]). Как и в своих книгах о святочных рассказах и русской елке, в статьях об отдельных писателях Е. В. Душечкина смело преодолевает межжанровые границы и предлагает свежие интерпретации. Так, она читает рассказ Лескова «Под Рождество обидели» и его публицистическую статью «Обуянная соль» как единый текст, намеренно выстроенный диптих, предлагающий множественность точек зрения на одну и ту же проблему («Рассказ Н. С. Лескова „Под Рождество обидели“» (2016 [№ 222]).
Особенно удается Е. В. Душечкиной жанр «комментированного чтения» рассказов Толстого, Чехова и Лескова. В этих работах удачно сочетаются методологические установки и категориальный аппарат различных направлений гуманитарной науки, что мотивировано изучением смежных с литературой контекстов. Комментированное чтение предполагает пристальное внимание к многозначности и динамике словоупотреблений. В статье «„Изящное“ как эстетический критерий у Чехова» (2016 [№ 219]) Елена Владимировна прослеживает, как понятие изящного утрачивает атрибуты эстетической категории и «превращается в категорический императив». В статье «„Лупоглазое дитя“ в рассказе Н. С. Лескова „Пустоплясы“» (2011 [№ 186]) исследователь связывает визуальный образ загадочного ребенка с изменениями в семантике просторечного в то время эпитета «лупоглазый». И конечно, жанр комментированного чтения оказывается особенно плодотворным при изучении поэзии. В статье «Стихотворение Н. А. Некрасова „Вчерашний день, часу в шестом…“» (1996 [№ 81]) автор не только предлагает многоуровневый анализ поэтики знаменитого восьмистишия и не только вписывает его, вслед за другими исследователями, в некрасовский корпус. Главная заслуга и несомненная ценность статьи – в попытке проблематизировать мнимую ясность стихотворения Некрасова, деконструировать прозрачные, казалось бы, бытовые реалии и вскрыть тургеневский подтекст, усложняющий смысл стихотворения. Как и упомянутые выше разборы стихотворений Тютчева, анализ Некрасова следует академическим стандартам тартуской школы и служит прекрасным пособием для студентов.
При анализе научного наследия Е. В. Душечкиной заметно ее стремление найти свою, особенную сферу исследования и выработать новые подходы к изучаемым проблемам. Но и в тех случаях, когда Елене Владимировне доводилось браться за более традиционные академические темы, читатель ее трудов с благодарностью обнаруживает в них новизну, оригинальность и высокий профессионализм. Для специалистов по русской литературе XVIII–XIX веков знание статей Е. В. Душечкиной – не только ее монографий – давно стало обязательным.
О. Е. Майорова, Н. Г. Охотин
I
ЭТО СТРАННОЕ «ЧУ!..»О МЕЖДОМЕТИИ ЧУ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Речь пойдет о том самом чу, с которым все мы хорошо знакомы с детства по ряду хрестоматийных текстов: «Дорога везде чародею, / Чу! Ближе подходит седой…» (Некрасов) или «Вечер мглистый и ненастный… / Чу, не жаворонка ль глас?..» (Тютчев).
Начну с цитаты из Белинского. Характеризуя реакцию читателей на балладу Жуковского «Людмила», вышедшую в свет в 1808 г., Белинский пишет:
Нам раз случилось слышать от одного из людей этого поколения довольно наивный рассказ о том странном впечатлении, каким поражены были его сверстники, когда, привыкши к громким фразам, вроде: О ты, священна добродетель! – они вдруг прочли эти стихи:
Вот и месяц величавой
Встал над тихою дубравой;
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
<…>
Чу!.. полночный час звучит.
По наивному рассказу, современников этой баллады особенным изумлением поразило слово чу!.. Они не знали, что им делать с этим словом, как принять его – за поэтическую красоту или литературное уродство…307307
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 8. С. 166–167.
[Закрыть]
Оставим в стороне вопрос о том, в какой мере это высказывание Белинского, характеризующее мнение «одного из людей» поколения Жуковского, соответствует действительности. Важно подчеркнуть другое: судя по всему, и Белинский, и читатели 1808‐го, а также следующих за ним годов считали именно Жуковского «первооткрывателем» чу в русской поэзии. И действительно: то, что чу в «Людмиле» привлекло повышенное внимание и что оно стало восприниматься чем-то вроде «визитной карточки» Жуковского, несомненно. Об этом свидетельствует ряд фактов.
1. Как известно, члены общества «Арзамас», присваивавшие друг другу прозвища из баллад Жуковского, наградили прозвищем Чу Д. В. Дашкова, которое закрепилось за ним надолго. В «Арзамасских протоколах», например, содержится запись (датируемая концом января 1818 г.) по поводу отъезда Дашкова советником при русском посольстве в Турции: «Чу в Цареграде стал не Чу, а чума, и молчит»308308
Арзамас и арзамасские протоколы / Предисл. Д. Благого, вводн. ст. М. С. Боровиковой-Майковой. Л., [1933]. С. 264.
[Закрыть]. А Пушкин в августе 1821 г. пишет из Кишинева С. И. Тургеневу: «Кланяюсь Чу, если Чу меня помнит – а Долгорукой меня забыл»309309
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10. С. 30.
[Закрыть].
2. Члены «Беседы любителей российского слова» иронизируют над чу в своих полемических в адрес «Арзамаса» произведениях. Так, А. А. Шаховской в комической опере «Урок кокеткам, или Липецкие воды» вкладывает в уста поэта Фиалкина (пародия на Жуковского) строки, в которых он, Фиалкин-Жуковский, характеризует свои баллады: «И полночь, и петух, и звон костей в гробах, / И чу!.. всё страшно в них; но милым всё приятно, / Всё восхитительно! хотя невероятно!»310310
Стихотворная комедия. Комическая опера. Водевиль конца XVIII – начала века: В 2 т. Л., 1990. Т. 2. С. 120.
[Закрыть]
3. Чу Жуковского становится едва ли не «хрестоматийным» элементом для литераторов романтической ориентации. В. Н. Олин и В. Я. Никонов, например, используют строку из «Светланы» с этим междометием в качестве эпиграфа к газете «Колокольчик» (1831): «Чу!.. Вдали пустой звенит / Колокольчик звонкой»), а А. Н. Глебов включает реминисценцию из той же баллады в стихотворение «Ночной путь»: «Но… чу!.. сквозь сон им колокольчик слышен» (1831) и др.
4. В 1821 г., через тринадцать лет после выхода в свет «Людмилы», И. И. Дмитриев (обычно высоко отзывавшийся о членах арзамасского братства) писал А. С. Шишкову: «Я сам не могу спокойно встречать в их <то есть арзамассцев> поэзии такие слова, которые мы в детстве слыхали от старух или сказывальщиков. Вот, чу, приют, теплится, юркнув и пр. стали любимыми словами наших словесников»311311
Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 402. См. комментарий к этому высказыванию: Виноградов В. В. История слов. М., 1999. С. 871–875.
[Закрыть].
Итак, Жуковский, а вслед за ним и его товарищи по «Арзамасу» утверждаются как поэты, введшие в поэзию чу из языка «старух и сказывальщиков».
А между тем Жуковский употребляет это слово не столь уж часто: 4 раза в «Людмиле», 6 раз в «Светлане» и по одному разу в «Вадиме» и «Деревенском стороже ночью» – итого 12 раз312312
Показательно, что в переводе «Леноры» Бюргера (1831) Жуковский чу не употребляет.
[Закрыть]. Отметим, что из этих четырех произведений два создавались как «русские баллады», одно является балладой на древнерусскую тематику («Вадим») и одно («Деревенский сторож») – русифицированное переложение идиллии И. П. Гебеля, в оригинале написанной не на литературном немецком языке, а на аллеманском наречии. Это дает основание предположить, что чу используется Жуковским в качестве элемента «простонародного» языка.
Но действительно ли именно Жуковский первым ввел чу в поэзию? Даже беглый и далеко не сплошной просмотр стихотворных произведений до-Жуковского периода показывает, что слово это употреблялось в поэзии и ранее. Так, например, в поэме С. Боброва «Херсонида» оно встречается неоднократно: «Чу! там гремит! гремит протяжно!»; «Чу! гул троякий, пятеричный!»; «Чу! Звукнула средь туч!.. но ах!» (1798)313313
Поэты 1790‐х – 1810‐х годов / Вступ. ст. и сост. Ю. М. Лотмана. Л., 1971. С. 136, 139, 140.
[Закрыть] и в его же «Столетней песни»: «Чу! – первый час столетья звукнул!» (1801)314314
Поэты 1790‐х – 1810‐х годов. С. 101.
[Закрыть]. Изредка встречается чу и в текстах других поэтов рубежа XVIII–XIX в. И все же именно чу Жуковского, введенное в романтический контекст с ориентацией на «простонародность», приобретя особую стилистическую окраску, сразу же обратило на себя внимание.
Посмотрим, что же это за слово и чем оно (судя по высказыванию Белинского) могло либо изумлять, либо раздражать, либо приводить в недоумение читателя начала XIX в.
В словарях русского языка, начиная с Академического (первое издание – 1794 г.), происхождение слова чу связывается с древнерусским чюти (чуять). Обычно это слово определяется как междометие с тремя значениями: 1) употребляется для привлечения внимания к каким-нибудь звукам, в значении: слышишь? послушай! 2) употребляется в просторечии в значении вводного слова: видишь ли, знаешь ли; 3) употребляется в просторечии в значении говорят, слышно315315
См., например: Словарь современного русского языка: В 17 т. М.; Л., 1965. Т. 17, стлб. 1140–1141.
[Закрыть].
Ясно, что для нас в первую очередь важно первое из этих значений чу, когда оно, использованное в функции привлечения внимания к какому-либо звуку, может рассматриваться как повелительно-побудительное (императивное) междометие. Именно в данном значении оно обычно и встречается в поэзии. При этом необходимо отметить, что, во-первых, в толковых словарях это значение чу никогда не сопровождается пометой простореч., и во-вторых, всегда иллюстрируется примерами из художественных текстов (в подавляющем большинстве случаев – стихотворных). В новейших толковых словарях чу иногда характеризуется с пометой разг. (без примеров)316316
См.: Новый толково-словообразовательный словарь русского языка / Под ред. Т. Ф. Ефремовой. М., 2000; Ефремова Т. Ф. Толковый словарь: https://www.efremova.info/letter/+chu.html.
[Закрыть], хотя в современном разговорном языке оно не употребляется. Никому и в голову не придет сказать, например: «Чу, поезд прогремел!» или же «Чу! Свисток раздался!», а услышавшие такое тотчас ощутили бы нелепость и комичность фразы или же ее поэтическую цитатность. Но может быть, чу в значении привлечения внимания к какому-либо звуку просто перестало употребляться в современном языке? Однако в словарных статьях оно никогда не имеет помету устар. А если данное употребление чу диалектное, то почему опять-таки отсутствуют на это указания?
Создается впечатление, что чу в значении привлечения внимания к чему-либо, действительно, пришло в поэзию из просторечья, хотя в литературной практике и культурной памяти закрепилось только как поэтическое.
Попробуем определить, в каких ситуациях обычно появляется чу в стихах.
Прежде всего скажем о его ритмической позиции. В подавляющем большинстве случаев чу стоит в начале стихотворной строки. (Одно из немногих исключений из Пушкина: «Вот взошла луна златая, / Тише… чу… гитары звон… / Вот испанка молодая / Оперлася на балкон».) В балладном хореическом стихе Жуковского чу начинает строку сильным, ударным слогом: «Чу! Совы пустынной крики!»; «Чу! В лесу потрясся звук»; «Чу! В глуши раздался свист!» и т. п. В ямбическом стихе, где первый слог находится в слабой позиции, чу, стоящее вначале строки, приобретает сверхсхемное ударение («Чу! Слышишь, как кричит?.. ну, брат, какой певец!» [А. Измайлов]; «Чу!.. петухи пропели!» [Батюшков]; «Чу!.. что-то глухо прозвенело» [А. Майков]; «Чу – дальний выстрел! Прожужжала / Шальная пуля… славный звук…» [Лермонтов]; «Чу! Близкий топот слышится… / А! Это ты, злодей!» [Лермонтов]) и от этого звучит еще сильнее.
На второй слог в ямбическом стихе чу обычно попадает после противительного союза «но»: «Но чу… Там пруд шумит…» (Жуковский); «Но чу!.. идут – так! Это друг надежный…» (Пушкин); «Но чу! – к воротам кто-то подъезжает» (Лермонтов); «Но – Чу! – звонок. Она вздрогнула…» («Лука Мудищев»)317317
Цит. по: Под именем Баркова: Эротическая поэзия XVIII – начала XIX века / Изд. подгот. Н. Сапов. М., 1994. С. 257.
[Закрыть]; «Но чу… Там пушка грянула» (А. К. Толстой); «Но чу! Кто-то робко ударил в тимпан» (Фет); «Но чу!.. Опять сомнение!..» (Полонский).
Ощущается некая смысловая связанность чу именно с этим союзом: другие союзы в позиции перед чу не встречаются. Введением этого междометия как бы проводится граница между тем, что было в тексте до чу, и тем, что появляется после него. И союз «но» способствует усилению противопоставления между двумя этими состояниями: до и после чу.
Оказавшись в сильной позиции начала стихотворной строки, почти всегда выделенное восклицательным знаком или восклицательным знаком с многоточием, нередко стоящее после противительного союза «но», чу, таким образом, не только разбивает фразу (ритмически, синтаксически, пунктуационно), но и является сильнейшим интонационным ударом, отделяющим предшествующее ему повествование от последующего. Эта исключительная позиция чу как бы отражает потрясение и субъекта речи (повествователя), и объекта речи (персонажа или персонажей), и читателя. Для баллады (как для лиро-эпического жанра) такое чу оказывается весьма подходящим и порождает вопрос: а кто, собственно, его произносит? Автор, призывающий прислушаться к звуку? Или же сам лирический герой этим чу предощущает сразу же за ним следующее оповещение о звуке? Ведь чу стоит в тексте до информации о произведенном, а следовательно и услышанном звуке, как бы предваряя его и предупреждая о нем. Поэтому речь здесь может идти именно о предчувствии: чу – это призыв прислушаться к тому, что только что произошло, но еще не зафиксировано сознанием и проявляется лишь в спонтанно вырвавшемся междометии.
Художественный мир до того момента, как в тексте появляется чу, обычно спокоен, уравновешен и (что важно) – беззвучен. В большинстве случаев – это мир природы. После введения чу в этом беззвучном мире возникает какой-то звук, резко контрастирующий с предшествующей ему тишиной. В этом отношении пример из «Людмилы», приведенный Белинским, весьма показателен и, так сказать, классичен: «Бор заснул, долина спит. / Чу!.. полночный час звучит».
Не зря именно эту цитату из «Людмилы» (как всегда, бесподобно) обыгрывает Гоголь в «Мертвых душах»: «Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть „Людмилу“ Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостью, и мастерски читал многие места, особенно „Бор заснул, долина спит“ и слово „Чу!“, так что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза»318318
Гоголь H. B. Собр. художественных произведений: В 5 т. М., 1960. Т. 5. С. 223.
[Закрыть].
С той же тишью перед появлением чу встречаемся в «Светлане» («Всё в глубоком мертвом сне, / Странное молчанье… / Чу, Светлана!.. в тишине / Легкое журчанье…») и в 5 главе «Евгения Онегина» («Морозна ночь, всё небо ясно; / Светил небесных дивный хор / Течет так тихо, так согласно… / <…>/ Чу… снег хрустит… прохожий; дева / К нему на цыпочках летит…» В стихотворении Никитина «Буря» (1854) сначала воссоздается беззвучный мир природы (затишье перед бурей), после чего следует предупредительное, нарушающее спокойствие чу: «Чу! Пáхнул ветер! Пушистый тростник зашептал, закачался…»; то же у А. Майкова: «Ушли и зала уж темна, / Огни потухли… Тишина… // Чу! Что-то глухо прозвенело / Во тьме близ сцены опустелой…» Так же вводится это междометие в некрасовском «Морозе Красном носе» («Деревья, и солнце, и тени, / И мертвый, могильный покой… / Но – чу! заунывное пенье, / Глухой, сокрушительный вой»), в поэме Полонского конца 1840 гг. «Братья» («Лежит покой, на всю свою дремоту / Кладет тоска, и тих семейный дом. / Но чу!.. звонок!.. и вот покой нарушен… / Кто там? – Курьер с пакетом. / Что за вздор!») и во многих других произведениях.
Однако бывает и иначе: в равномерное или привычное звучание после энергичного предупреждения (Чу!) вторгается какой-то другой, более сильный или необычный звук. В таких ситуациях чу является знаком появления этого незнакомого, часто тревожного звука, нарушившего прежний звуковой фон: «В душном воздухе молчанье, / Как предчувствие грозы, / Жарче роз благоуханье, Звонче голос стрекозы / Чу! За белой дымной тучей / Глухо прокатился гром» (Тютчев). В воздухе молчание, но стрекот стрекозы все-таки слышен. Аналогично нарушение звуковой статики в «Крестьянских детях» Некрасова: «Вчера, утомленный ходьбой по болоту, / Забрел я в сарай и заснул глубоко. / Проснулся <…> / Воркует голубка; над крышей летая, / Кричат молодые грачи, / <…>/ Чу! Шепот какой-то…» То же у Блока: «Он не весел – твой свист замогильный… / Чу! Опять… бормотание шпор…» (1911).
Показательны не только обстоятельства и условия, в которых поэты прибегают к чу, но и данные о том, кто из них чаще использует это междометие, а кто его совершенно игнорирует. В нашей (далекой от полноты) «поэтической коллекции» чу «рекордсменом» оказался Некрасов (свыше 60 употреблений). За ним в порядке убывания следуют Полонский, Лермонтов, Жуковский, Пушкин, А. Майков, Фет, Никитин. У других поэтов первой половины и середины XIX в. чу используется однократно. Первенство Некрасова с его подчеркнутой ориентацией на народный разговорный язык вполне понятно: чу, конечно же, было для него в первую очередь одним из способов создания в стихе разговорной интонации и принципиально отлично от чу Жуковского. Понятна и литературность этого некрасовского чу, его, так сказать, некоторая надуманность, маркированность, причем у Некрасова это междометие встречается как в его «деревенской», так и в «городской» поэзии: «Чу! Стучит проезжающий воз, / Деготьком потянуло с дороги…» («Рыцарь на час»); «Чу! Клячонку хлестнул старичина…» («Балет»); «Чу! Рыдание баб истеричное!» («О погоде») и пр.
Ни одного чу не встретилось нам в стихах Вяземского и Баратынского, что также объяснимо: эти поэты сознательно дистанцировали себя от «простонародного» языка, и потому данное междометие было для них неприемлемым. Однако и у Плещеева нет чу и даже у Кольцова, от которого, казалось бы, как от естественного носителя народного языка, каким он обычно представляется, можно было бы ожидать обильного его использования. Эти факты, на наш взгляд, служат еще одним свидетельством литературности чу, причем литературности, сознательно ориентированной на разговорный народный язык. Получается парадоксальная ситуация: междометие, пришедшее в литературу из языка «сказывальщиков», становится приемом создания «простонародного» колорита; поэты же действительно вышедшие из народа это междометие игнорируют.
«Отработанность» и манерность междометия чу в поэзии начали ощущаться уже к середине XIX в., что сразу же проявилось в пародийном его использовании Козьмой Прутковым. В иронической стилизации «Желание быть испанцем» (1854) чу появляется в обычной для этого междометия ситуации (возникновение нового звука), но при этом поставлено в конец стиха и даже в рифму, чего до тех пор с чу никогда не случалось: «Шорох платья, – чу! – / Подхожу я к донне, / Сбросил епанчу…»319319
Возможно, это стихотворение является, в частности, пародией на пушкинское: «Ночной зефир…»; на эту мысль наводит не только появление чу в необычной для него позиции («Тише… чу… гитары звон…» и «Шорох платья, – чу!»), но и ряд других тематических перекличек.
[Закрыть]
Неудивительно, что к концу XIX в. употребление чу заметно сокращается. В это время оно встречается преимущественно в детской и массовой поэзии, как, например, в стихотворении Д. Михаловского «Два друга» («Как волков голодных стая, / Буря воет за окном. // Чу!.. не слышит ли он крика? / «Право слово – чей-то крик!» [1880‐е гг.]); в «Елке» Р. Кудашевой («Чу! снег по лесу частому под полозом скрипит…» [1903]); в народной песне «Варяг» («Мечутся белые чайки, / Что-то встревожило их… / Чу! Загремели раскаты / Взрывов далеких, глухих») и т. п. текстах. Не исчезает полностью чу и из «высокой» поэзии. Одноразово оно используется многими поэтами конца XIX – начала XX в.: М. Лохвицкой («Чу!.. Летит он!.. слышу свист его, / Вижу очи искрометные» [1891]); Блоком («Чу! По мягким коврам прозвенели / Шпоры, смех, заглушенный дверьми…» [1911]); Клюевым («Чу! Перекатный стук на гумнах…» [1913]); Хлебниковым («Чу, опять пронесся, снова, / Водяного рев бугая» [1919–21]). И наконец, попадается чу в юмористических стилизациях, как, например, в стихотворной подписи П. Потемкина к рисунку С. Судейкина, на котором изображено девичье святочное гадание на зеркале (с явной отсылкой к «Светлане» Жуковского): «Где ты, милый дорогой?! / Чу, как будто потускнело / На миг светлое стекло…»320320
Новый Сатирикон. 1915, 1 янв. № 1. С. 7.
[Закрыть]
Игнорирование чу в послереволюционную эпоху, кажется, не требует объяснения. Однако это междометие вовсе не было забыто. Оно встречается в творчестве обериутов (что, видимо, вызывалось их интересом к игровым языковым приемам и стилизациям) как, например, у А. Введенского в стихотворении «Суд ушел»: «Но чу! Слышно музыка гремит / Лампа бедствие стремит / Человек находит части / Он качается от счастья» (1930). А позже при чрезвычайной редкости употребления междометие чу превращается в поэтический архаизм, как в стихотворении Сергея Петрова 1940 г.: «Чу! мгновения глухие / сонно сыплет тишина, / точно капельки сухие / Сорочинского пшена»321321
http://www.vekperevoda.com/books/spetrov-selected/chu_mgnoveniya_gluhie.htm.
[Закрыть].
Со временем у этого междометия появляются новые художественные функции. Так, весной 1965 г. название «Чу!» было дано самиздатскому машинописному журналу, составленному Марком Барбакадзе и вышедшему в 15 машинописных экземплярах. Журнал включал в себя стихотворения Л. Губанова, В. Батшева, В. Алейникова и Ю. Кублановского. В сообщении о нем Л. Поликовская пишет, что один из его экземпляров хранится в архиве Бременского института Восточной Европы (Германия)322322
См.: http://antology.igrunov.ru/60-s/periodicals/chu/.
[Закрыть], однако сотрудник архива Г. Г. Суперфин опроверг эту информацию. По моей просьбе Г. Г. Суперфин связался с некоторыми авторами «Чу!», чтобы узнать, почему журналу было дано такое название. Один из них ответил, что на титульном листе после названия в качестве эпиграфа следовала цитата из стихотворения Хлебникова с чу, но чтó это была за цитата, он не вспомнил. Второй отверг информацию первого («Да какой там Хлебников!»)323323
Сердечно благодарю Г. Г. Суперфина за отзывчивость.
[Закрыть]. Третий по этому поводу так ничего и не смог вспомнить.